Книга: Мусульманский Ренессанс
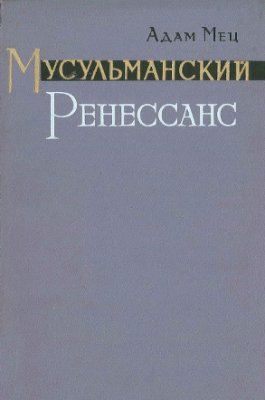
Мусульманский Ренессанс
Книга швейцарского востоковеда Адама Меца посвящена истории культуры арабского халифата III-IV вв. хиджры (IX-X вв. н.э.). Ограничив свою работу рамками этих двух столетий, автор самым тщательным образом изучил огромное количество источников, выбрав из них все, что, по его мнению, служило культурно-исторической характеристике эпохи. Как считают специалисты, книга А. Меца представляет собой именно свод материалов, раскрывающих разные стороны исторического и культурного развития «арабской империи» IX-X вв. н.э. Наряду со сведениями о законоуложениях, об управлении и финансовой политике, о системе налогов автор рассказывает о духовной культуре, об образе жизни людей в те далекие времена, о литературе, нравах, религии, системе образования, описывает праздники, городскую жизнь, ведение хозяйства и торговли, даже речное и морское судоходство.
Огромное количество фактического материала и детальный показ различных сторон жизни той важной эпохи объясняют значение этой книги в востоковедной науке, в истории изучения народов Востока.
Значительная часть историков второй половины XIX в. в той или иной мере была связана с так называемой школой Леопольда Ранке («объективная школа»). Ее основатель Л. Ранке (1795—1886) разработал новые приемы исследования истории, с которыми познакомились в его семинарах несколько поколений историков. Начав свой путь в науке, как и его предшественники, с изучения исторических сочинений XV-XVI вв., он вскоре оставил их и обратился к документальным источникам. Работая над ними, Л. Ранке пришел к убеждению, что девизом историка должен быть лозунг «Назад к источникам!». Появление его первого труда[1] произвело своего рода переворот в науке, так как Ранке предлагал в нем новую методику научного исследования взамен распространенных ранее, лишенных критики компиляций из древних исторических сочинений. Стремление Л. Ранке опереться только на наиболее надежные источники, которыми он признавал лишь исторические документы,— и сильная и слабая сторона его метода; оно неизбежно приводило к сужению исторического кругозора. Ранке сводил все изучение прошлого к политической истории. Проповедуя «объективность», Ранке на самом деле был представителем официальной немецкой исторической школы, с ее национальной ограниченностью, тяготением к «европеизму» и пр.[2]
Через семинар Л. Ранке прошел известный историк XIX в. Якоб Буркхардт (1818—1897), скоро, однако, выступивший с критикой своего учителя[3]. Возражая против сосредоточения внимания на политической истории, Я. Буркхардт выдвигал на первый план историю духовной и материальной культуры человечества[4]. Широко известны труды Я. Буркхардта об итальянском Ренессансе, в которых он заложил основы течения в исторической науке, получившего название «ренессансизм». При ряде прогрессивных черт направление Буркхардта не вышло, однако, за пределы буржуазного либерализма.
Адам Мец был членом кружка молодых ученых, группировавшихся в 90-х годах прошлого века вокруг Ф. Дюмлера[5], одного из последователей Буркхардта. Авторитет этого ученого оказал несомненное влияние на А. Меца[6], отдавшего многие годы своей жизни изучению «мусульманского Ренессанса». В работе А. Меца в известной мере сказалось и следование методу «школы Ранке». Придерживаясь основной линии метода этой школы, хорошо сформулированного одним из учеников Ранке Г. Вайцем: «…историк должен стремиться лишь к голой правде, лишенной всяких украшений и всяких выдумок даже в малейшем»[7], А. Мец стремится избегать субъективной оценки тех или иных фактов, ограничиваясь описанием их, привлекая всякий раз свидетельства основательно изученных им источников, зачастую сопоставляя их данные. Таким образом А. Мец дает в руки востоковедам прекрасный строительный материал. Для этого ему пришлось проделать титаническую работу: отыскать этот материал, извлечь его на поверхность, свести воедино, что само по себе совершенно несравнимая заслуга.
Если А. Мец и не выдвинул самостоятельной исторической концепции, то он все же отнюдь не следовал слепо за Ранке и Буркхардтом, которые, например, полностью игнорировали экономические процессы. В книге А. Меца экономической жизни арабского халифата IX-X вв. уделено значительное внимание (гл. 8, 21, 22, 24-29)[8].
Академик И.Ю. Крачковский писал, что единственным опытом общего обзора мусульманской культуры был в то время двухтомный труд Кремера[9]. Однако эта ценная для своего времени работа порождена была тем периодом в науке, когда «недостаток материала и слабая его разработанность искупались большой смелостью в широких обобщениях и построениях». Упоминая далее книгу А. Меца, который, по его мнению, подражал А. Кремеру, И.Ю. Крачковский отмечает, что Мец «ограничил свою задачу и территориально и хронологически»[10].
При этом, в отличие от своего предшественника, А. Мец смог дать весьма детальную характеристику самых разных сторон жизни мусульманского мира в тот период, который был лучше всего освещен историческими источниками.
Ценность труда А. Меца засвидетельствована временем: как показало развитие науки, без обращения к нему не обошлось, да и сейчас не обходится, ни одно исследование истории и культуры народов мусульманского Востока.
* * *
Христиан Адам Мец родился 8 апреля 1869 г. в небольшом баденском городе Фрейбурге. В востоковедение он пришел не сразу: сначала занимался юриспруденцией, затем богословием и лишь позднее обратился к изучению восточных языков. Значительную роль в этом сыграло его знакомство с известным арабистом Теодором Нёльдеке, а также его путешествия по Востоку. Начав с изучения семитологии, А. Мец затем концентрирует свое внимание на средневековом арабском Востоке. Будучи человеком высокоодаренным, талантливым педагогом, А. Мец, как вспоминал его ученик Я. Вакернагель, «был хорошо известен в своем городе, но за его пределы имя А. Меца не выходило, а объяснялось это тем, что за 25 лет своей научной деятельности он опубликовал очень мало работ»[11]. «Мусульманский Ренессанс» — последняя работа А. Меца, плод трудов всей его жизни, и благодаря ей имя этого ученого вошло в историю востоковедения.
А. Мец умер в декабре 1917 г., не завершив своего труда. Перед издателем рукописи А. Меца Рекендорфом стояла очень трудная задача: после смерти автора осталась не законченная им машинописная копия первоначального текста с многочисленными вставками, вычеркнутыми строками и многими другими правками и дополнениями. С этой копии еще при жизни А. Меца была изготовлена еще одна машинописная копия, но просмотреть ее и выправить автору уже не удалось. Книга была издана по этой второй копии, а корректура правилась с учетом первой. Таким образом, «последней шлифовки автора» книга Меца не получила, писал в своем предисловии Рекендорф.
Книга А. Меца вышла в свет в 1922 г., и уже вскоре после ее опубликования стали появляться переводы труда А. Меца.
Бесспорной заслугой переводчика является большое число сделанных им примечаний-дополнений (многие из них использованы в нашем переводе). Однако, к сожалению, приходится отметить, что английский перевод изобилует ошибками и опечатками. Число их столь велико, что делает опасным пользование этим переводом (зачастую более доступным, чем немецкий оригинал, ставший библиографической редкостью)[13].
В начале тридцатых годов в Гренаде была начата работа над переводом работы А. Меца на испанский язык. Испанский перевод вышел в свет в 1936 г.[14]
В 1939 г. в турецком научно-популярном журнале «Улькю» начал печататься перевод книги Адама Меца на турецкий язык, выполненный Джемалем Кёпрюлю; он был закончен в 1941 г.[15] Обращает внимание тот факт, что переводчик дал свои заглавия каждой части перевода, тематически объединив их в характерной для того времени в Турции тенденции. Так, первый отрывок перевода назван: «Ученые в тюркоисламском мире» и т.д.[16]
В 1940—1941 гг. в Египте вышел двухтомный арабский перевод книги А. Меца[17], выполненный Мухаммадом ‘Абд ал-Хади Абу Рида. Появление этой книги вызвало такой интерес в арабских странах, что вскоре возникла необходимость второго издания. Во время работы над русским переводом оба издания обнаружить в наших библиотеках не удалось. Не так давно автор этих строк получил из Багдада ценный подарок — второе издание арабского перевода книги А. Меца[18].
Арабский перевод предварен введением Ахмада Амина и предисловиями переводчика к первому и второму изданиям.
Ахмад Амин считает основным достоинством книги использование автором большого количества источников при минимальном личном вмешательстве. Вместе с тем он обращает внимание на ряд недостатков книги А. Меца, указывая, в частности, что в некоторых случаях автор опирался только на один источник.
А. Амин предложил переводчику восстановить цитируемые Мецом выдержки из арабских авторов по оригиналу (т.е. по арабским источникам, а не в переводе с немецкого). Это было нелегко исполнить, так как Мец цитировал десятки арабских рукописей из разных хранилищ Европы. Тем не менее переводчик взял на себя этот огромный труд. Ему удалось разыскать все цитированные места и попутно исправить некоторые неточности. Кроме того, он добавил 66 своих примечаний, призванных помочь обращению к арабским рукописям.
После смерти известного французского арабиста Л. Берше (1889—1955) в его архиве была обнаружена рукопись французского перевода этой книги. Перевод был сделан совместно с Леконтом[19].
Появление книги А. Меца вызвало, разумеется, отклики и суждения ряда ученых. Первая рецензия на труд А. Меца появилась уже через год после выхода его в свет[20]. Ее автор, востоковед К. Беккер, лестно отозвавшись о личности покойного А. Меца, отмечал, что его книга всегда будет кладезем знаний и без нее не сможет обойтись ни одно исследование по вопросам культуры эпохи халифов.
В 1925 г. была опубликована любопытная рецензия Р. Гартмана[21], автор которой называет книгу А. Меца «образцом аналитического метода в исторической науке», превозносит «самоотверженную объективную деятельность» историка — в полном соответствии с воззрениями «школы Ранке». В том, что такой огромный по объему материал для истории культуры одного из важнейших (а по Мецу —самого важного) периодов истории мусульманского мира,— писал Гартман,— собран воедино и выносится на суд читателя без всевозможных толкований и трактовок, и заключена большая и непреходящая заслуга книги».
Сопоставляя труд А. Меца с упоминавшейся книгой А. Кремера, Р. Гартман заключает, что эти два труда резко противоположны друг другу. Кремер, по его мнению, с поразительной отвагой и с незаурядными для своего времени познаниями нарисовал общую картину культуры халифата на протяжении всего его существования. А. Мец, ограничив свою работу приблизительно двумя столетиями, дал огромное, изобилие отдельных заметок, рожденных тщательным изучением источников.
Во время работы над переводом нами была обнаружена неопубликованная рецензия академика И.Ю. Крачковского на испанский перевод книги А. Меца[22]. В ней И.Ю. Крачковский отмечает, что труд А. Меца хорошо известен в кругах специалистов, «но все же, как кажется, не вполне еще оценен» (л. 1). Называя труд А. Меца классическим сводом материалов, И.Ю. Крачковский пишет: «Дальнейшая разработка его должна идти не столько вширь, сколько вглубь, путем монографического исследования тем, сгруппированных в отдельных главах, или путем разработки отдельных вопросов. Сделать в дальнейшем здесь предстоит многое, и пример двенадцатой главы об ученых той эпохи, дополненной В. Бартольдом, может служить хорошим образцом» (л. 2).
Совершенно иной характер носит статья академика В.В. Бартольда, которую можно лишь условно считать рецензией на книгу А. Меца[23]. Назвав свою статью «Ученые мусульманского „ренессанса“», Бартольд ограничился анализом двенадцатой главы книги А. Меца. Признавая бесспорные заслуги автора, он, со свойственной ему эрудицией, критически подошел к материалу рассматриваемой им главы и в сущности написал блестящее самостоятельное исследование. Вместе с тем автор статьи показал, как надо пользоваться книгой А. Меца, пояснив, что собранный в таком сводном труде материал следует проверять и дополнять данными источников, которыми ученый по разным причинам не мог воспользоваться. В. Бартольд справедливо предсказал, что книга А. Меца, вероятно, вызовет дальнейшие исследования затронутых автором вопросов.
Говоря о сочинении А. Меца, необходимо остановиться также и на заглавии книги. Почему автор назвал ее «Мусульманский Ренессанс» (буквально — «Ренессанс ислама»), о каком Ренессансе в исламе можно говорить?
Как уже было сказано, автор не успел окончательно подготовить рукопись своего труда к печати; не было написано и предисловие, возможно разъяснившее бы заглавие. Однако, по воспоминаниям современников, посвященных в работу А. Меца, автор на вопрос, почему он так назвал свой труд, лишь пожимал плечами.
Нераскрытое заглавие книги, пожалуй, и побудило всех, кто когда-либо писал о книге А. Меца, вплоть до наших дней[24], в той или иной мере попытаться истолковать его.
Рекендорф, издатель книги А. Меца, объясняя заглавие в своем предисловии к книге, обращает внимание на начало гл. 18, где встречается термин Ренессанс (стр. 230). Правда, это единственный случай употребления этого термина. По мнению издателя, некоторое разъяснение можно найти также в начале гл. 14 (стр. 179) и гл. 12 (стр. 147)[25]. Ясно, во всяком случае, одно, заключает Рекендорф, в этом труде Мец описывает глубокие изменения в культурной жизни «мусульманской империи» IV в.х. (X в.), причины, вызвавшие эти изменения, и их дальнейшую судьбу. Немаловажной для А. Меца проблемой было прослеживание связей ислама с античностью.
К. Беккер в упомянутой выше рецензии также обратил внимание на заглавие книги. Он писал, что Мец, как и его предшественники, рассматривал культуру ислама с позиций Запада. Заглавием своей книги, он, очевидно, намекал — прямо автор об этом нигде не говорит,— что ислам принял свой окончательный вид под влиянием древних неарабских элементов — чаще всего элементов эллинизма,— которые в III-IV/IX-X вв. наполняли все области материальной и духовной жизни Передней Азии. Мец переоценил чисто эллинистическое влияние, считает Беккер, ибо персидская традиция играла не меньшую роль, хотя и она в известной степени испытала на себе влияние эллинизма.
С другой стороны, писал К. Беккер, вопросы культа, догматики и права выросли на почве христианско-античной традиции. При чтении книги А. Меца не следует также упускать из виду, что арабская цивилизация III-IV/IX-X вв. возникла не внезапно, а в результате развития двух первых веков мусульманства, подготовивших этот расцвет культуры ислама.
Совершенно по-иному трактует «отважное и рискованное» заглавие труда А. Меца другой рецензент, Р. Гартман. Он считает, что для А. Меца IV/X век — время, когда доисламские культурные традиции Востока, почти двести лет оттесненные на задний план завоеваниями арабов и принесенной ими религией, теперь вновь обретают силу, иногда в противоборстве, иногда в компромиссе с исламом. Такова, по мнению Р. Гартмана, расшифровка названия «Мусульманский Ренессанс».
Мысль, высказанная Р. Гартманом, бесспорно заслуживает внимания, хотя несколько дальше он предлагает опустить слово «Ренессанс», ибо заглавие это «не придает особой ценности книге» и является «малоудачным».
Более основательно подошел к вопросу названия книги А. Меца академик В.В. Бартольд в упоминавшейся выше статье. Общим признаком европейского Ренессанса и расцвета мусульманской культуры, считал он, было возрождение греческой науки. Здесь следует подчеркнуть, что В.В. Бартольд, проводя эту параллель, ставит в один ряд «европейский Ренессанс» и «расцвет мусульманской культуры», считая эти явления в какой-то мере сопоставимыми. Но, несмотря на это сопоставление, термин «Ренессанс» в заглавии книги А. Меца, по мнению Бартольда, может вызвать некоторые недоразумения: ведь в буквальном переводе это слово означает «возрождение». О каком же «возрождении ислама» может идти речь? В.В. Бартольд считает, что книгу лучше было бы назвать «Возрождение в мире ислама», и для убедительности приводит заглавия широко известных трудов по истории европейского Ренессанса. Правда, он тут же оговаривается, что при современном состоянии науки (курсив мой.— Д.Б.) не принесло бы пользы спорить о том, «насколько велики черты сходства между европейским Ренессансом и мусульманским культурным расцветом», может ли понятие «Ренессанс» быть применено к мусульманскому миру. После всего этого В.В. Бартольд писал, что, может быть, и прав К. Беккер, заявивший в своей рецензии на книгу А. Меца, что было бы несчастьем, если бы под воздействием этой книги «получил слишком широкое распространив взгляд на соответствующие века мусульманской эры, как на эпоху „Ренессанса“, со всеми признаками, которые обычно вкладываются в это понятие». Такая аналогия невозможна, ибо в мусульманской истории не было многовекового господства варварства, увлечение античным миром никогда не достигало такого размаха, как это было в Европе, никогда не было и презрения к далеким временам, прозванным в Европе «вандализмом», писал далее В.В. Бартольд. Однако, напоминал Бартольд, нельзя не отметить, что в эпоху расцвета мусульманской культуры существовала известная доля преклонения перед наукой древних— ‘илм ал-ава’ил или ‘улум ал-ава’ил[26].
Пробовал объяснить причину заглавия книги А. Меца и Д. Марголиус в своем предисловии к английскому переводу. Он считал, что это заглавие, а особенно слово «Ренессанс», вызывает ассоциации, отнюдь не соответствующие теме книги. В приложении к «христианской Европе» это слово означает «восстановление чего-то утраченного», возвращение классического (т.е. античного) искусства, литературы и науки, которыми пренебрегали на протяжении «темного средневековья». Однако составляющие предмет исследования Адама Меца институты, писал Д. Марголиус, были не столько вновь открыты, сколько впервые введены. Что же касается существования древней высокой цивилизации в Южной Аравии, подтвержденной археологическими открытиями в этой части полуострова, то эта цивилизация, по мнению Д. Марголиуса, едва ли служила источником нововведений в мусульманской империи.
По мнению современного немецкого арабиста Иоганна Фюка (ГДР), в качестве основного признака культурного развития рассматриваемого А. Мецем отрезка времени выступает возрождение доисламской, и в первую очередь эллинистической, линии развития. Правда, эта теория, предупреждает он, не играет заметной роли в его книге, но на ней лежит доля ответственности за заглавие книги, на которое автор не без колебаний решился[27].
В одной из своих работ академик И.Ю. Крачковский между прочим писал: «Посмертное сочинение безвременно скончавшегося А. Меца дает общую картину IV века хиджры, который автор с полным правом (курсив мой.— Д.Б.) назвал веком „возрождения ислама“. При этом автор старался показать и те скрытые пружины, которые в предшествующем столетии во многом способствовали развитию определенных сторон культуры „возрождения“»[28]. Мнение выражено в достаточной мере определенно, однако в другой работе И.Ю. Крачковского сказано следующее: «Десятый век (IV в. хиджры) — эпоха окончательного распада халифата, но в то же время эпоха высшего расцвета арабской культуры — „Ренессанс ислама“, по сбивчивому названию (курсив мой.— Д.Б.) одного из ученых (Меца)»[29].
Можно ли сейчас ответить на вопрос, почему А. Мец дал именно такое заглавие своей книге?
По установившейся в науке традиции, под термином «Ренессанс» («Возрождение») понимают возрождение классической древности. Этим термином, введенным в научный обиход еще в середине XVI в. Джорджо Вазари[30], обозначали, например, эпоху XIV-XV вв. в истории Италии, ту великую эпоху, «которую, — писал Ф. Энгельс, — мы, немцы, называем… Реформацией, французы — Ренессансом, а итальянцы — Чинквеченто и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований»[31]. Несмотря на все, что написано о Ренессансе и пишется до сих пор, проблема эта продолжает оставаться наиболее противоречивой, особенно в европейской исторической науке.
За последнее время этим термином все чаще обозначают не только возрождение греческой культуры, но и вообще древней культуры в отдельных странах Востока или на Востоке в целом. Называют Возрождением и вообще подъем культуры и, наконец, в особом значении — культурный переход, связывающий средние века и новое время[32].
Вопрос о Ренессансе на Востоке стал рассматриваться советской наукой сравнительно недавно, сейчас проблемы восточного Возрождения в той или иной мере исследуются нашими востоковедами, историками и литературоведами[33]. В этом ряду следует остановиться на двух работах профессора В.М. Штейна[34]. Хотя автор и отрицает наличие Ренессанса на Востоке, «потому что там не было упадка, не было мертвечины, связанной со схоластикой», признавая, правда, вклад Востока в эпоху европейского Ренессанса, но самой постановкой вопроса и обилием приводимого материала, как нам кажется, подтверждает обратное.
Упоминая между прочим и книгу А. Меца, В.М. Штейн считает, что ее автор «придерживался обычной точки зрения, согласно которой Ренессанс прежде всего означает воскрешение элементов античной культуры, с ее ярким реализмом, гуманизмом и т.д.»[35]. Этой концепции автор статьи противопоставляет диаметрально противоположную концепцию Р. Фрая[36], утверждавшего, что политический и культурный Ренессанс в Иране и Средней Азии достиг апогея в X в., и отождествлявшего тем самым Ренессанс со всяким культурным подъемом, отодвигая на задний план греческую культуру и науку.
По мнению академика Н.И. Конрада, «Возрождение» есть процесс, характерный не только для Европы, но представляющий собой «проявление общей закономерности исторического процесса», обязательно наступающего в определенный момент исторического развития народов «великих цивилизаций». Эпохи Ренессанса, как показывает всемирная история, возникали у народов «с длительной, непрерывно развивающейся и продолжающейся и в наше время исторической жизнью и культурой»[37].
Проблема Ренессанса на Востоке требует еще самого тщательного исследования развития социально-экономических формаций всех стран и народов Востока. Только тогда можно будет дать четкое определение тем закономерностям развития, которые вызывают Ренессанс. Изучение же «восточного Ренессанса» только в плане истории культуры, в отрыве от социально-экономических условий развития общества заранее обречено на неудачу[38].
Выше приводились слова Ф. Энгельса о том, что ни одно из наименований эпохи Возрождения не исчерпывает ее содержания[39]. Помимо возрождения, т.е. восстановления чего-то утраченного, старины, античности, эпоха эта характеризуется развитием городов — центров ремесла и торговли, появлением городских сословий, бурным развитием общественной и культурной жизни в городах и, наконец, нарождением интеллигенции как из среды феодалов, так и из народа. Выдающиеся умы той эпохи, писал Ф. Энгельс, «…почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе»[40]. Внимательное изучение эпохи расцвета позволяет обнаружить порой совершенно неожиданное и крайне сложное переплетение элементов прогрессивного с консервативным, демократического с аристократическим.
Так было на Западе, об этом же, в известной мере, говорят и факты на страницах книги А. Меца.
Исследование проблемы Ренессанса у разных народов Востока, сопоставление с эпохами Возрождения в странах Запада, в сущности еще только начатое, обогатит историческую науку новыми открытиями[41] и бесспорно поможет устранить указанную еще Ф. Энгельсом неопределенность термина, наполнить его новым, научно обоснованным содержанием. Книга А. Меца при исследовании этого вопроса послужит источником ценного фактического материала.
* * *
Предлагаемый вниманию читателей русский перевод книги А. Меца сделан по изданию 1922 г., осуществленному Рекендорфом. К сожалению, это издание, вышедшее, как уже говорилось, после смерти автора, не свободно от ряда недостатков, в частности, в оформлении библиографического аппарата. Большинство ссылок «глухие»: либо дано только имя автора цитируемой работы, но не дано заглавие сочинения, либо, наоборот, только название сочинения; при первом упоминании того или иного сочинения оно названо сокращенно, но в последующих отсылках может быть указан автор, полное название сочинения, иногда — год издания. Чтобы раскрыть «глухие» сноски, унифицировать систему ссылок, пришлось проделать немалую работу, в ходе которой был устранен ряд неточностей, быть может, описок автора или опечаток. Некоторое количество сокращений, однако, так и не удалось раскрыть. К переводу приложен список сокращений и библиография, где приведены полные описания использованных А. Мецом трудов. В ряде случаев этот список дополнен новыми изданиями или переводами использованных автором источников. В него включены также наиболее важные монографии, исследования или статьи на темы, близкие к книге А. Меца, появившиеся после издания книги. Все эти дополнения отмечены звездочкой (*). Этим же значком отмечены те старопечатные восточные издания, о которых нельзя утверждать с уверенностью, что именно они были использованы автором.
А. Мец, должно быть, не успел разработать и унифицировать терминологию. Одно и то же понятие зачастую обозначается у него разными словами (напр., «наместник» — «Fürst», «Reichsfürst», «Herzog», «Statthalter» и др.). В переводе терминология приведена к единообразию, иногда с помощью арабской транскрипции терминов. Все пометы переводчика и ответственного редактора даны в угловых скобках.
[…]
В ходе работы над переводом большую помощь переводчику своими советами и замечаниями оказали профессор В.И. Беляев и кандидат филологических наук П.А. Грязневич. В правильной современной передаче китайских слов и названий помогли переводчику кандидат филологических наук Л.Н. Меньшиков и Л.И. Чугуевский.
* * *
В связи с подготовкой второго издания, книга была обсуждена на заседании Арабского кабинета Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. В ходе обсуждения сотрудниками кабинета был отмечен ряд неточностей в первом издании и были высказаны крайне полезные замечания, которые переводчик с благодарностью учел при подготовке второго издания. При чтении корректур для важных поправок был внесен по замечаниям кандидата филологических наук А.Б. Халидова.
Д. Бертельс
В IV/X в. империя снова вернулась к тому положению, которое существовало в доисламскую эпоху: вновь образовались отдельные, обособленные государства, ограниченные естественными пределами в том виде, в каком они неизменно, за исключением кратких периодов, пребывали на протяжении всей истории Востока.
В 324/935 г. этот распад империи завершился, и историки дают описание ее ликвидации, черпая при этом сведения из одного и того же источника, что видно хотя бы уже из последовательности изложения: западный Иран отходит к Бундам, Месопотамия — к Хамданидам, Египет и Сирия находятся под властью Ихшида, Африка принадлежит Фатимидам, Испания — Омейядам, Трансоксания и Хорасан — Саманидам, Южная Аравия и Бахрейн — карматам, Табаристан и Джурджан — Дейлемитам, Басра и Басит — ал-Бариди, так что халифу остается лишь Багдад и часть Вавилонии[42]. Уже ал-Мас‘уди в 332/944 г. приводит для сравнения государства Диадохов, возникшие в результате крушения империи Александра Македонского[43].
Однако на первых порах все же сохраняется видимость верховной власти багдадского халифа. Тот же самый ал-Мас‘уди говорит об империи (‘амал) «повелителя правоверных», которая простиралась от Ферганы и крайних пределов Хорасана до Танжера, на западе, на 3700 фарсахов, а от Кавказа до Джидды, близ Мекки,— на 600 фарсахов[44].
Местные правители (асхаб ал-атраф или мулук ат-тава’иф) признавали верховную власть империи, заставляли в первую очередь упоминать имя халифа во время богослужения в мечети, покупали у него свои титулы и ежегодно отсылали ему дары. Например, когда в 358/968 г. Буид ‘Адуд ад-Даула завоевал Керман, то грамоту на право владения им он получил от халифа[45]. Подобно императору Священной Римской империи германской нации с его номинальной властью, во главе всей империи стоял халиф, но это был всего лишь сан, лишенный реального могущества. Однако сама идея империи была еще настолько сильна, что даже испанские Омейяды именовали себя не «повелителями правоверных» или халифами, а «сынами халифов» (бану-л-хала’иф).
Первую брешь пробили Фатимиды. Они пожелали быть не только светскими правителями, но и подлинными наследниками пророка и в 297/909 г., после захвата Кайравана[46], присвоили себе этот титул. С тёк пор значение этого титула стало так быстро падать, что в 342/953 г. даже мелкий суннитский владетель Сиджилмасы, расположенной южнее Атласа, присвоил себе некогда вселявший страх титул «повелителя правоверных»[47].
«Когда ‘Абд ар-Рахман в Испании прослышал, что Фатимиды именуют себя повелителями правоверных, то и он поступил так же в 350/961 г.»[48]. Этот раскол освобождает идею ислама от определенных политических границ, отчизна мусульманина как бы становится обширнее, зарождается понятие «мусульманской империи» (мамлакат ал-ислам). Надо заметить, что ал-Мас‘уди еще не пользуется этим понятием. В то время как для ислама это означало расширение территории, Германия при объединении германской империи, наоборот, стала меньше. Для ал-Мукаддаси мусульманская империя простирается от самых крайних пределов на Востоке у Кашгара и до крайних пределов Суса (на Атлантическом океане) — на целых десять месяцев пути[49]. Согласно Ибн Хаукалу, империя была ограничена на востоке Индией и Персидским заливом, на западе — народами Судана, населяющими побережье Атлантического океана; на севере граничила со страной румов, Арменией, аланами, Арраном, с хазарами, русами, булгарами, славянами, тюрками и с Китаем; на юге границей служило Персидское море[50]. В этих пределах мусульманин, совершая путешествие, повсюду находился под сенью своей веры, встречал того же бога, те же молитвы, аналогичные законы и схожие обычаи. И в этом смысле существовало некое практическое право гражданства мусульманской империи, когда мусульманин был уверен в личной свободе во всех областях своей страны и никто не мог сделать его рабом[51]. В V/XI в. Насир-и Хусрау совершал путешествие через всю империю с меньшей опасностью для жизни, чем путешествовавшие в XVIII в. по Германии.
Однако фатимидский халиф крепко наседал на своего аббасидского соперника. Кроме Африки за здравие повелителя Египта молились Йемен и Сирия, «в каждой долине имел он своих агентов»[52]. Чего только ему не приписывали! Об этом говорит следующая небольшая история: у султана ‘Адуд ад-Даула в Багдаде на корме его лодки (забзаб) был укреплен серебряный лев; и вот однажды он был похищен. Все были поражены отвагой вора, принимая во внимание ту жестокую кару, которая ждала его от сурового правителя. В поисках вора перевернули все вверх дном, но безуспешно. Предполагали, что это Фатимид подослал кого-то совершить кражу[53]. В 401/1010 г. заносчивость одного из вождей бедуинов — шейха племени ‘Укайл[54], под властью которого находились Анбар и Куфа, зашла настолько далеко, что он под самым носом Аббасидов приказал молиться о здравии египетского халифа ал-Хакима, пока его не образумил Буид Баха ад-Даула[55]. Правда, для багдадского халифа являлось неким утешением, что восходящее светило мусульманского мира — султан Махмуд из Газны постоянно свидетельствовал великое перед ним благоговение, сообщал ему о своих победах и делился заботами. Когда в 403/1012 г. Фатимид ал-Хаким написал ему письмо, пытаясь привлечь на свою сторону, Махмуд отправил это послание Аббасиду, предварительно разорвав и плюнув на него[56].
Острее всего были разногласия в вопросе о священной области вокруг Мекки и Медины, обладание которыми стало теперь значительно более важным, чем прежде. Если ранее не было повода для обсуждения отличительных признаков истинного халифа, то теперь при борьбе за этот сан возникло учение, утверждавшее, что подлинным повелителем правоверных является тот, кому принадлежит священная область[57]. Это было то самое учение, которое еще и в наши дни[58] используется для обоснования прав османского халифата.
Tertii gaudentes — «третьими радующимися» в этом споре о священных городах были Алиды, из коих Хасаниды постоянно владели землями вокруг Медины. Таким образом, около середины IV/X в. Мекка могла быть захвачена мединскими Алидами, причем ни одна из обеих великих враждующих сторон не стала протестовать. И в конце этого столетия мы видим и в священной области современную картину: политический центр тяжести переместился из Медины, ранее бывшей политической столицей, в Мекку, а властителями священного города стали шарифы[59].
В этот период империя ислама и в чисто географическом смысле вновь стала более восточной. По мнению Карла Великого, Средиземное море было в то время морем сарацинов. Еще к началу IV/X в. Аббасиды прочно удерживали свои позиции на западной границе против Византии и не раз оглашали победные реляции с минбаров мечетей столицы. В 293/904 г. мусульманские пираты захватили Салоники, второй по величине город Византийской империи — «большой город, обнесенный стеной, с укреплениями и башнями» — и увели в рабство 22 тыс. жителей города[60].
Однако позднее, в 314/926 г., со взятием Малатьи (греч. Мелитены), началось наступление греков[61]. В 331/942 г. после торжественного совещания по ходатайству престарелого везира в отставке ‘Али ибн Исы христианам была возвращена хранившаяся в Эдессе икона Христа как выкуп за мусульман-военнопленных. С большим торжеством эта икона была доставлена в храм св. Софии[62]. Ал-Мас‘уди сетует на «слабость ислама в нынешние времена, когда он идет к упадку и ромеи одерживают победы над правоверными, пути паломников приходят в упадок, а священная война затухает… Вплоть до этих времен ислам всегда был победоносен; теперь же столпы его ниспровергнуты, его фундамент разрушен; это происходит в 332/943 г. при халифе ал-Муттаки, повелителе правоверных, да поправит Аллах наши дела»[63].
Что же касается Византийской империи, то на протяжении этого столетия ей выпало счастье видеть на своем престоле одного за другим трех выдающихся полководцев: Никифора Фоку, Иоанна Цимисхия и Василия II Болгаробойцу, причем последнему и самому способному к тому же суждено было в течение долгих 55 лет стоять во главе империи. В 350/961 г. после восьмимесячной осады Никифор взял о. Крит — главную стоянку мусульманских пиратов, пятью годами позже пал Кипр, а вместе с ним и безраздельное господство ислама на Средиземном море. В 351/962 г. Никифор вступает в Алеппо, в 354/965 г. сдается Массиса[64] и, наконец, героически сопротивлявшийся Тарс, наиболее мощный оплот мусульман, «после того как они от голода питались мертвечиной»[65]. В 357/968 г. Никифор захватывает города Хама и Химс, где завладевает головой Иоанна Крестителя, затем берет Латакию, а в последующую зиму — почти непобедимую Антиохию[66].
Когда же в 362/972 г. Месопотамия подверглась жестокому опустошению и был разграблен даже и Нисибин[67], в Багдаде восстал охваченный отчаянием народ, прежде всего бежавшие туда жители Месопотамии и Сирии. Они воспрепятствовали проповеди в мечетях, разнесли вдребезги минбары и так бурно атаковали дворец халифа, что пришлось даже стрелять по ним из окон[68]. Была организована армия добровольцев численностью 60 тыс., и правительство потребовало у халифа денег на ведение священной войны. После долгого и упорного сопротивления халиф собрал все же 400 тыс. дирхемов, но и то лишь благодаря тому, что продал свои ковры и одежды, а также тиковое дерево и свинец из своего дворца, так что среди паломников пошли разговоры: «У халифа была произведена конфискация». Однако султан Бахтийар употребил эти деньги в свою пользу, армия добровольцев раскололась на суннитов и шиитов, и они набросились друг на друга. О греках уже не могло быть и речи[69].
В 364/974 г. были завоеваны Баальбек и Бейрут, причем из Бейрута был перенесен в основанную Иоанном Цимисхием часовню в Бронзовом дворце Константинополя чудотворный образ Христа. А Дамаск был вынужден купить себе пощаду ценой ежегодной контрибуции в размере 60 тыс. динаров[70].
На юге, в сторону Нубии, была сохранена граница древней Римской империи. Еще в 332/943 г. находившийся в то время в Египте ал-Мас‘уди писал: «Жители Нубии и по сей день платят империи дань <рабами>, которую обе стороны именуют бакт (pactum) и которая поступает представителю египетского наместника в Асуане»[71]. В 344/955 г. нубийцы потеряли даже свой пограничный город Ибрим (Primis)[72]. На крайнем юго-западе крупный торговый город западной части Сахары Аудагушт уже стал мусульманским, образуя таким образом наиболее выдвинутый в сторону Африки форпост[73].
В противовес уменьшению территории империи на западе стоит неуклонное продвижение ее на восток. Так, в 313/925 г. был завоеван до той поры еще языческий Белуджистан[74], в 349/960 г. приняли ислам 200 тыс. шатров (харках) тюрков[75]. В то время как в конце III/IX в. последним городом империи в сторону тюрков был Исбиджаб[76], вступление Богра-хана в круг мусульманских властителей продвинуло эту границу вплоть до бассейна р. Тарим. По ал-Мукаддаси, империя ислама простирается до Кашгара[77], а в 397/1006 г. становится мусульманским и Хотан[78]. К этому же времени из Газны выступает Махмуд и подчиняет исламу обширные территории Индии. «У индийских правителей существовал обычай в знак заключения союза отсекать себе один палец; а у Махмуда скопилось много таких пальцев»[79].
С современной нам точки зрения, когда судят по количеству территории и по так называемому единству, распад империи Аббасидов, конечно, не вызывает сомнений. «Мировые империи», однако, всегда обусловлены наличием гениального властелина или особо жестокой касты и во всех случаях противоестественны. Египет Ихшидов, Кафуров и Фатимидов неплохо выдержал испытание, неплохую оценку получает также и империя Саманидов на Востоке[80]. Для Багдада же это было суровое время. С тех пор как в 315/927 г. город первый раз потревожили бродяги (‘аййарун)[81], они выходят на арену при каждом проявлении слабости правительства. Тягчайшими временами был период безвластия с момента смерти Беджкема и до вторжения Бундов (329—334/940—945). В 329/940 г. во время сильной грозы рухнул зеленый купол дворца основателя города ал-Мансура, а купол этот «был венцом Багдада и отличительной приметой города»[82], так что это происшествие символизировало упадок. В 331/942 г. главарь шайки разбойников Ибн Хамди смог совершенно беспрепятственно разграбить город, пользуясь при этом покровительством Ибн Ширзада, который, будучи писцом при тюркском главнокомандующем, фактически возглавлял правительство. Ибн Хамди должен был ежемесячно выплачивать Ибн Ширзаду 15 тыс. динаров из награбленного им самим и его товарищами «и получал в этом квитанции (бера’ат) и счета (рузат) от банкира». Это привело к тому, что жители города стали нести караулы с сигнальными трубами и лишились возможности спокойно спать[83]. Дома в то время пустовали, и в конце концов домовладельцы даже платили деньги тем, кто отваживался жить в их домах и содержать их в порядке. Много бань и мечетей было закрыто[84]. Ко всему этому присоединялись еще вечные распри между суннитами и шиитами, сопровождавшиеся непрерывными пожарами. Пожар 362/972 г. обратил в пепел одних только лавок 300 да 33 мечети и стоил жизни 17 тыс. человек. Говорили, что этот пожар был устроен самим правительством, чтобы положить конец стычкам в городе. В те годы началось переселение жителей в восточную часть города, которая и по сей день населена значительно гуще[85]. На следующий год великодушный писец, после смерти своего господина избранный главнокомандующим, обложил население такими налогами, что многие купцы сбежали из города. Общественная безопасность настолько ослабла, что разбойники вломились как-то даже в дом самого кади. Спасаясь от них, тот выбрался на крышу дома, но свалился вниз и умер[86]. Во времена ал-Мукаддаси в Багдаде уже были пустыри, население города «поредело, с каждым днем все идет к упадку, и я опасаюсь, что будет, как в Самарре»[87]. Площадь, где в былые времена около полудня было самое оживленное движение, — на перекрестке улиц сапожников и торговцев биссусом[88] — в 392/1001 г. была пустынна, и там разгуливали лишь воробьи да голуби[89]. Столица Египта стала в то время больше и многолюднее Багдада[90] и с той поры так и осталась самым крупным мусульманским городом.
Когда в 295/907 г. возник вопрос о престолонаследии, везир, возвращаясь однажды из дворца верхом на лошади, как обычно, в сопровождении одного из четырех главных министров, обсуждал с ним, кого следует сделать халифом, говоря при этом, что сам он — за сына халифа ал-Му‘тазза. Министр же — а это был Ибн ал-Фурат, сам ставший впоследствии везиром,— возражал ему: не следует, мол, делать халифом того, кто знает дом одного, имение другого и сад третьего, того, кто общается с людьми, знаком с жизнью, кого жизненный опыт сделал проницательным человеком,— поэтому он рекомендовал юного принца ал-Муктадира. Везир понял его, и на престол был посажен ал-Муктадир[91]. Это был тринадцатилетний мальчик, вся радость жизни для которого заключалась в том, чтобы его избавили от необходимости ходить в школу[92]. Выбор везира был незаконным вследствие несовершеннолетия принца, и некий непоколебимый в своих принципах кади Багдада должен был расстаться с жизнью, когда он как человек чистой совести отказался принести ему присягу[93]. Однако везир с министром просчитались! Мать мальчика, греческая рабыня, вместе со своими приверженцами весьма энергично вмешивалась в дела правления, смещала и назначала на посты по своему усмотрению и опережала всех в разграблении государственной казны. О ее активности свидетельствует хотя бы то, как она интересовалась даже тем, что читали ее внуки. Ставший позднее халифом ар-Ради сидел как-то над своими книгами; вдруг появились евнухи его бабки с белым платком, свалили в него все книги и ушли, оставив в недоумении рассерженного принца. Через два часа они принесли книги обратно в целости и сохранности. Тогда принц обратился к ним с такими словами: «Скажите тому, кто велел вам это сделать: теперь ты видел эти книги — это всего лишь богословие, законоведение, поэзия, языкознание, история, т.е. все сплошь научные и полезные книги, а не то, что читаете вы,— морские сказки, приключения Синдбада да сказки про кошку и мышь»[94]. Друг принца ас-Сули, со слов которого мы и знаем об этой истории, опасался, что осведомятся, кто был в этот момент у ар-Ради, и это может повлечь за собой большие для него неприятности; поэтому он отправился к евнухам и просил их не передавать ответ принца. Они ответили ему: «Мы даже не в состоянии удержать в памяти все эти ученые выражения, разве можем мы их повторить?»[95].
Почти двадцать пять лет просидел ал-Муктадир на троне, всего лишь дважды на каких-нибудь один-два дня свергаемый восстаниями, но все время под сенью неусыпной опеки своей матери. Принужденный своим окружением, он против ее воли и своего желания предпринял свой единственный военный поход, где сам пал в суматохе сражения. Голова его была отсечена, и все одежды, в том числе и плащ пророка, были сорваны с тела, так что какой-то солдат из сострадания бросил на него охапку травы, чтобы прикрыть наготу. Был он коренастым, скорее низкорослым, с кожей «цвета жемчуга», глаза у него были маленькие, но с большими зрачками; красивое лицо обрамляла роскошная рыжеватая борода[96]. Все рассказы свидетельствуют о его великом добродушии. Когда везир как-то доложил ему, что он ежемесячно выплачивает по 300 динаров за мускус по статье бюджета «кухонные расходы», а халиф получает его разве только самую малость в печенье (хушк нанадж), то халиф рассмеялся и запретил везиру вычеркивать эту статью расходов, говоря при этом: «Может быть, люди используют эти деньги на необходимые им издержки?»[97]. К тому же он был пьяница[98].
На сводного брата ал-Муктадира ал-Кахира выбор занять престол пал только потому, что в противоположность своему предшественнику он уже не был ребенком, а мать его умерла[99]. Он также был коренастым, скорее рыжеватым, чем белокурым, у него были большие глаза и пышная борода; он страдал косноязычием[100]. Когда восстание 317/929 г., провозгласившее его антихалифом, было разгромлено, он умолял своего брата сохранить ему жизнь[101], крича при этом «нафси, нафси, Аллах, Аллах». Сам же он, как говорили, был скор на кровопролитие да к тому же еще пьяница, скряга и лицемер[102]. И все же ему удалось избавиться от всесильного главнокомандующего Муниса[103], а также скопить немалые деньги. Так как он не пожелал добровольно отречься от престола, то был ослеплен — первым среди халифов и мусульманских властителей[104]. Этому научились у византийцев. После этого он прожил еще целых семнадцать лет в том же доме, где жил еще будучи принцем, и, как передают, впал в конце концов в такую нищету, что носил платье из хлопчатобумажной ткани и деревянные башмаки (кабкаб хашаб)[105]. Он, правда, прикрывал лицо, но все же давал людям узнать в себе бывшего халифа. Наконец, один из Хашимитов подарил ему тысячу дирхемов и приютил его у себя[106].
Его племяннику ар-Ради (322—329/933—940) также исполнилось уже 25 лет, когда ему присягнули на верность. Он был мал ростом, худ, смугл, темноволос, остролиц и почти курнос[107]. Он любил и понимал поэзию и даже оставил после себя сборник стихов. Кроме того, он собирал особо красивую хрустальную посуду и расходовал на нее больше, чем на что-либо другое[108]. А еще была у него страсть сносить ветхие строения и закладывать новые и особенно разбивать сады[109]. Был он очень щедр, но ему мешали в этой склонности весьма скудные средства. Однажды приближенные нашли его сидящим на связке канатов и наблюдающим за строительными рабочими. Он пригласил их сесть на другие связки канатов, затем приказал взвесить канаты и выплатить каждому золотыми и серебряными монетами вес той связки, на которой он сидел[110]. Один ученый как-то размечтался перед ним вслух о прекрасной девушке, которую видел у работорговца. Когда ученый вернулся домой, то нашел девушку у себя — это халиф приказал ее немедленно купить для него[111]. Друзья халифа знали за ним только одну слабость: слишком уж он предавался сладострастию, а также слишком много ел, невзирая на запреты врачей, так как страдал животом[112]. Умер он, когда ему едва исполнилось 32 года; сам приготовил все необходимое для обмывания тела, приказал изготовить гроб, выбрал саваны и сложил их в сундук с надписью «облачение для потустороннего мира»[113].
Не обходилось без кровопролития и в годы его правления. Так, он коварно заманил в ловушку бывшего везира Ибн Муклу, кроме того, он велел бросить в темницу несколько своих родичей и умертвить их, правда, лишь тех, кто посягал на корону, и даже успел заставить присягнуть себе[114].
Его сводный брат ал-Муттаки взошел на престол двадцати шести лет. Он также был коренастым, белолицым, с круглыми голубыми глазами, сросшимися бровями, коротким носом и рыжеватыми волосами[115]. Вина он не пил, ревностно соблюдал посты и за стол садился один — Коран его единственный сотрапезник, говорил он, и никого другого не желает он иметь за столом[116]. Это был человек, которого буквально преследовали всевозможные несчастья. В ночь накануне его обрезания рухнула баня и под ее обломками погибли рабыни, наводившие там на себя красоту для предстоящего празднества. Все его камердинеры умирали один за другим, так что в конце концов никто не хотел идти к нему в услужение. Когда он как-то во время одного праздника плыл по Тигру через город и народ на берегу бурно приветствовал его громкими криками, рухнули устои моста (курси) и множество придворных, женщин и детей потонули в вышедшей из берегов реке[117]. Несчастья преследовали его и на престоле. Он был первым халифом, которому пришлось, взывая о помощи, покинуть «город мира»[118], а затем скитаться по Месопотамии вместе с разбитыми Хамданидами. Он отверг покровительство египетского Ихшида, а тюркский военачальник, которому он доверился, выдал его за 600 тыс. динаров, предложенных ему другим претендентом на престол, и велел одному рабу-индийцу ослепить его[119]. После этого он прожил еще 24 года и умер в своем доме[120].
Его преемник ал-Мустакфи, взошедший на престол таким недостойным образом, был сыном рабыни-гречанки[121]. У него была белая кожа, длинный нос, большие глаза, маленький рот; носил он окладистую бороду, был довольно тучен, но скорее строен, чем коренаст[122]. Он отдавал предпочтение чернокожим женщинам[123]. Редко приходилось ему испытывать радость от своего высокого сана, так как был он в полной зависимости от алчной женщины, происки которой возвели его на престол, и от владевших городом тюрков. В конце концов появился Буид, тотчас же, при первом с ним совещании, навязавший ему везира, которого халиф в свое время поклялся никогда больше не назначать на эту должность. Его камердинер Зука рассказывает: «Я присутствовал при этом, и халиф, внутренне сопротивляясь, все же поддался уговорам, но я видел, как глаза его наполнились слезами вследствие чудовищности этого требования»[124]. Когда же его собирались свергнуть, он сам отрекся от престола с условием, что ему не отсекут ни одного члена тела[125]. Однако его преемник — брат его предшественника — велел все же ослепить его в возмездие за содеянное над своим братом. Никто не пожелал выполнить эту кару, пока в конце концов не взялся за это один раб из славян, которого ал-Мустакфи в свое время велел высечь плетьми[126].
Последующие халифы примирились со своей вынужденной бездеятельностью и правили посему многие годы. Ал-Мути‘ отрекся от престола в пользу своего сына, после того как его разбил паралич. Сын ат-Та’и‘ был свергнут после восемнадцати лет правления и прожил еще двенадцать лет в почетном заключении у своего преемника. Сказать о них почти нечего. Мать ал-Мути‘, рабыня-славянка, была более знаменита, чем сын. Она умела свистать (была саффара), взяв в губы лепестки цветов, она невероятно искусно чирикала, подражая всяким птицам[127]. У ат-Та’и‘ была внешность северянина: белая кожа, рыжие волосы, крепкое, прекрасное сложение. Он держал при себе большого оленя, который всех и вся бодал, и никто не осмеливался к нему прикоснуться, пока как-то столяр не отпилил ему рога[128].
Ал-Кадир был исполнен добрых намерений и благочестив. Две трети своей трапезы он велел распределять по мечетям[129]. Он красил бороду, носил простые одежды и навещал вместе с народом могилы багдадских святых — таких, как Ма‘руф и Ибн Башшар. Ему пришлось пережить немало различных приключений. Кроме того, он писал богословское сочинение в ортодоксально суннитском духе, которое каждую пятницу читали богословам в мечети Махди[130].
Этим жалким фигурам, все более и более скатывавшимся к полному упадку, противостоит ряд поднимавшихся к расцвету африканских халифов. Их притязания на особую, переходящую от отца к сыну благодать с самого начала оберегали их от распрей в вопросах престолонаследия. К этому еще присовокуплялись спокойствие и уверенность в себе, характерные для истинных государственных деятелей. Так, когда наместник Сирии обращался с посланием непосредственно к ал-Му‘иззу (341—365/952—975), в обход вышестоящих органов власти, то халиф не разрешал себе принять послание и отсылал ему его обратно, не снимая печати.
Самая блестящая фигура среди этих халифов — это ал-‘Азиз (365—386/975—995) — высокий и плечистый, смуглый, с рыжеватыми волосами и большими голубыми глазами, отважный охотник и знаток лошадей и драгоценных камней[131]. Он был первым представителем того великодушного и благородного сарацинского рыцарства, которое позднее производило столь огромное впечатление на Запад. Этот халиф разбил одного тюркского вождя, который в свое время, захватив г. Аскалон, заставил египетское войско пройти под обнаженным мечом. Взяв его в плен, халиф не стал мстить за это унижение, а велел предоставить ему свой шатер, лошадей и все, в чем тот нуждался, возвратил перстень с печатью и доверенных лиц, попавших в плен. Во время первой встречи с вождем халиф приказал подать ему чашу шербета и, когда увидел, что тот колеблется, боясь отравы, первый отпил из чаши[132].
И, наконец, странная фигура ал-Хакима. То он сидел днем при свете свечей, то ночью в потемках[133]. А так как он любил с небольшой свитой ночью разъезжать по улицам Старого Каира, то торговцы должны были и ночью держать лавки открытыми и освещенными, и на базарах по ночам царило оживление, как средь бела дня[134]. Во время этих ночных поездок ему досаждал собачий лай, а поэтому он приказал перебить всех собак, кроме охотничьих[135]. Когда же его болезнь делала для него утомительной езду верхом на лошади, он заставлял четырех человек носить себя в носилках, не давая им отдыха ни днем, ни ночью. Во время этих блужданий он всегда принимал от жителей просьбы и заявления, на которых разрешалось писать только одну строку и только на одной стороне, а проситель имел право приближаться к нему только с правой стороны. Халиф назначал им на следующий день явиться в какое-нибудь определенное место, извлекал из рукава свое решение или подарок и собственноручно вручал его[136]. Милостыню он раздавал сколько мог и был для простого народа добрым повелителем, ибо при нем господствовали законы и справедливость[137]. Однако из числа высокопоставленных лиц никто не мог быть спокоен за свою жизнь: страдая болезненной вспыльчивостью, он мог обрушиться на своих лучших друзей. Так, он очень любил своего чернокожего евнуха ‘Айна, но вдруг приказал отсечь ему правую руку, потом вновь одарил его своей благосклонностью и наделил его самыми почетными титулами и должностями; затем внезапно приказал вырезать ему язык, чтобы тотчас же вслед за этим опять щедро его одарить[138]. О его капризах в обращении с христианами и иудеями и его благочестивых лишениях, которыми он подвергал себя, пойдет речь в другом месте. Под конец жизни он скитался в пустыне, отпустив волосы до плеч, не обстригая ногтей и не снимая черной власяницы и голубой повязки с головы, пока они не свалялись в войлок от пота и грязи. Ученый христианин Йахйа позволил себе сравнить его с Навуходоносором, который уподобился диким зверям своими ногтями, выросшими, как когти у орла, и волосами, подобными львиной гриве, за то что разрушил Храм Господень. У него, правда, хватило справедливости назвать заболевание властителя меланхолией и заявить, что того следовало бы посадить в ванну с фиалковым маслом, чтобы придать влажность его высохшему мозгу[139].
3. Правители областей[140]
Они носили титул «эмир» — «герцог». Принцев халифского дома также называли эмирами, только евнух Кафур в Египте из скромности приказывал именовать себя устад, т.е. «мастер, учитель»[141]. Первоначально титул амир ал-умара при дворе халифа не имел с этим титулом ничего общего — это был просто «верховный главнокомандующий», как вазир ал-вузара — «великий везир». Этот титул носил также и военачальник Мунис, который отнюдь не был правителем области (наместником).
Официальных признаков различия для областных правителей не существовало. Как и за любого другого наместника, за них молились после молитвы о здравии халифа. Только в Вавилонии, которой повелитель правоверных до той поры управлял самостоятельно, без наместника, воспринималось как оскорбление его величия, если в молитве появлялось еще и имя какого-нибудь другого властителя. Управляющий делами двора халифа Мухаммад ибн Йакут в 323/934 г. фактически забрал в свои руки всю полноту власти, заставлял министров делать ему доклады, ничего не происходило без его подписи, так что везир в сущности был без работы[142]. Но стоило только проповедникам Багдада начать за него молиться, как халиф лишил всех их сана[143]. Однако в следующем году он сам вынужден был допустить, чтобы имя Ибн Ра’ика упоминалось в молитве. Тем самым он признал существование в Вавилонии наряду с собой наместника[144].
Среди всех правителей областей обращали на себя внимание Хамданиды как представители бедуинов дурного нрава[145]. Во время встречи в Мосуле халиф ар-Ради, а также его главнокомандующий Ибн Ра’ик разместились в домах, а Хамданид разбил на горе возле монастыря свою палатку. «Вы всего-навсего бедуины»,— бранил его Ибн Ра’ик[146]. Об их негодном методе правления, разбойничьем образе ведения хозяйства, притеснениях крестьян, неистребимой ненависти к деревьям, постоянном нарушении взятых на себя обязательств пойдет речь в другом месте. Основатель этой династии в 296/908 г. предательски убил во время прогулки ехавшего рядом с ним везира[147], а Насир ад-Даула трусливо умертвил Ибн Ра’ика в своем собственном, принадлежавшем Хамданиду шатре[148]. Среди самих членов этой династии также процветали распри и междоусобицы, особенно в их месопотамской ветви[149], ведь и сын Сайф ад-Даула тоже убил своего дядю Абу Фираса[150]. Только Сайф ад-Даула удалось достигнуть некоторого рыцарства в своем поведении и совершить ряд блестящих подвигов. Однако он странным образом часто попадался в одну и ту же тактическую ловушку греков, так как «был слишком высокого мнения о себе и никогда ни с кем не советовался, дабы это не означало, что он одержал победу при помощи кого-то другого»[151]. Впрочем, его постоянно разбивали наголову также и тюркские вожди Тузун и Беджкем.
Из недр старой империи вышли также и ал-Бариди[152], которые в течение долгого времени считались фактическими правителями Вавилонии. Первоначально они были больше писарями, чем солдатами[153], однако неоднократно отважно сражались. В предельной близорукости и крайней алчности своего правления они ничуть не уступали Хамданидам. Год 330/941, когда ал-Бариди захватил Багдад и халиф бежал в Мосул, был первой подлинно лихой годиной для столицы — уже в марте он поднял поземельный налог, громил землевладельцев, громил христиан и иудеев, выколачивая из них подушную подать, очень высоко поднял пошлины на пшеницу, забирал у купцов часть их товаров и душил население принудительными займами[154]. В страхе перед Му‘изз ад-Даула последний из ал-Бариди бежал к карматам в Южную Аравию, несколько позже, однако, примирился с новым положением, вернулся назад в Багдад и был даже принят в число сотрапезников (нудама)[155]Му‘изз ад-Даула[156].
В противоположность этим правителям-разбойникам северные военачальники, воздвигавшие свои престолы в пределах мусульманской империи, были подлинными отцами для подопечных областей. Саманиды во что бы то ни стало хотели быть персами и, естественно, возводили своей род к Сасанидам. Эпохой их наибольшего могущества был конец III/IX в., когда под их властью находились Трансоксания, Мидия и весь Иран вплоть до Кермана. Однако и в их государстве были почти независимые области, как, например, Сиджистан (Сеистан), еще принадлежавший в то время Саффаридам, которые, правда, хоть и молились о здравии правителя Бухары, но только платили ему дань. Огромные размеры государства вынуждали Саманидов прибегать к помощи своего рода института вице-королей — сами они обосновались в Бухаре, а их главнокомандующий (сахиб ал-джайш) находился в Нишапуре, который благодаря Тахиридам стал столицей Хорасана. Ал-Мукаддаси, несомненно, из личных побуждений изо всех сил старался превознести их удачу, их прекрасный образ жизни, их отношение к науке и ученым. Последних они, например, освободили от унизительного обряда целования земли перед собой. «Если бы какое-нибудь дерево,— говорил ал-Мукаддаси,— осмелилось расти против их воли, оно засохло бы». Даже когда сам могущественный ‘Адуд ад-Даула, которому, как правило, покорялись все и вся, обратился против Саманидов, бог рассеял его войско и отдал его земли в руки врагов[157]. В действительности же Дейлемиты отобрали у них весь Иран, правда после ожесточенных боев, а Сабуктегин — военачальник Му‘изз ад-Даула в Багдаде — должен был чуть ли не ежегодно спешить в Рей на помощь брату своего властелина против Саманидов. Двадцать лет спустя после того как ал-Мукаддаси столь щедро расточал им свои похвалы, государство Саманидов было разделено между северными и южными тюрками, а последний представитель их дома убит при попытке спастись бегством. Саманиды неизменно выказывали себя верными приверженцами багдадских халифов и постоянно посылали им дары. А Ахмад ибн Исма‘ил в 301/913 г. даже усиленно домогался придворной должности начальника полиции (сахиб аш-шурта) в Багдаде, когда этот пост освободился после смерти последнего Тахирида[158]. Как наместник государя Саманид Наср послал в 330/941 г. халифу голову одного казненного им мятежника[159].
Однако будущность принадлежала стоящим доселе в резерве народам североперсидских Альп[160], которые подчинили своей воле куда более обширную территорию, чем, например, швейцарцы в эпоху их наивысшего могущества. Из числа их полководцев, владевших после смерти Йусуфа ибн Абу-с-Саджа Западным Ираном, больше всех привлекал внимание летописцев Дейлемит Мердавидж. В своем исламе он был не слишком крепок и как неверный уводил в рабство сынов и дочерей империи ислама — до 50-100 тыс. девушек и юношей. По его приказу население Хамадана подверглось истреблению как неверные[161], так что в 320/932 г. толпы иранцев бушевали перед халифским дворцом в Багдаде, крича при этом: с какой стати правительство взвинчивает налоги, если оно не в состоянии защитить правоверных. Под Динавером навстречу одному из военачальников Мердавиджа вышла группа святых мужей, их предводитель нес в руках раскрытый Коран, заклиная его убояться бога и опустить свой меч пред ни в чем не повинными правоверными. Но военачальник приказал швырнуть ему в лицо священную книгу и заколоть его[162]. Мердавидж был надменный муж, исполненный великих планов: он вознамерился восстановить персидскую империю и упразднить власть арабов[163]. Подражая древнеперсидским правителям, он носил усыпанную драгоценными каменьями диадему, восседал на вызолоченном помосте, на котором высился массивный трон, а перед ним было устроено серебряное возвышение, застланное коврами, где стояли позолоченные стулья для вельмож его государства. Намеревался он также захватить Багдад, заново отстроить дворец Хосроев в Ктесифоне и оттуда править всем миром как великий император[164]. Воины трепетали от страха перед его высокомерием. Свой грандиозно задуманный рождественский праздник в Исфагане (см. гл. 23 «Праздники») он счел жалким и ничтожным, «ибо взору, устремленному вдаль, все кажется мелким». Больших усилий стоило везиру заставить его все же показаться своему народу, и в этот день ликования все видели по его лицу, что он в плохом настроении. Затем он закутался в плащ, лег в палатке лицом к стене и не вымолвил больше ни единого слова[165]. Наряду с пятьюдесятью тысячами своих дейлемитов было у него еще четыре тысячи тюркских рабов[166], которым он столь неразумно и явно оказывал предпочтение перед своими земляками, что последние просто возненавидели его[167]. Несмотря на эту благосклонность к гвардейцам, когда однажды его разбудил шум и суматоха, поднятые его тюрками, седлавшими коней, он велел им спешиться, коней вести под уздцы, а седла и сбрую нести на себе. В отместку за это унижение они напали на Мердавиджа, когда тот мылся в бане, и умертвили его[168]. Его брат Вашмгир и племянник Кавус сохранили за собой небольшое княжество на крайнем севере Ирана. Во владение его наследством вступили другие предводители наемников, выходцев с персидских гор,— это были Бунды.
Они были столь чужды арабской культуре, что Му‘изз ад-Даула, например, уже будучи правителем Багдада, нуждался в переводчике во время аудиенций, даваемых им арабам[169]. Благодаря своей хитрости и солдатской выдержке они быстро возвысились, бесцеремонно переходя от одного полководца к другому, платившему больше. Когда был разбит Макан, они попросили его отпустить их, заявив при этом, что «не хотят обременять его расходами на свое содержание, когда же его дела поправятся, они вновь вернутся к нему»[170].
Одним из основных качеств Бундов было умение из всего извлекать деньги и всегда быть при деньгах. По существовавшей легенде, это объяснялось тем, что в момент самой острой потребности в деньгах змея показывает основателю династии дыру, где таится спрятанный клад[171]. Подкупив везира Мердавиджа, Бунды получили возможность безнаказанно грабить зажиточных сектантов (хуррамитов), живших в своих замках горной области Кередж[172]. При помощи раздобытых таким образом денег они приманивали своих земляков, во множестве служивших в войсках других властителей, и те переходили к ним. Все это позволило им легко одержать победу над армией халифа и занять Южный Иран. Надо заметить, что они хорошо обращались с пленными и сразу же брали их к себе на службу, в то время как военачальник империи возил с собой оковы для пленников[173]. Руки ад-Даула, правитель Рея, «не заботился о содержании в порядке своей области из страха выдать из своих сокровищ хоть один дирхем и довольствовался доходами в том объеме, в каком они поступали к нему»[174]. «Помешанный на кубышке» ‘Адуд ад-Даула составил себе огромное состояние. Даже и в последующие плохие времена Фахр ад-Даула (ум. 387/997), по свидетельству его современника Ибн ас-Саби, оставляет после себя 2 875 284 динара, 100 860 790 дирхемов, а также всевозможные драгоценности, которые он точно перечисляет. «Он был скуп, ключи от своей кладовой хранил в железной сетке, с которой не расставался»[175]. Также и Баха ад-Даула (ум. 403/1012) трясся над каждым дирхемом и скопил такие сокровища, как никто из его рода[176].
Второй основной чертой представителей этой династии была их тесная сплоченность и строгая дисциплина, по крайней мере в первом поколении. Дисциплина эта держалась на всеподавляющем авторитете личности ‘Али, которому позднее был присвоен титул ‘Имад ад-Даула. Это ему должны были быть благодарны члены династии за достигнутое ими могущество. Когда третий брат Му‘изз ад-Даула, в то время уже правитель Вавилонии, явился к нему засвидетельствовать почтение, он поцеловал перед ним землю и остался стоять, несмотря на приглашение сесть[177]. После смерти старшего брата власть перешла ко второму брату — Рукн ад-Даула в Рее, которому Му‘изз ад-Даула также беспрекословно повиновался[178]. Уже лежа на смертном одре, он и сыну своему приказал подчиниться Рукн ад-Даула, советоваться с ним по всем важным вопросам; так же он наказал сыну вести себя и по отношению к его двоюродному брату ‘Адуд ад-Даула, ибо тот был старше[179]. А когда этот самый ‘Адуд ад-Даула вознамерился отобрать у своего недостойного двоюродного брата Вавилонию, «бросился Рукн ад-Даула — отец первого (т.е. отец ‘Адуд ад-Даула) — с трона наземь, начал кататься по земле и пена выступила у него на губах; несколько дней он ничего не ел и не пил. Он так и не оправился всю свою жизнь от этого потрясения и не раз говаривал: „Я увидал перед, собой моего брата Му‘изз ад-Даула, как он стоит передо мной, кусая пальцы из-за меня, и услыхал его слова: О брат! Это так ты поручился заботиться о жене моей и детях моих!“».
Повинуясь приказу негодующего отца, ‘Адуд ад-Даула покидает Багдад, где он уже успел распорядиться приготовить себе дворец[180].
‘Имад ад-Даула отнюдь не был фигурой государя — это был скорее хороший управляющий с крестьянской хитринкой. Так, он сумел договориться с халифом ар-Ради в обмен на уплату миллиона дирхемов получить в ленное владение Персиду. При этом везир категорически запретил своему послу выдавать знаки ленного дара, как-то: почетные одежды и знамя, пока ему не будут вручены деньги. Однако ‘Имад ад-Даула силой отобрал все это у посла и, разумеется, ничего ему не выплатил[181].
Верность, кротость и справедливость Рукн ад-Даула хвалят[182]. Бежавшего к нему «со своим конем и плетью» Марзубана он велел одарить таким большим количеством ценных подарков, что ал-Мискавайхи ничего подобного никогда не видывал. Этот летописец, бывший в то время библиотекарем везира в Рее, поспешил к городским воротам, чтобы вместе со многими другими зрителями поглядеть на караван даров[183].
Спустя немного времени везир Рукн ад-Даула сделал своему повелителю совершенно разумное в основе своей предложение: оставить за собой земли подзащитного, ибо тот слишком слаб для того, чтобы хорошо ими управлять. Однако правитель отклонил это предложение как недостойное. Ал-Мискавайхи, который через своего хозяина должен был хорошо знать Рукн ад-Даула, все же называет его «человеком возвышенного образа мыслей»[184]. Правда, он сетует, что Рукн ад-Даула отравил существование своему дельному везиру Ибн ал-‘Амиду, «хотя он и действовал лучше, чем прочие Дейлемиты, но он, как солдаты после одержанной победы, брал только то, что он непосредственно захватил, не задумываясь над будущим». Он был слишком слаб против своей солдатни, которая до такой степени досаждала жителям, что последние по ночам совещались в пустыне, «скрестив ноги на шеях своих лошадей», чем бы их умилостивить. Кроме того, он был убежден, что его могущество связано с властью курдов, а посему не принимал никаких мер против этих разбойников. Когда ему докладывали: «Захвачен караван, скот угнали», то он ограничивался тем, что говорил: «Люди ведь тоже должны как-то жить»[185].
Му‘изз ад-Даула, правитель Вавилонии, был резок и вспыльчив, поносил своих везиров и придворных чиновников последними словами[186]; а везира ал-Мухаллаби даже наказывал побоями. Во время болезни, однако, он делался кротким[187]. Что же касается его привычки во время каждого приступа болезни — а он страдал камнями мочевого пузыря,— когда ему казалось, что пришла смерть, самому совершать над собой обряд оплакивания, то это, конечно, отвечало обычаям горцев-дейлемитов. Он «легко пускал слезу»; так, заливаясь слезами, он умолял своих тюрков отважиться еще на одну общую атаку в ходе уже почти проигранного сражения, а когда они соглашались, то сам скакал впереди всех[188]. В своей грубой солдатской заносчивости он совершенно бесцеремонно обращался с находившимся в его власти халифом. После смерти своего везира ал-Мухаллаби, прослужившего ему тринадцать лет, он тотчас же забрал себе его имущество и вымогал деньги со всей его челяди вплоть до лодочника, так что весь народ был возмущен его поведением[189]. На строительство своего нового дворца в северной части Багдада он затратил 13 млн. дирхемов, которые не задумываясь забрал у своих приверженцев (асхаб)[190]. Он никогда не утруждал себя великими идеями о правах народа. Он расквартировал своих солдат в Багдаде по домам горожан, что было для них тяжким бременем, а кроме того, наделял своих солдат еще и земельными угодьями. При нем чиновники государственного надзора утратили какую бы то ни было власть, общественные работы не велись, солдаты принимали от него земельные наделы, из которых безрассудно выжимали все соки, а затем обменивали на другие[191]. Потом он вдруг совершенно неожиданно стал всячески поощрять ремонт плотин, сам своими руками носил землю в поле одежды, и все войско следовало его примеру. Таким образом он сделал вновь плодородными округа Нахраванат и Бадурайа, которые превратились в пустоши, и жители Багдада полюбили его за это[192].
Его сын Бахтийар, прозванный ‘Изз ад-Даула, отличался большой физической силой — он мог держать здоровенного быка за рога с такой силой, что тот не в состоянии был пошевелиться[193]. Во всех же иных качествах ему было отказано самым жалким образом: «Он никогда не держал слова, никогда не исполнял угроз, ничего не говорил и ничего и не делал»[194], «проводил время в охоте, еде, пьянстве, музыке и шутках, играл в нарды, развлекался собачьими и петушиными боями и распутными женщинами. Когда у него кончались деньги, он смещал везира, отбирал у него имущество и назначал другого»[195]. Согласно одному более дружелюбному мнению, ему доставляли радость ценные книги, одаренные талантами рабыни и арабские кони благородных кровей, которым он любил дать порезвиться в пустыне[196]. Когда его мальчик-тюрок, служивший ему для любовных утех, попал в плен, «он перестал есть и пить, непрестанно вздыхал и стонал, а когда везир или военачальник приходили к нему по важным делам, он всякий раз начинал жаловаться им на постигшее его горе, так что в конце концов лишился какого бы то ни было уважения в глазах людей»[197].
Единственной фигурой подлинного государя из всей династии являлся ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982). К концу его правления ему были покорны земли от берегов Каспийского моря вплоть до Кермана и Омана; недаром он впервые в истории ислама вновь стал носить древний титул шаханшаха — «царя царей», ранее воспринимавшийся как кощунственный. Титул этот и в дальнейшем был сохранен за его преемниками[198], что также являлось возрождением древневосточных обычаев. На нем лежал отпечаток его северного происхождения: у него были голубые глаза и рыжеватые волосы[199]; везир называл его Абу Бакр — торговец навозом, так как он был похож на одного человека с этим именем, который продавал навоз садовникам Багдада[200]. ‘Адуд ад-Даула был жестокий человек: везира Ибн Бакийа, действовавшего против него и выданного ему же с выколотыми глазами, он приказал бросить под ноги слонам. Это был первый случай такой казни в истории ислама[201]. А другой везир, когда не смог как-то исполнить порученного ему дела, покончил с собой из страха перед немилостью своего повелителя[202]. ‘Адуд ад-Даула был безжалостен и в отношении самого себя: когда одна девушка настолько заполонила его сердце, что стала отвлекать его от дел, он приказал увезти ее[203].
Как правитель, желавший хорошо управлять огромным государством, он заботился о быстроте службы связи. За опоздание почтальона наказывали. Так он сумел добиться, что почту доставляли из Шираза в Багдад всего за семь дней,— а ведь для этого нужно было ежедневно проделывать более 150 км[204]. Он настолько развил систему шпионажа, «что всякое слово, оброненное в Египте, достигало его ушей и люди остерегались даже своих жен и рабов»[205]. Он очистил дороги от разбойников. Рассказывают об одном случае, когда он травил их, как крыс[206]. Навел даже порядок в Аравийской и в пользовавшейся еще более дурной славой Керманской пустыне, так что паломникам уже не приходилось больше платить дань бедуинам. Выстроил на путях паломников колодцы и водохранилища и для защиты Медины возвел вокруг нее стены. Он велел восстановить наполовину разрушенную столицу — Багдад, строил мечети и рынки, мосты через большие каналы, которые уже настолько обветшали, что женщины, дети и скотина падали с них в воду. Он превратил мост через Тигр в Багдаде, по которому «можно было ходить лишь с опасностью для жизни», в широкую и ровную улицу, снабдил его перилами и поставил на нем сторожей и смотрителей. Привел он в порядок и знаменитые сады, которые к тому времени превратились в «местожительство собак и свалку падали». Богатые должны были восстановить свои пришедшие в упадок плотины. Он очистил занесенные грязью каналы, построил на них мельницы, починил прорывы в дамбах и поселил на пустующих землях бедуинов из Фарса и Кермана[207]. При этом надо иметь в виду, что Вавилония в ту пору служила лишь как бы придатком, ибо центром его государства все время был Фарс — там находился и верховный кади, имевший в Багдаде только четырех своих заместителей[208]. Более того, говорят даже, что он прямо-таки презирал Багдад и рассказывал: «Я нашел в этом городе только двух человек, которые заслуживали того, чтобы назвать их мужами, но когда я узнал их поближе, то оказалось, что родом они не из Багдада, а из Куфы»[209]. ‘Адуд ад-Даула соорудил свой собственный рынок для торговцев семенами, которому определил богатое содержание, и заботился о разведении плодов чужеземных сортов. Так, им было введено возделывание индиго в Кермане[210]. В Ширазе он построил себе большой дворец с его знаменитыми 360 комнатами[211], и в Багдаде он также вдвое расширил огромный дворец умершего полководца Сабуктегина, скупив прилегающие дома, провел в свой парк воду через пустыню и предместье города, соорудив для этого высокий каменный акведук. Для сноса домов и трамбовки земли он использовал слонов; он первый также вновь применил боевых слонов[212]. Его дальнейшие, еще более грандиозные планы строительства были прерваны смертью[213]. ‘Адуд ад-Даула обыкновенно вставал до предрассветных сумерек и сразу же принимал теплую ванну; затем совершал утреннюю молитву, а после этого занимался со своими доверенными лицами. На этом он заканчивал деловую часть своего дня и садился завтракать, причем за столом всегда присутствовал его лейб-медик. После завтракаон спал до обеда, а послеобеденные часы посвящал своим сотрапезникам, отдыху и пению. Поздно вечером, уже в начале ночи, он отправлялся спать на свой ковер[214]. У него были дельные и толковые учителя[215], он любил ученость и назначал содержание богословам и юристам, филологам, врачам, математикам и механикам[216]. О его библиотеке пойдет речь в другом месте[217]. Будучи уже правителем, он продолжал изучать науки и частенько говаривал: «Когда я одолею Евклида, я пожертвую 20 тыс. дирхемов на бедных, когда же мы справимся с книгой грамматика Абу ‘Али, я пожертвую 50 тыс. дирхемов милостыни». ‘Адуд ад-Даула любил также поэзию, платил жалованье поэтам, предпочитал обществу своих военачальников общение с литераторами[218] и знал толк в песнях[219]. Ас-Са‘алиби даже цитирует арабские стихи, которые, как передают, принадлежат его перу, но они ничем не отличаются от обычного в то время пустого набора рифм[220]. Все это, вместе взятое, не мешало ему, однако, весьма скверно обращаться с мастером тогдашней прозы ас-Саби. В своем дворце, вблизи от своих личных покоев, он отвел для философов специальный зал, где они могли спокойно заниматься. Кроме того, он выделял также суммы на жалованье проповедникам и муэззинам мечетей, жертвовал деньги на чужестранцев и нищих, живших в мечетях, и основал в Багдаде большую больницу. За каждого рожденного ему сына он жертвовал по 10 тыс. дирхемов, милостыни; если сын рождался от особо любимой жены, то 50 тыс., а за каждую дочь — 5 тыс. дирхемов[221]. Он простирал свои заботы также и на немусульман, находившихся под его властью, и разрешил своему везиру Насру ибн Харуну, который был христианином, восстановить разрушенные церкви и монастыри и выдавать деньги на нищих-христиан[222].
Однако отцом своих подданных он все же не был, ибо так и остался для них чужим властелином, который, правда, знал, что о стадах нужно заботиться, если хочешь с пользой для себя стричь их. «Он умножил старые тяготы, создал новые и добывал деньги любыми путями»[223]. К концу своего правления он получал доход в 320 млн. дирхемов в год, но мечтал довести его до 360 млн., чтобы каждый день иметь по миллиону, «при этом он смотрел на золотой и алчно тянулся за медным грошом»[224].
Окончательное о нем суждение Мискавайхи, который лично ему служил, гласит: «Если бы ‘Адуд ад-Даула не совершал незначительных ошибок, которые нет охоты поминать при таком обилии его положительных качеств, он достиг бы наивысшего в этой жизни и я бы надеялся, что в потустороннем мире ему суждено блаженство»[225].
Одаренность ‘Адуд ад-Даула как повелителя особенно проявлялась в выборе им своих подчиненных: правителем Мидии он поставил курда Бадра ибн Хасанвайхи (ум. 405/1014). «Он был отважен и справедлив,, каждую пятницу раздавал вдовам и нищим по 10 тыс. дирхемов милостыни, ежегодно отпускал сапожникам, жившим между Хамаданом и Багдадом, 3 тыс. динаров, чтобы они обеспечивали обувью нуждающихся паломников, ежемесячно выплачивал на саваны 20 тыс. дирхемов, построил мосты и 3000 новых мечетей и постоялых дворов. Он не пропускал ни одного источника, чтобы не построить при нем деревни. Каждый год он расходовал по 100 тыс. динаров на священные города и охрану дорог паломников, заботился о строительстве водоемов и цистерн и об обеспечении продовольствием станций. Кроме того, он отправлял также в Куфу и Багдад деньги, предназначавшиеся для Алидов, чтецов Корана, бедняков и знати»[226]. Из школы ‘Адуд ад-Даула вышел также амир ал-джуйуш (ум. 401/1010), направленный в 392/1002 г. в Багдад навести там порядок. Ему удалось создать в городе, до той поры жестоко терзаемом разбойниками, такой порядок и безопасность, что он мог среди ночи отправить через весь Багдад раба, который нес в руках серебряное блюдо, полное золотых монет, и никто не отваживался задержать его[227].
После ‘Адуд ад-Даула род Бундов не дал ни одного мало-мальски годного отпрыска. А под конец иссякли последние денежные источники. Джалал ад-Даула вынужден был продавать на базаре свои материи на платья, в доме его не было ни камердинеров, ни слуг, ни привратников, не отбивались больше часы молитв, так как у него не было для этого людей (таббалун)[228].
Тюрки на постах правителей областей были представлены Беджкемом и Ихшидом. Оба они были хорошими солдатами и приличными правителями, однако внешне отнюдь не отличались блеском.
Первый был настоящим предводителем наемников, который от Макана перешел к Мердавиджу, а после его смерти (говорили, что Беджкем был в числе его убийц) с несколькими сотнями тюрков и персов перешел к Ибн Ра’ику в Вавилонию. При этом бывшие наемники Мердавиджа объединились и остались под командованием Беджкема[229]. Это было незначительное соединение — всего 300 человек[230]. По приказу Ибн Ра’ика он написал своим бывшим товарищам в Иран, и многие из них приехали и поступили к нему на службу[231]. После этого он начал действовать на свой страх и риск: убрал имя Ибн Ра’ика со своих знамен и щитов, выгнал его из Багдада и сам стал военным правителем Вавилонии. В то время под его командой собралось 700 тюрков и 500 персов[232]. Халиф, который относился к нему, пожалуй, лучше, чем к его предшественнику[233], даже наделил его почетным титулом кадим — «сотрапезник»[234]. Этот солдат-тюрок был совершенно безразличен к литературным друзьям халифа, и единственный из них, кого он привлек к своему застольному кружку, был знаменитый врач Синан ибн Сабит[235], которого он просил излечить его от вспыльчивости и обращать внимание на его ошибки. Он отличался исключительной отвагой: со своими 290 тюрками он обратил в бегство 10 тыс. (sic!) солдат ал-Бариди[236]. С этими же тюрками он переплыл на глазах у врагов, считавших себя в безопасности, р. Дийалу и напал на них. А его персы переправились вслед за ним на лодках[237]. Когда Беджкем вместе с халифом находился в Самарре и услыхал, что Ибн Ра’ик уходит из Багдада в Сирию, он собрался было пересечь пустыню в направлении на Хит, чтобы перехватить его. Однако халиф не разрешил ему этого, потому что это он сам гарантировал Ибн Ра’ику свободный проезд[238]. Беджкем неизменно наносил поражение Сайф ад-Даула, этому знаменитому победителю Византии, всякий раз, как тот выступал против него[239].
Беджкем принес с собой в Багдад некоторую грубость своей былой жизни солдата-наемника. Когда он хотел, например, добиться от людей денег и с этой целью прикладывал к телу раскаленные жаровни, то ему указывали, что это-де приемы Мердавиджа, здесь же город халифа[240]. Жители Багдада ненавидели его за «скверное поведение» и безмерно радовались, когда Ибн Ра’ик предательски напал на него. «Чернь и молодежь издевались над ним: Беджкему выбрили половину бороды! А когда им попадался на глаза тюрок в высокой шапке (калансува), они кричали: „Калансува, убирайся вон! Беджкем не наш эмир!“»[241]. Настоящим правителем области он был лишь постольку, поскольку заселил и возделал область Мада’ина[242]. Свои деньги, как говорят, он самым романтическим образом зарыл в пустыне[243]. Это, пожалуй, действительно соответствует той наивности, с какой он неумело и глупо действовал, когда ему приходилось решать невоенные дела.
Дед Мухаммада ибн Тугджа пришел в империю ислама из Туркестана во времена халифа ал-Му‘тасима, который первым начал массами вербовать тюркских солдат. Его отец уже сумел добиться поста наместника Дамаска, был, однако, затем свергнут, и его сыновья вкусили «от жизни и сладкого и горького». Сам Ибн Тугдж служил военным наемником в различных местах, говорят, даже был сокольничим у одного знатного вельможи. Однажды ему представилась возможность отличиться своей отвагой перед наместником Египта, а затем он также сумел стать сначала наместником, а позднее почти неограниченным властелином всего Египта. Под конец он владел столькими землями, как в свое время самые могущественные фараоны: Египтом, Сирией, Йеменом, областью Медины и Мекки[244]. И поэтому не удивительно, что он отклонил приглашение халифа ал-Мустакфи, когда тот предложил ему после смерти Ибн Тузуна взять на себя военное управление ненадежным Багдадом[245].
Ихшид был тучный человек с голубыми глазами и обладал такой силой, что никто другой не мог натянуть его лук, но вместе с тем страдал какими-то непонятными припадками[246]. Египту неплохо жилось при нем — он заботился о поддержании порядка и снова стал чеканить полноценный динар[247]. Его армия была самым внушительным войском той эпохи. Когда Ихшид в 333/944 г. подошел к Евфрату, жители городов Ракки и Рафики были поражены огромной, организованной и хорошо снаряженной армией: ничего подобного им никогда не доводилось видеть[248]. В Мухаммаде ибн Тугдже счастливо сочетались доверчивость и алчность. Он первый завел обыкновение совершенно хладнокровно отбирать у всех богатых чиновников, будь то друг или враг, их деньги. Большинство, может быть, и заслуживало наказания.
Будучи известен как великий любитель амбры, он со всех сторон получал ее в дар и время от времени устраивал распродажу этого драгоценного благовония[249]. Рассказывают целые истории о том, как он не гнушался даже и ничтожными доходами[250]. Все же он не доводил дело до пыток и щадил от своих вымогательств женщин[251]. С другой стороны, он почитал святых (салихун), имел обыкновение к ним ездить и испрашивать их благословения. «Муслим ибн ‘Убайдаллах ал-Хусайн рассказывал мне: я описал Ихшиду одного святого мужа в ал-Карафе по имени Ибн ал-Мусаййаб, и он поехал к нему вместе со мной, попросил у него благословения, а когда ехал обратно, сказал мне: „Поезжай-ка со мной, теперь я хочу показать тебе одного святого мужа“. Я поехал вместе с ним к Абу Сулайману ибн Йунусу. Там я увидал старого, но красивого мужа, сидящего на мягко набитой циновке. Он поднялся, пошел навстречу Ихшиду и предложил ему место на циновке; затем Ихшид обратился к нему: „О Абу Сахл, прочти надо мною Коран, ибо ветер пустыни только что причинил мне боль“. Засунул тогда святой руку под циновку и извлек из-под нее чистый сложенный платок, накинул платок на свою руку, а затем начал читать над ним Коран»[252]. Вообще Ихшид любил заставлять читать ему из Корана и всякий раз неизменно при этом плакал[253].
Однажды с ним произошла удивительная история. Некий человек, родом из Вавилонии, взобрался на колодец Замзам в Мекке и возопил: «О люди! Я чужеземец и видел я вчера посланника божьего, который сказал мне: „Ступай в Египет, предстань перед Мухаммадом ибн Тугджем и передай ему от моего имени, что он должен отпустить Мухаммада ибн ‘Али ал-Мадара’и (крупного персидского банкира)“. И вот в Египет отправился караван, а с ним и этот человек, и прибыли они в Фустат. Ихшид уже прослышал об этом деле, велел доставить его к нему и спросил его: „Что ты видел?“. Тот доложил, тогда Ишхид снова задал ему вопрос: „Сколько истратил ты на свою поездку в Египет?“ Тот отвечал: „Сто динаров“.— „Вот тебе сто динаров от меня,— сказал тогда Ихшид,— возвращайся в Мекку, ложись спать на том же самом месте, где ты узрел посланника божьего, и если ты опять увидишь его, то скажи посланнику божию: Я передал Мухаммаду ибн Тугджу твое послание, но он ответил мне: Он должен мне еще столько-то и столько-то (и он назвал при этом солидную сумму); если он мне ее выплатит, я выпущу его“. Тогда тот человек сказал ему: „С посланником божьим не шутят, я поеду в Медину на свои деньги, отправлюсь к посланнику божию, предстану перед ним, но бодрствуя, а не во сне, и скажу ему так: О посланник божий! Я передал Мухаммаду ибн Тугджу твое послание, а он ответил мне то-то и то-то“. При этом тот человек поднялся, но Ихшид удержал его и сказал; „Ну, а сейчас будем говорить серьезно — мы лишь хотели тебя испытать, теперь же ты не уйдешь, пока я его не выпущу“. Он послал к банкиру курьера и освободил его»[254].
В 331/942 г. пришло известие из Дамиетты, что у одного разбойника, которому в наказание отсекли руку и который принес покаяние и как слуга божий жил при мечети, вновь отросла рука. Ихшид велел ему прибыть в Старый Каир, и тот рассказал ему следующее: «Я видел во сне, как разверзся купол мечети и три человека спустились ко мне — Мухаммад, Гавриил и ‘Али. Я начал просить пророка вернуть мне руку. Пророк дал мне руку, и я проснулся». Из Дамиетты пришло официальное уведомление о том, что много надежных людей видели его в свое время с отсеченной рукой. Ихшид щедро одарил этого человека-чудо, почтил его и подивился всемогуществу Аллаха. Позднее выяснилось, что все это сплошной обман и надувательство, и связанное с этим происшествием волнение улеглось[255].
Наличие огромной массы инаковерующих составляет основное различие между мусульманской империей и средневековой Европой, полностью находившейся под сенью христианства. Речь идет о так называемых покровительствуемых религиях, которые с самого начала препятствовали мусульманским народам создать единую политическую структуру. Христианская церковь и синагога всегда оставались как бы чужеземными государствами внутри империи ислама, которые, добиваясь договоров и сохранения своих прав, не давали растворить себя. Они заботились о том, чтобы «дом ислама» всегда оставался грубо и наспех сколоченным зданием, чтобы правоверные мусульмане постоянно чувствовали себя лишь победителями, но не гражданами, чтобы никогда не угасали идеи феодализма, но, с другой стороны, они выдвигали абсолютно современные задачи. Необходимость как-то ладить между собой создала прежде всего некую, неизвестную средневековой Европе веротерпимость. Эта веротерпимость нашла свое выражение и в том, что внутри ислама было изобретено и усердно изучалось сравнительное богословие.
Возможен был только переход в ислам, в остальном же эти противоположные группировки весьма резко отделялись друг от друга. Окончательный переход мусульманина в иную веру карался смертной казнью, подобно тому как в византийской империи каралось вероотступничество христианина[256]. Смешанные браки исключались, так как христианка и по законам своей веры не имела права выйти замуж за нехристианина[257], а мужчина-христианин согласно церковному положению имел право взять в жены нехристианку лишь в том случае, если была надежда, что она сама и ее дети примут христианство[258]. Для мусульманки же это было исключено. Законы империи ислама гарантировали также покровительствуемым религиям и их устойчивость по отношению друг к другу: так, иудей не имел права стать христианином, и наоборот; перейти можно было только в ислам. Ни один христианин не мог быть наследником иудея, и наоборот; ни один христианин или иудей не мог наследовать имущество мусульманина, однако и мусульманин не имел права стать наследником христианина или иудея[259]. В 311/923 г. халиф даже издал приказ, согласно которому имущество христианина или иудея, не имевших наследников, отходило в пользу общины умершего, в то время как наследство мусульманина принадлежало казне[260].
Во второй половине IV/X в. один указ, решающий дело в пользу сабиев, особо подчеркивает, что не следует вмешиваться в их дела о наследстве, памятуя при этом слова пророка: «Между разными верами не может быть наследования»[261].
Наряду с христианами и иудеями в IV/X в. зороастризм (маджус) был безоговорочно признан покровительствуемой религией. Так же как и христиане и иудеи, они имели своего главу, который представлял их интересы при дворе и в правительстве. И все же между этими тремя религиями существовала разница. Иудеи спасли свое политическое положение в почти федеральной, рыхлой государственной структуре вавилонской империи, пронеся его в целости и сохранности сквозь все опасности и превратности; зороастрийцев же рассматривали как остаток самостоятельного и отважного противника, так никогда полностью и не побежденного в его недоступных оплотах; христиане, напротив, уже были покровительствуемыми гражданами еще в условиях более организованных отношений государства Сасанидов, менее благоприятных для них, чем для иудеев[262], или вошли в состав империи ислама как жители провинций, отторгнутых от Византии. Таким образом, «главы зороастрийцев и иудеев обладают наследуемым саном, именуются царями и платят налоги своим вышестоящим властям, чего у христиан никогда не было»[263]. Главы магов и иудеев являются светскими властелинами, говорил яковитский патриарх на одной аудиенции у халифа, он же, напротив,— представитель духовной власти и может присуждать лишь к духовным карам, как то: лишать сана епископов и священников, а мирян — отлучать от церкви[264]. Благодаря перемещению центра империи на восток главою христианской церкви в мусульманском государстве стал несторианский католикос — глава восточных христиан. Он избирался своей церковью, но утверждался халифом и, подобно другим высокопоставленным чиновникам, получал грамоту, утверждающую его в должности. Одна из таких грамот, датированная 533/1139 г., гласит: «Избрало его уполномоченное на то собрание христиан, „чтобы был ты пастырем их дел и для управления их учреждениями, для справедливого улаживания между слабыми и сильными среди них. Они вымолили твое назначение согласно древнему и незыблемому обычаю… а посему объявляется высшее имама соизволение определить тебя католикосом несториан в Городе мира и прочих мусульманских землях, а также и экспертом (за‘им) для греков, яковитов и маликитов по всей стране, с исключительной привилегией ношения облачения католикоса в ваших молитвенных домах и во время ваших соборных богослужений, без того, однако, чтобы это облачение[265] и украшение[266] носил кроме тебя кто-либо из митрополитов, епископов или дьяконов. Если же кто-нибудь восстанет против тебя, то постигнет его кара. Халиф повелел обращаться с тобой, подобно тому, как прежние халифы обходились с твоими предшественниками, защищать твою и твоей общины жизнь и имущество, поддерживать во всем добрый порядок, охранять древний обычай погребения ваших покойников. Подушная подать должна взиматься один раз в году и лишь с мужчин, обладающих здравым рассудком и владеющих достаточными средствами к существованию[267], но отнюдь не с женщин и несовершеннолетних, без какого бы то ни было отклонения от закона. Дано тебе[268] право посредничать между христианскими сектами в их спорах, содействовать слабому в правах его против сильного и т.д.“»[269].
Патриарх яковитов также получал от правящих халифов грамоту, за которой он всякий раз при вступлении нового халифа на престол должен был отправляться ко двору[270]. Около 300/912 г. халиф запретил ему, однако, избирать своей резиденцией Багдад[271].
Исключительно привилегированным положением пользовались в империи христиане, бывшие нубийскими подданными. Они платили подати своему царю, который имел специальных сборщиков податей в мусульманских землях. Когда один из таких сборщиков принял ислам, то находившийся как раз с визитом в Багдаде сын нубийского царя велел заковать его в цепи[272].
О предстоятеле иудеев мусульманские источники говорят мало, в то время как, согласно иудейским сведениям, в IV/X в. он переживал тяжелые времена[273]. В VI/XII в. рассказывают о нем Вениамин из Туделы и Петахья из Регенсбурга; в то время разделение ислама на багдадский и каирский халифаты уже оказало большое влияние на организацию иудейской общины. Так, мы встречаем в Багдаде реш галута <арабск. ра’с ал-джалут>, которому даже мусульманами был присвоен титул саййидуна — «господин наш», однако слово его имело вес лишь восточнее Евфрата[274], и cap хассарим — «князя князей» в Каире, который назначал раббанитских раввинов в Сирии и Египте и в землях фатимидских правителей[275]. Это особое положение каирского нагида, вероятно, было искусственно создано фатимидской оппозицией в противовес всему исходящему из Багдада, так как мы располагаем датированным еще XII в., т.е. сразу же после падения Фатимидов, посланием одного из предстоятелей египетской общины, к которому был направлен из Багдада неугодный раввин[276].
Приведенные рабби Вениамином (совершившим путешествие в 1165 г.) цифры говорят, что в мусульманской империи, исключая запад, было около 300 тыс. иудеев, в то время как рабби Петахья (приблизительно 20 лет спустя) оценивает только для Вавилонии число своих единоверцев в 600 тыс. человек[277]. Для Сирии IV/X в. такие цифровые данные не имеют значения, ибо там европейская политика крестоносцев почти полностью уничтожила общины. Так, Вениамин Тудельский сообщает, что в гетто Иерусалима было всего четыре жителя[278], Петахья нашел там лишь одного человека. Согласно сообщению байюло[279] Марсилия Георгия от октября 1243 г. н.э., в принадлежавшей венецианцам трети г. Тира жило только девять взрослых иудеев мужского пола[280]. Напротив, три тысячи евреев имелись, по данным Вениамина Тудельского, в годы мусульманского владычества в Дамаске; по данным Петахья,— 10 тыс. и 5 тыс. в Алеппо. А по берегам Евфрата и Тигра евреи селились очень густо, как в то же самое время в Германии по Рейну и Мозелю. Особенно — по Тигру: «От Ниневии вниз по течению Тигра во всех городах и деревнях имелись иудейские общины»[281], в Джезират ибн ‘Омар — 4 тыс. человек, в Мосуле — 7 тыс.[282], в г. Харба[283], самом северном городе Вавилонии,— 15 тыс., в ‘Укбара и Васите — по 10 тыс. Поразительно, что в противоположность этому в Багдаде в то время проживали всего 1000 евреев[284]. Иудейскими городами по Евфрату были Хилла — 10 тыс., Куфа — 7 тыс. и Басра — 2 тыс. Из числа населенных пунктов вавилонской низменности к началу IV/X в. почти полностью населены были одними иудеями Сура и Нахр Малик[285]. Чем дальше на восток, тем многочисленнее становятся иудейские общины: в Хамадане — 30 тыс., в Исфагане — 15 тыс., в Ширазе — 10 тыс., в Газне — 80 тыс., в Самарканде — 30 тыс.[286]. Эти цифры подтверждает в IV/X в. ал-Мукаддаси: «В Хорасане много иудеев и мало христиан»[287] и «в Мидии иудеев больше, чем христиан»[288]. На Востоке же, близ Исфагана и восточнее Мерва, находились оба, единственных во всей империи, города, называвшихся Йахудийа, т.е. «город иудеев». В Хузистане ал-Мукаддаси также нашел «мало христиан, но очень много иудеев и зороастрийцев»[289], в Фарсе «магов больше, чем иудеев, христиан меньше»[290]. И в Аравии иудеев также было больше, чем христиан[291]; так, в Курхе, втором по величине городе Хиджаза, даже большинство жителей были иудеи[292]. Для Египта цифры, приводимые Вениамином Тудельским, значительно ниже[293]: Каир — 7 тыс. человек, Александрия — 3 тыс., города дельты Нила — около 3 тыс. и 600 — во всех городах транзитной торговли Верхнего Египта, вместе взятых.
Что же касается численности христиан, то ее удается установить лишь с большими пробелами. Первое распределение налогов в Вавилонии при ‘Омаре I дало около 500 тыс. плательщиков подушной подати, т.е. приблизительно полтора миллиона покровительствуемых, откуда следует исключить иудеев[294]. По данным переписи населения в Египте во II/VIII в., должны были платить подушную подать 5 млн. коптов[295], что дает возможность полагать наличие приблизительно 15 млн. коптских христиан. В начале III/IX в. Багдад взимал подушной подати на сумму 130 тыс. дирхемов[296], а к началу IV/X в.— 16 тыс. динаров[297]. Обе эти цифры дают в итоге около 15 тыс. податных немусульман, откуда следует вычесть 1000 иудеев. Таким образом, можно с относительной уверенностью принять, что в Багдаде было 40-50 тыс. христиан. Единственными городами между Тигром и Евфратом, в отношении которых Ибн Хаукал приводит данные о преобладании в них христиан, были Эдесса и Текрит — главный центр яковитов и резиденция их патриарха; «некоторые из древних церквей и монастырей этого города существовали еще во времена Иисуса и апостолов»[298].
Как это ни странно, много зороастрийцев было в Вавилонии[299], но больше всего на юге Персии. Имеются сведения о стычке между ними и мусульманами в Ширазе в 369/979 г.; их дома были разграблены, и ‘Адуд ад-Даула наказал всех виновных[300]. Обычно же Шираз был очень мирным городом, и ал-Мукаддаси даже удивляется, что зороастрийцы там не носят отличительных знаков, а в дни праздников неверных весь город украшен. Когда в 371/981 г. умер глава суфиев, за его гробом шли мусульмане, иудеи и христиане. В восточноперсидской пустыне ал-Каринайин был населен исключительно зороастрийцами, которые существовали сдачей в наем ослов и совершали путешествия в разные края[301].
Сабейская община пережила эпоху своего последнего расцвета в конце II/VIII в. при халифе ал-Амине. В то время «в Харране язычества вновь переживало бурный подъем, по всем улицам водили быков, покрытых драгоценными покровами, украшенных венками из роз и мирты, с колокольчиками на рогах, а за ними следовали флейтисты»[302]. В двадцатых годах IV/X в. халиф запросил заключение о сабейцах от своего инспектора по делам ремесел в Багдаде. Тот сообщил ему свое мнение: всех их следует убивать, ибо они не христиане и не иудеи и поклоняются звездам. Немало денег стоило сабейцам умилостивить халифа[303]. После правительственного декрета, который около середины столетия вновь убедительно подчеркивал обещанное им покровительство, они селились в Харране, Ракке и Осроене[304], однако около 400/1009 г. почти полностью исчезли. Ибн Хазим считает, что в общем их было — очень округленно — что-то около сорока[305].
По существовавшим законам покровительствуемым не запрещалось занятие любой профессией. Как раз наиболее доходные места были заняты христианами и иудеями, сидевшими на них плотно и крепко, особенно среди банкиров, торговой плутократии, торговцев полотном, крупных землевладельцев и врачей[306]. Сами они распределились таким образом, что в Сирии, например, большинство финансистов были иудеи, а подавляющее число врачей и «писцов» — христиане[307]. Так же и в Багдаде во главе христианской общины стояли придворные врачи, а во главе иудейской — придворные банкиры[308]. Среди низшего податного сословия иудеи были менялами, кожевниками, сапожниками, однако чаще всего красильщиками[309]. Так, в Иерусалиме Вениамин Тудельский (XII в.) нашел, что иудеи держали в своих руках красильную монополию[310]; также и 12 иудеев, проживавших в Вифлееме, все были красильщиками[311], в тех же местах, где жил хотя бы только один иудей, он обязательно занимался этим ремеслом[312].
Жизнь покровительствуемых, что принципиально чрезвычайно важно, была равноценна перед лицом закона с жизнью мусульманина. Согласно толку Абу Ханифы и Ибн Ханбала, как за убийство покровительствуемого, так и за убийство мусульманина уплачивалась одинаковая вира. Согласно Малику, убийство христианина или иудея стоило, правда, вполовину меньше, чем убийство правоверного, а по мнению аш-Шафи‘и,— всего лишь одну треть, убийство же парса — только одну пятнадцатую[313]. Сказать мусульманину: «Ты — иудей!» или «Ты — христианин!» каралось по суду как оскорбление[314].
В дела отправления религиозных культов правительство не вмешивалось, наоборот, зачастую даже поощряло шумные христианские праздники[315]. Только во время засухи, когда государственные власти организовывали молебственные шествия, «в них принимали участие христиане во главе с епископом и иудеи со своими трубами»[316].
Монастыри мирно процветали, так, например, об одном из них — Дайр Курна, приблизительно в ста километрах южнее Багдада и в одной с половиной миле на восток от Тигра, говорится следующее: «Это красивый, привлекательный и цветущий монастырь, имеющий 100 келий для монахов, причем каждый монах занимает одну из таких келий. Монахи этого ордена продают эти домики друг другу за 50, 200 и до 1000 динаров[317]. Каждая такая келья стоит посреди фруктового сада, в котором растут всевозможные фрукты, финиковые пальмы и оливковые деревья; от урожая сада они выручают 50-200 динаров. Посреди территории монастыря, обнесенной крепкой стеной, проходит канал; в качестве престольного праздника там празднуется день Воздвижения Креста, когда в монастырь стекается множество народа»[318].
Самым крупным монастырем в Египте был монастырь святого Антония, расположенный в пустыне юго-восточнее Каира, на расстоянии трех дневных переходов от Нила, высоко на горе. Монастырь этот владел богатыми имениями, а также и городскими участками. За его стеной наряду с садом и большим виноградником находились огороды, три ручейка, множество плодовых деревьев и не менее 3 тыс. финиковых пальм[319].
В Византийской империи официальная церковь относилась куда более враждебно к своим инакомыслящим собратьям-христианам, чем ислам к покровительствуемым религиям. Когда император Никифор в IV/X в. отвоевал обратно сирийские земли, он повелел особо заверить жителей, что будет защищать их от притеснений официальной церкви. Несмотря на это заверение, официальная церковь все же сколько могла притесняла яковитов и вынудила их, к примеру, покинуть Антиохию. Хроника яковитов называет императорского патриарха Антиохии более жестоким, чем фараон, и большим богохульником, чем Навуходоносор. Из вновь отвоеванной Мелитены был увезен в Константинополь и заключен там в тюрьму патриарх яковитов вместе с семью видными богословами, а большой собор был конфискован в пользу православной церкви[320]. Сам патриарх умер в ссылке на болгарской границе, один из его сподвижников скончался в тюрьме, другой был побит камнями перед воротами императорского дворца, трое отреклись от своего исповедания, были повторно крещены, но не смогли обрести покоя, так как стали мишенью насмешек. В конце концов владыки сирийской церкви, будучи не в состоянии больше выдержать сложившихся условий в их вновь ставшей «христианской» патриаршей резиденции, перенесли ее в Амиду, в, более веротерпимую область неверующих[321].
Официальная церковь запретила армянским христианам употреблять колокола[322].
Мусульманской полиции нередко приходилось усмирять ссорящиеся, между собой христианские партии. Так в III/IX в. наместник Антиохии назначил одного человека, получавшего по 30 динаров в месяц от христианской общины, чтобы он, постоянно находясь возле алтаря, наблюдал за враждующими между собой членами общины и предотвращал, человекоубийство[323].
В христианской общине г. Тинниса (Египет) вспыхнул в 20-х годах IV/X в. большой спор в связи с выборами епископа: «отец перестал говорить со своим сыном, жена с мужем»; в конце концов, христиане призвали на помощь правительство, и оно вынуждено было опечатать, двери собора[324].
Около 200/815 г. халиф ал-Ма’мун намеревался даже дать покровительствуемым полную свободу вероисповедания и церкви. «Любая община любого вероисповедания, пусть даже будет она состоять всего из десяти человек, имеет право избрать себе своего собственного духовного владыку, и халиф признает его». Однако под натиском сановников господствующей церкви он вынужден был отказаться от издания этого закона[325].
Что же касается церковных зданий, то уже сасанидское государство занимало разные позиции в этом вопросе, в то время как позднеримское право запрещало иудеям строить новые синагоги — разрешалось лишь, восстанавливать пришедшие в ветхость[326]. В эпоху ислама персидские и римские, т.е. более мягкие и более жесткие, воззрения на этот счет представляли из себя пеструю смесь, начиная от разрешения возводить новые церковные здания и кончая запретом ремонта ветхих церквей[327]. Набожный наместник Египта разрушал в 169—171/785—787 гг. вновь, выстроенные церкви, «даже несмотря на то что ему предлагали 50 тыс. динаров», как об этом с восхищением сообщает летописец. Это не помешало его преемнику разрешить восстановление церковных зданий, а великодушные богословы даже определили, что строительство церквей относится к области «упорядочения хозяйства страны» и вообще, мол, все церкви в Старом Каире выстроены только при исламе[328]. Когда в 300/912 г. в Тиннисе (Египет) была разрушена одна церковь, правительство помогло христианам восстановить ее[329]. В 326/938 г. христиане вручили правителю Египта деньги, чтобы он разрешил им ремонт обветшавшей церкви. В ответ на их просьбу он предложил им добыть юридическое заключение по этому вопросу. Ибн ал-Хаддад дал такое заключение: церковь восстанавливать не следует. То же решили и маликиты, а Мухаммад ибн ‘Али был, напротив, того мнения, что эту церковь можно починить и восстановить. Решение это стало известно, народ поджег его дом и пытался его убить, так что он вынужден был скрыться и раскаивался в своем заключении. Народ бушевал, запрудив улицы и окружив церковь. Солдат, вызванных для наведения порядка, забросали камнями, и правитель вынужден был их отвести. Тогда он призвал муфтия Абу Бакра ибн ал-Хаддада, давшего заключение не в пользу христиан, и сказал ему: «Скачи к церкви! Если она еще не очень ветхая, то пусть себе стоит, если же нет — снеси ее, да проклянет ее Аллах!» Ибн ал-Хаддад взял с собой архитектора, который со свечой в руке обследовал церковь и доложил: «Она может постоять еще 15 лет, затем в одном месте завалится, а потом еще простоит целых 40 лет и тогда уже вся рухнет». И правитель не разрешил ее ремонтировать. А вышло так, как предрекал архитектор: в 366/976 г., т.е. до истечения сорока лет, ее отремонтировали, иначе она бы рухнула[330].
В госпитале столицы покровительствуемые получали медицинскую помощь на равных правах с правоверными мусульманами. Только в начале IV/X в., во время эпидемии, везир дал указание лейб-медику халифа, который должен был оказывать врачебную помощь и обеспечивать медикаментами жителей равнинной части страны, чтобы тот в первую очередь позаботился о правоверных[331]. Умерших, разумеется, хоронили раздельно. Однако, в хроники попали сведения о том, что во время наводнения в вавилонском городе Текрите в 319/931 г. мертвых мусульман и христиан похоронили вместе, так что нельзя было потом различить, кто где похоронен[332]. Надо отметить, что гетто для христиан и иудеев в то время еще не существовало, хотя собратья по вере и селились в непосредственной близости друг от друга; в Багдаде, например, христианские монастыри находились почти во всех кварталах города.
Так как мусульманское правосудие предназначалось исключительно для правоверных, то все инаковерующие были предоставлены своим собственным судам. Эти суды, насколько нам известно, также были преимущественно духовными, и владыки церкви пасли свою паству одновременно и в качестве верховных судей и многократно издавали свои своды законов. Эти суды занимались не только делами брака или связанными с правами наследования, но также и разбирательством подавляющего числа конфликтов, возникавших только между христианами; государственную власть все это не интересовало. Однако покровительствуемым было дано право искать также защиту и под сенью законов мусульманского права, на что церковь, разумеется, смотрела с неудовольствием. Католикос Тимофей (ок. 200/815) издавал свои законоположения специально для той цели, «чтобы лишить какого бы то ни было извинения тех, кто из-за недостаточности судебных определений постоянно прибегает к помощи двора и судов нехристиан»[333]. А параграфы 12 и 13 его кодекса налагали на каждого, кто по доброй воле ищет защиты у законов мусульман, покаяние, жизнь на подаяние, облачение в рубище и посыпание главы пеплом[334]. Его преемник присовокупил к этим параграфам еще и временный запрет посещения церкви[335]. Назначенный в 120/738 г. кади Старого Каира начинал свой день с того, что сначала заседал в мечети, где решал дела правоверных, а после этого вершил суд для христиан на ступенях перед входом в мечеть[336]. Позднее кади Старого Каира отводили один день в неделю для разбора дел христиан, заседая в своем доме, а кади, выбранный в 177/793 г., принимал их даже в самой мечети[337]. Во всяком случае, мусульманское правительство не принуждало покровительствуемых, кто из них того не хотел, прибегать к помощи правосудия кади[338], но раз уж они к нему обращались, то кади выносил решение на основе мусульманского права, и тогда они обязаны были подчиниться его решению[339].
Сохранившиеся законы патриархов грозят лишь церковными карами: порицанием перед собранием членов общины, стоянием перед церковью в рубище и с главой, посыпанной пеплом, уплатой церкви искупительного даяния, далее — отлучением от церкви и от таинства причастия и отказом в христианском погребении[340]. Так, например, христианин, ударивший другого, наказывался отлучением от церкви или лишался причастия на два месяца; каждое воскресенье он должен был стоять в рубище, посыпав главу пеплом, и раздавать бедным милостыню в зависимости от своего состояния[341]. В Испании, как сообщает нам один источник, которому, пожалуй, можно доверять, говорится, что христиане сами улаживали споры между собой, однако в случае совершения преступления, карающегося смертной казнью, они должны были обработаться за советом к кади. Они доставляли приговоренного к кади, представляли на его усмотрение свои показания, и, если он после этого изрекал «bene est», они казнили преступника[342].
По данным рабби Петахья, предстоятели общин иудеев в Мосуле имели право сами подвергать наказанию своих людей, даже и при спорах с мусульманином. Там была тюрьма для иудеев, в которую они сажали провинившихся[343].
Самым чувствительным уязвлением гражданских прав немусульман был тот факт, что они, как и рабы, не допускались к участию в судебном процессе в качестве свидетелей, даже и против единоверца, согласно мнению некоторых мусульманских законоучителей. Другие же религии делали в этом небольшие исключения[344]. Напротив, христианский суд в мусульманских землях, правда не по доброй воле, принимал показания мусульманина против христианина, требуя только, чтобы свидетель был богобоязнен и безупречного поведения, т.е. отвечал бы тем же самым требованиям, что предъявлялись свидетелю и кади[345].
За оказываемое им со стороны властей покровительство все «терпимые в вере» в зависимости от состояния должны были платить подушную подать по трем категориям: 12, 24 и 48 дирхемов, а в областях золотой валюты — 1, 2, 3 динара в год. Это был своего рода военный налог, ибо им облагались только взрослые мужчины, способные к ношению оружия, а калеки и монахи только в том случае, если они сами себя содержали[346]. Так, и в Византийской империи каждый нехристианин, иудей и зороастриец обязан был платить по одному динару с души в год[347]; также и христиане облагали в завоеванных ими землях подушной податью мусульман[348]. В подавляющем большинстве случаев большая часть податных лиц платила подать по низшей категории, так что Вениамин Тудельский так прямо и сообщает: «Во всех мусульманских землях иудеи платят по одному золотому»[349]. То же говорит и рабби Петахья: «В Вавилонии иудеи не платят халифу дани, только ежегодно вносят реш галута[350] по одному золотому с души». Венецианский байюло Марсилий Георгий сообщает из Тира в октябре 1243 г.: «Каждый иудей мужского пола по достижении пятнадцати лет ежегодно платит нашей миссии в день праздника всех святых по одному безанту»[351].
В целом же подушная подать держалась на одном уровне, предусмотренном законом, лишь с небольшими отклонениями, обусловленными изменениями валютного курса. Так, в начале III/IX в. правитель Египта довольствовался половиной динара, а уже в 390/1000 г. египетский пастырь Георгий должен был выплачивать по полтора динара вместо одного[352]. Однако патриарх Дионисий во время своего путешествия по Египту около 200/815 г. сообщает из Тинниса, города, славившегося своими ткачами полотна, следующее: «Несмотря на то что Тиннис имеет многочисленное население и там много церквей, никогда мы не видывали такой великой нужды, как среди его жителей. Когда же мы спросили их, отчего это происходит, они ответили нам: „Наш город; окружен водой, а посему мы не можем ничего сеять, ни держать стада. Питьевую воду мы получаем издалека и должны покупать ее по 4 дирхема кувшин. Вся наша работа — это полотно, для которого наши женщины прядут и которое мы ткем. За это мы получаем от торговца полотном по полдирхема в день. Невзирая на то что нашего заработка не хватает даже на то, чтобы прокормить собаку, каждый из нас все же обязан платить по 5 динаров подати. Нас бьют, бросают в темницы, вынуждают отдавать в залог наших сыновей и дочерей, которые должны потом в качестве рабов отрабатывать по два года за каждый динар. Если какая-нибудь девушка или женщина, находясь у них, родит ребенка, они вынуждают нас принести клятву в том, что мы не будем привлекать их за это к ответственности. Бывают еще и такие случаи, что до освобождения такой женщины поступает обложение новой податью“». На это патриарх возразил им, что, когда с них взимают подушную подать, они должны платить по закону Месопотамии: богатые по 48 дирхемов, люди среднего достатка — 24 и бедные — по 12[353].
Часто подать взималась в несколько сроков — в шесть, пять, четыре, три[354], а то и в два[355] приема. Первоначально с населения Вавилонии подать взимали каждый месяц[356] — вероятно потому, что из этой суммы мусульмане ежемесячно получали свой пенсион. Так было в III/IX в. и в Испании[357]. Однако позже, в 366/976 г., был издан указ взимать подать в первом месяце года, но не взимать ее с женщин, несовершеннолетних, стариков, нетрудоспособных, нуждающихся и с не состоящих в браке монахов[358]. Обычно при уплате подати выдавалась квитанция, написанная на бумаге. В более неблагоприятные времена на шеи покровительствуемым вешали квитанционные бирки, а на руку ставили печать[359]. Обычай этот уходил своими корнями в древнюю Вавилонию — там раб носил на шее небольшой глиняный шарик, на котором стояло имя его господина[360]; талмудические евреи также метили своих рабов печатью на шее или на одежде[361].
В 500 г. н.э. правитель Эдессы вешал на шею свинцовую печать тем беднякам города, которые имели право на получение одного фунта хлеба ежедневно[362]. Старые законоведы Абу Йусуф и Йахйа ибн Адам не говорят, впрочем, ни слова о подобных действиях; создается впечатление, что поступали так довольно редко. Во всяком случае, Дионисий из Телльмахры (ум. 845) описывает как неслыханное испытание для общины, когда «налоговым чиновникам придавались клеймильщики, которые ставили каждому печать с названием его города или деревни. На правой руке писали название города, а на левой — «Месопотамия». Кроме того, они вешали каждому на шею по два жетона, на одном из которых стояло название города, а на другом — округа. С каждых трех мужчин они сразу же взимали один дирхем (вероятно, как сбор за печать). Помимо этого, они записывали имена каждого из них, их особые приметы и указание о его родине. Все это породило великое смущение, ибо было обнаружено много чужеземцев, и какое только место ни называли они своей родиной, так и записывалось, пусть даже нога их туда никогда не ступала. Если бы этот способ учета был доведен до конца, то он натворил бы больше бед, чем все предыдущее. Когда же чиновник видел, рассказывает дальше Дионисий, что работы у него становится все меньше и меньше, он отправлялся в равнинную часть провинции и хватал всякого встречного и поперечного. Более двадцати раз прошел он эту провинцию вдоль и поперек, не успокоившись да тех пор, пока в его руках не побывали все жители и никому не удалось ускользнуть. И получилось так, как говорили пророк Даниил и апостол Иоанн: «Все люди получили печать зверя сего на руки своя, на грудь и спины своя»[363]. Совершенно ясно, что патриарх в данном случае говорит о клеймении и о жетонах как о чем-то далеко не обычном.
И несмотря на это, некий поэт из Басры начала эпохи аббасидского халифата говорил в своих стихах:
Согласно надежному источнику ал-Джахиза (ум. 255/869), слова эти касались самого простого содержателя трактира, будто это он подзащитный горожанин с клейменым затылком[365]. Кроме того, до нас дошел один такой жетон из окрестностей Хамадана, датированный как раз первым годом IV/X в.[366], в то время как мы располагаем прямыми доказательствами, относящимися к первой четверти того же столетия и свидетельствующими о том, что в знак уплаты этих податей получали скрепленную печатью квитанцию[367].
Христианское духовенство не освобождалось от уплаты подушной подати; только монахи, живущие подаянием, не должны были облагаться податью уже как простые нищие[368]. Но все это только в теории, потому что в Египте монахи и епископы были впервые обложены подушной податью лишь в 312/924 г. «Все монастыри Нижнего и Верхнего Египта, а также и Синая обязаны выплачивать ее. Тогда несколько монахов отправились в Багдад и обратились с жалобой к халифу ал-Муктадиру. Халиф приказал, чтобы, как и раньше, с монахов и епископов ничего не взимать»[369].
Даже и в 1665 г. в Египте были освобождены от подушной подати «все европейцы, коптское духовенство, ежели они не состоят в браке, патриарх и все турки (т.е. мусульмане)»[370].
Взимание подушной подати производилось ничуть не мягче, чем взимание всех прочих налогов, хотя по закону и не полагалось взимать ее более сурово. Общепринятые, во всяком случае давно уже испытанные, приемы, как то: бить должников, подвергать их пыткам, выставлять на солнце и лить им на голову масло, были запрещены каноническим правом; их следовало просто держать взаперти, пока они не уплатят[371].
Что же касается предписаний о ношении определенной одежды, то они существовали уже издавна; например, Харун ар-Рашид еще в 191/807 г.[372] приказал: покровительствуемые собратья обязаны подпоясываться веревками, голову покрывать стегаными шапками и туфли носить не так, как их носят правоверные; вместо кисточек на седельных луках пользоваться деревянными шишечками; их женщины обязаны ездить не на конских седлах, а на ослиных[373].
Во II/VIII в. иудеи носили высокие шапки; некоторые поэты сравнивают их с верстовыми столбами[374] или с кувшинами[375]. Христиане носили в те времена бурнусы; когда же высокие шапки (калансува) вышли из моды у мусульман, то они так и остались отличительным признаком христиан[376].
В более ранних предписаниях не упоминается о каком-либо определенном цвете одежды для покровительствуемых; это, кажется, был скорее провинциальный обычай. Так, ал-Джахиз (ум. 255/869) описывает, вероятно, вавилонский обычай: «Настоящий владелец кабачка должен быть из покровительствуемых, зваться должен Азин, Мазбар, Азданказ, Миша или Шлума, носить черные в белую крапинку одежды и на шее иметь печать»[377].
Во времена Харуна ар-Рашида правоверные мусульмане, собравшись как-то в мечети Масра <Мисра>[378], принялись поносить на всякие лады ненавистного им кади, который, однако, бесстрашно вышел из своей ниши и стал кричать: «Где эти в плащах цвета меда, где эти ублюдки? Почему никто не скажет, чего он хочет, так, чтобы его было видно и слышно?»[379].
Эти покрывала и пояса цвета меда были повсеместно предписаны для инаковерующих эдиктом халифа лишь в 235/849 г. Тот, кто, как и мусульмане, носил остроконечную шапку (калансува), обязан был пришить к ней две пуговицы иного цвета, чем на шапках мусульман. Рабы христиан и иудеев должны были иметь на груди и на спине хотя бы заплату цвета меда размером четыре пальца в поперечнике, а также вместо узкого солдатского пояса (манатик) носить широкий — зуннар (греч. zonarion). Над входными дверями их домов должны были быть прибиты деревянные изображения дьявола[380]. Согласно одному приказу от 239/853 г. покровительствуемые больше не имели права ездить на лошадях, а лишь на мулах и ослах[381]. Однако все эти предписания оказывались до удивления малоэффективными: покровительствуемые, как правило, нагло не обращали на них ни малейшего внимания. Так, уже в 272/885 г. жители Багдада поднялись против христиан, за то что они, дерзко пренебрегая запретом, разъезжали верхом на конях, и во время этих беспорядков был разгромлен монастырь Келил Йешу — «Венец Иисуса»[382]. А опять-таки в 90-х годах Ибн ал-Му‘тазз сетует по поводу того, что христиане важно восседают на мулах и на конских седлах[383]. За четыре года до наступления IV/X в. пришлось снова настойчиво внушать неукоснительное исполнение всех этих предписаний. На протяжении всего IV/X в. о подобных предписаниях ничего не слышно; во всяком случае, они были преданы забвению, и лишь с усилением мусульманской ортодоксальности в V/XI в. к ним вновь начинают относиться со всей серьезностью. Так, в 429/1038 г. католикосу христиан и реш галута иудеев на торжественном собрании было вменено в обязанность, чтобы их единоверцы, которые уж совсем уравняли себя с мусульманами, снова начали носить свои отличительные знаки[384]. К этому же времени впервые появилось также и предписание, запрещавшее покровительствуемым возводить свои строения выше построек мусульман. Насколько мне известно, оно впервые упоминается у ал-Маварди (ум. 450/1058)[385]. И эта идея уже вскоре нашла себе место на Западе, где в 1205 г. папа Иннокентий III жаловался, что иудеи в Сансе выстроили синагогу выше расположенной рядом с ней церкви[386].
Всякого рода издевок и предрассудков, бытующих в народе, между религиями было не меньше, чем между расами. Говорили о смраде, исходящем от иудеев[387]; христиане считались пьяницами[388], их монахини и мальчики из хоров пользовались дурной славой из-за того, что слыли легкодоступными; о сабейцах говорили, что они жестокосердны друг к другу[389]. Образованным мусульманам было хорошо известно, что христианство в большей степени, чем все прочие религии, проповедует любовь и кротость, а наряду с этим они видели, сколь мало придерживались их сторонники этого учения в жизни. Ал-Джахиз (ум. 255/869) утверждает, что все порочное в мире исходит от греков, что более чем удивительно, принимая во внимание их религию милосердия[390]. Ал-Бируни объявляет благородной философию того, кто забирающему у него платье отдает еще и рубашку, кто подставляет другую щеку тому, кто ударил его по одной, философию, благословляющую врагов и возносящую молитвы за всех и вся. Однако люди — не философы, и даже когда император Константин стал христианином, правительство все так же применяло меч и плеть[391].
Больше всего поражает в мусульманской империи огромное количество чиновников-немусульман. В своей собственной империи мусульмане подчинялись христианам[392]. Жалобы на то, что от покровительствуемых зависит распоряжение жизнью и имуществом мусульман, слышны издавна[393], и уже очень рано ‘Омару I стали приписывать предостережение не ставить христиан или иудеев «государственными писарями»[394]. Дважды на протяжении III/IX в. христиане были даже военными министрами мусульман, «так что защитники истинной веры должны были лобызать им руки и выполнять их приказы»[395]. Чиновников из христиан и иудеев так же приводили к присяге, как и чиновников из мусульман. Сочиненный около 840/1436 г. Диван ал-инша[396] приводит относящуюся к той эпохе формулу присяги иудеев и сообщает, что первоначальная формула создана была ал-Фадлом ибн ар-Раби‘, канцлером Харуна ар-Рашида, и лежит в основе всех позднейших формул[397].
Все антихристианские движения прежде всего были направлены против этого невыносимого для истинно верующих господства над ними покровительствуемых. В 235/849 г. халиф приказал не назначать больше инаковерующих на официальные должности; тогда же был, например, отобран у христиан-смотрителей ниломер[398]. Однако он же через 10 лет отдал строительство своего дворца в руки одного чиновника-христианина, занимавшего высокий пост[399]. А уже в 296/909 г. «государственные писари» из христиан приобрели такую власть, что халиф ал-Муктадир вынужден был возобновить распоряжения, направленные против христиан[400]. Отныне христиан и иудеев разрешалось определять только на должности врачей или сборщиков налогов[401]. Однако и это распоряжение ал-Муктадира оказалось настолько смехотворно недейственным, что его собственный везир имел среди девяти своих тайных советников, которые ежедневно бывали у него в гостях, четырех христиан[402]. Повсюду сидели писари из христиан. Уже во времена Тахиридов в III/IX в.[403], впрочем и в 319/931 г. тоже, некий человек, желавший стать везиром, должен был завязать добрые отношения с христианином Ибрахимом, секретарем эмира, и со Стефаном — «писарем» военачальника Муниса[404]. Чтобы сделать карьеру, необходимо было всячески подчеркивать свои связи с христианами. «Семья моя происходит от вас,— сообщает некий честолюбец государственным писарям,— мои предки принадлежали к числу ваших великих мужей. Из руки моего деда ‘Убайдаллаха ибн Сулаймана однажды, во дни ал-Му‘тадида, выпало распятие, и, когда люди это увидели, он сказал: „Это амулет наших женщин, они прячут его в наших одеждах без нашего на то ведома“»[405]. Расчет был верный: во времена того самого ал-Муктадира, который вознамерился было отнять у христиан государственные посты, этот угодливый льстец христианам-чиновникам добился своего — он стал везиром. Во главе тех, кто строил козни против всемогущего военачальника Муниса, стоял евнух Муфлих, христианин-писарь которого, тоже из евнухов, имел наибольшее влияние[406]. В 324/935 г. умер «Стефан-христианин, управитель личной кассы халифа»[407]. Первый Бунд также начал с писаря-христианина[408]. А когда везир ‘Изз ад-Даула в 357/967 г. отправился в Багдад, то заместителем своим оставил в столице одного христианина[409]. Халиф ат-Та’и‘ (363—381/973—991) имел секретаря-христианина[410], а во второй половине века как ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982) в Багдаде, так и фатимидский халиф ал-‘Азиз в Каире имели везиров из христиан. При этом последний даже получил от своего повелителя разрешение заново отстроить церкви и монастыри и поддерживать деньгами своих нуждающихся единоверцев[411].
Позднее мусульманские законоведы поучали в соответствии со всеми канонами своей науки, что везир, поскольку он не обладает абсолютными государственными полномочиями (визарат ат-танфиз), может быть также христианином или иудеем[412]. В египетском городе Бура сидел в начале III/IX в. правитель округа из христиан, который облачался по пятницам в официальное черное аббасидское платье, опоясывался мечом и, горделиво восседая на коне, направлялся со своей свитой к мечети. Там он останавливался, его заместитель из мусульман входил в мечеть, молился там, произносил проповедь и выходил затем обратно к своему начальнику[413]. Передают, что какой-то мусульманский святой велел спешиться секретарю наместника, христианину, который попался ему навстречу верхом на лошади. За это мусульманин был брошен эмиром на растерзание львам[414].
В 389/999 г. государственный секретарь Египта христианин Фахд получил указание расследовать растрату сиротских денег, депозитов и т.п., обнаружившуюся после смерти кади. Он продал оставленное кади имущество и прогнал ответственных заседателей — виднейших представителей мусульманских религиозных кругов страны[415].
Несмотря на это противоестественное положение дел, источники, в том числе даже и христианские хроники, сообщают об исключительно малом количестве стычек между правоверными и покровительствуемыми на протяжении IV/X в., о которых ниже подробно пойдет речь. В 312/924 г. жители Дамаска разграбили большую церковь, при этом было похищено на 200 тыс. динаров распятий, церковных чаш, блюд, кадильниц, подушек; кроме того, был ограблен также целый ряд монастырей[416].
В Рамле приблизительно в это же время были разрушены три церкви, которые, однако, по приказу халифа жители города должны были заново отстроить[417]. Напротив, епископ, отправившийся в Багдад, чтобы принести жалобу на жителей г. Аскалона, где была сожжена церковь Девы Марии, ничего не добился. Говорили, что произошло это не без содействия иудеев, которые зажгли дрова, затащили их при помощи блоков на купол, а от этого свинец начал плавиться и колонны рухнули[418]. В 325/937 г. мусульманами было разграблено несколько церквей в Иерусалиме[419]. В 381/991 г. два мусульманина нанесли оскорбление словом одному «астроному» из христиан за то, что он не носил предписанных отличительных знаков; он пожаловался своему господину, и тот приказал посадить обоих под замок. В результате были разграблены две церкви, и католикосу удалось замять эту историю лишь ценою щедрого бакшиша[420]. Затем вспыхнуло волнение, вызванное тем, что в одной мечети была найдена свиная голова, которую, как говорили, подбросили христиане[421]. В 392/1002 г. жители Багдада были взбудоражены убийством мусульманина и подожгли церковь, которая, рухнув, задавила множество людей под своими обломками[422].
В 403/1012 г. среди бела дня хоронили дочь одного врача-христианина, которая была замужем за христианином, писарем одного знатного человека. Погребение происходило «с плакальщицами и монахами, с распятиями и свечами, литаврами и литаниями». Один Хашимит нашел все это непристойным бесчинством и начал швырять в гроб камнями, за что один из слуг вельможи расколол ему дубинкой череп. Христиане, захватив покойницу, бросились бежать в церковь «греческого квартала». Народ пришел в ярость. На базарных площадях потрясали поднятыми вверх списками Корана, двери соборных мечетей закрылись, и народ двинулся ко дворцу халифа. Халиф потребовал от вельможи выдать ему этого писаря, тот ответил отказом, после чего халиф приказал приготовить к отплытию его таййар[423], созвал Хашимитов и грозился покинуть Багдад. А перед домом вельможи тем временем шел бой, в ходе которого был убит один человек, который, как говорили, оказался Алидом. От этого известия страсти разгорелись еще сильнее, на молитву никто не пошел, и в результате было убито несколько христиан. После долгих переговоров писарь этот все же был выдан халифу, однако через некоторое время был снова отпущен[424].
Всех этих случаев очень мало для необъятных просторов Востока. Напряженными отношения в то время были лишь в одном Египте. Там против мусульман стояла единая в общем и целом церковь, а против арабов — чуждый по племени народ, говорящий к тому же на другом языке, потому что египетские христиане стали забывать коптский язык лишь к концу столетия[425]. На протяжении двух первых столетий одно восстание коптов сменяло другое, причем последнее было подавлено только в 216/831 г. Но и в то время все среднее сословие Египта было христианским, и арабы так же мало понимали коптов, как в свое время греки египтян, несмотря на то что коптам удалось протащить в сборники хадисов благоприятные по отношению к ним изречения пророка. Одно из таких изречений совершенно бесстрастно определяет роль коптского«писаря» в мусульманском государстве: «Копты помогут правоверным обрести благочестие тем, что переложат на свои плечи мирские заботы»[426]. И они это делали, и столь основательно, что большинство беспорядков из-за христиан в Египте было вызвано заносчивостью коптских чиновников. А позднее, около середины IV/X в., последовавшие один за другим военные успехи византийцев нашли отклик в Египте. Когда в 349/960 г. византийцы предали Сирию мечу и огню, в старой мечети Каира после пятничного богослужения вспыхнуло народное восстание и были разрушены две церкви[427]. А когда в следующем году император Никифор отвоевал для христиан Крит, то в Каире была разграблена «императорская» <мелкитская> христианская церковь св. Михаила, которая еще долгое время оставалась на замке, а двери ее были завалены землей[428].
Первые Фатимиды проявили по отношению к покровительствуемым религиям поразительную для таких завзятых сектантов терпимость. Они держали при своих особах лейб-медиков из иудеев, которым не надо было переходить в ислам[429], а чего при дворе ал-Му‘изза можно добиться при помощи иудеев, прекрасно знал пронырливый ренегат Ибн Киллис, который примкнул там к своим бывшим единоверцам[430]. Рационалистическая тенденция исмаилизма и вера в диалектическую доказуемость впервые в истории ислама допустили открытые диспуты между мусульманами и христианами[431]. При ал-‘Азизе дружелюбное отношение к христианам при дворе умножилось: у него были зятья среди христианского духовенства, из которых Арист стал архиепископом Каира и Мисра, да и все они пользовались большим уважением халифа[432]. Недаром пел в те времена один поэт:
«Будь христианином! Ибо быть христианином — это быть в лоне истинной религии, что доказывает наше время. Исповедуй трех богов и оставь все остальное — это суета: везира Йа‘куба — отца, ал-‘Азиза — сына и ал-Фадла — духа святого».
Когда же у халифа потребовали наказать поэта, то он попросил и остальных задетых сатирой тоже простить ему[433]. Позднее тот же халиф сделал своим везиром христианина ‘Ису, сына Нестория, который в свою очередь назначил своим заместителем в Сирии иудея Манассе. Это было уже слишком, народ потребовал снять обоих, и халиф вынужден был уступить[434]. При этом везире-христианине вспыхнуло восстание против христиан. Обеспокоенный завоеваниями императора Василия в Сирии, египетский халиф приказал в 386/996 г. снарядить флот, который, однако, сгорел еще в верфях близ Мисра. Народ заподозрил в поджоге греческих купцов, и 160 человек из них было убито. С чужестранцев возмущение перекинулось против местных христиан — церкви подверглись грабежу, а несторианский епископ был смертельно ранен. Везир навел порядок: 63 грабителя были схвачены и должны были по трое подвергнуться жеребьевке «каждый третий», т.е. каждый должен был вытянуть из-под платка свой жребий. На одном стояло «Ты будешь убит», на другом — «Ты будешь бит плетьми», на третьем — «Ты свободен». Так с ними и поступили[435].
В 393/1003 г. на горизонте начинают полыхать зарницы фанатизма ал-Хакима[436]. Народ, почувствовав, что бразды правления поослабли, начал громить церкви, а халиф строил на их местах мечети; так была сооружена знаменитая мечеть ал-Азхар. Затем снова были извлечены и строжайшим образом предписаны старые распоряжения о ношении определенной одежды. Отныне христиане обязаны были носить на шее тяжелые деревянные кресты. Запрещены были публичные празднества, колокольный звон, с наружных стен церквей были выломаны изображения крестов и следы их замазаны. Такие знаменитые церкви, как церковь Гроба Господня в Иерусалиме и большой монастырь ал-Кусайр на горе Мукаттам, были разрушены, причем в последнем подверглись осквернению могилы большого кладбища, чего, впрочем, отнюдь не хотел ал-Хаким, немедленно пресекший эти бесчинства. И, несмотря на все это, в том же году халиф сделал своим везиром христианина Мансура ибн Са‘дуна, а также все время держал при себе лейб-медиков из христиан. Приказано было, как говорят, составить список пригодных к службе писарей-мусульман, чтобы использовать их вместо христиан, «ибо за малым исключением все писари, чиновники и врачи его империи были христиане». Тогда, 12-го числа месяца раби‘ ас-сани 403/1012 г., в четверг, собрались писари, налоговые чиновники и врачи вместе со своими епископами и священниками и пришли ко дворцу халифа с обнаженными головами, босые, плача и лобызая землю. Ал-Хаким принял у них через своего посла их прошение и дал благосклонный ответ. Однако в воскресенье, 15-го, пришел приказ сделать нашейные кресты христиан значительно больше: один локоть в длину и ширину и толщиной в палец. Теперь и иудеи получили на шею шары весом в 5 фунтов, по-видимому, в память о голове тельца, которого они почитали.
В ту пору множество знатных чиновников из христиан перешли в ислам, другие последовали их примеру, так что много дней подряд на улицах города не попадалось на глаза ни одного христианина. Некоторые действовали в данном случае лицемерно, как, например, Мухассин ибн Бадус, убитый в 415/1024 г. на посту министра финансов. При осмотре его трупа оказалось, что он не совершил обряда обрезания, хотя во время принятия ислама и пригласил человека, совершающего обрезание[437].
Большинство же иудеев, наоборот, остались в лоне своей веры, как, впрочем, и христиане в провинции. Много тысяч церквей и монастырей было разрушено, и теперь христиане должны были к тому же еще и сами платить рабочим за это. Передают, что в Египте из всех монастырей уцелели только два, расположенные вблизи Александрии, ибо их охраняли кочевавшие в тех краях бедуины. Синайский монастырь выдал все свои сокровища и обязан был своим существованием кроме тяжелых поборов еще и невозможности разрушить его необычайно прочные стены[438].
Позднее, когда фимиам новой религии, проповедуемой друзами, вскружил халифу голову и он стал стремиться провести эту новую религию на место старого ислама, покровительствуемые религии утратили свою привлекательность. Так, в 410/1019 г., когда ему доложили, что христиане собираются в своих домах и торжественно отмечают святое причастие, причем в этих сборищах принимают участие также и обратившиеся в ислам, халиф не обратил на это сообщение никакого внимания. В том же году он возвратил синайскому монастырю все его вклады, был также заново отстроен монастырь ал-Кусайр[439].
При преемниках ал-Хакима все опять пошло на старый лад: христиане вновь публично устраивали крестные ходы и единственным напоминанием о правлении безумного халифа служили лишь черные повязки на головах и черные пояса, которые большинство коптов носило с той поры[440]. А уже в 415/1024 г. коптский праздник Святого Крещения празднуется с былым блеском и при участии самого халифа[441]. С 436/1044 по 439/1047 г. везиром в Каире был иудей-обращенец, при котором персидские иудеи Абу Са‘д и ат-Тустари правили государством, что позволяло одному поэту сказать:
В наши дни иудеи достигли вершины надежд своих и стали знатными.
У них и власть, и деньги и из их среды берут советника и наместника.
Египтяне! Мой вам добрый совет: становитесь иудеями, ибо даже небо стало иудейским[442].
Древнейший противник официального халифата — хариджиты[443] утратили свое значение в IV/X в. В срединной части мусульманскойимперии они были рассеяны в виде небольших сепаратистских богословских общин, в Восточной Месопотамии они позволили себе в начале века несколько восстаний[444], силу же они имели еще только на границах: в крайних районах Афганистана[445] и на Западе, где к ним причисляли себя берберы как по ту, так и по эту сторону Гибралтарского пролива[446].
Их борьбу против халифата приняли на себя махдитские шииты, карматы и Фатимиды, что также являлось признаком того, что с исламом старого толка было покончено. Главной особенностью духовной жизни IV/X в. было, таким образом, вторжение в основном древних, общевосточных представлений с шиизмом во главе в ущерб ортодоксальному исламу.
Что шиизм не являлся, как считали раньше, реакцией иранской духовной жизни на ислам, с весьма значительной долей вероятности доказали исследования Вельхаузена[447]. Исследования эти подтверждаются еще и географическим распространением секты в IV/X в. Еще в конце века ал-Хваризми может обозначить Вавилонию как классический образец шиитской области[448]. Куфа с могилой ‘Али все еще оставалась их штаб-квартирой. «Кто жаждет мученического венца, тому достаточно пойти на фруктовый базар (дар ал-биттих) в Куфе и возгласить там: „Аллах да будет милостив к ‘Осману ибн ‘Аффану!“»[449].
На протяжении IV/X в. это новое учение захватило и свою старую соперницу — Басру, о которой в III/IX в. говорилось: «Басра — за ‘Османа, Куфа — за ‘Али»[450] и где мог найти себе пристанище ас-Сули (ум. 330/942)[451], когда он подвергся преследованию из-за одного высказывания против ‘Али[452]. Уже в V/XII в. в Басре было не меньше тринадцати культовых зданий, посвященных памяти ‘Али[453]. Даже в главной мечети города в то время демонстрировалась реликвия, связанная с именем ‘Али: деревянная доска длиной в 30 локтей, в 5 ладоней ширины и 4 пальца толщины, которую, как считалось, ‘Али привез из Индии[454].
Сирия была издавна неблагоприятной почвой для алидской пропаганды; так, еще в начале IV/X в. был насмерть затоптан в мечети Дамаска ан-Наса’и за то, что не пожелал сообщить в предании хвалу Му‘авии, исходящую из уст пророка, и ставил ‘Али превыше его[455]. Только в Тивериаде, по еще непонятным мне причинам, смогла обосноваться эта пропаганда; половина Набулуса и Кадеса, а также и большая часть Трансиордании были шиитскими[456]. Несмотря на фатимидское господство, эта секта добивалась небольших, но достойных внимания успехов. А ошибка Насир-и Хусрау, который счел Триполи в 428/1037 г. шиитским[457], объясняется тем, что сидевшее там племя Бану ‘Аммар, одна из многих мелких пограничных династий, было шиитским и, очевидно, проводило в жизнь варварский принцип: cujus regio, ejus religio[458], никогда не высказывавшийся в исламе, не говоря уже о том, что он никогда не имел силы закона. Аравия же, напротив, за исключением городов, была сплошь шиитской, даже и в таких городах, как ‘Уман, Хаджар и Са‘да, шиизм одержал верх[459]. Лежащая ближе всего к Вавилонии провинция Хузистан, по крайней мере ее столица Ахваз, наполовину склонилась к шиизму[460]; в Фарсе же шиизм был представлен только на побережье, поддерживавшем тесную связь с Вавилонией, а именно с шиитской Аравией[461].
На всем Востоке безраздельно господствовала сунна, только жители Кума были «крайними шиитами, которые, покинув общины, сторонились главной мечети, пока Рукн ад-Даула не заставил их восстановить мечеть и посещать ее»[462]. Это исключение объяснялось тем, что некогда Кум был занят сторонниками мятежника Ибн ал-Аш‘аса, предводитель которых отдал своего сына на воспитание в Куфу. По поводу фанатизма жителей Кума острили: «В свое время над Кумом был поставлен наместник, ярый суннит; как-то он прослышал, что из-за ненависти жителей города к сподвижникам пророка среди них невозможно найти ни одного человека, которого звали бы Абу Бакр или ‘Омар. Вот собрал он их в один прекрасный день и обратился к их старейшинам с такими словами: „Клянусь всемогущим Аллахом, если вы не представите мне из своей среды человека, которого зовут Абу Бакр или ‘Омар, то я жестоко с вами расправлюсь“. Они попросили у него три дня сроку и принялись усердно рыскать по всему городу. Однако сколько ни старались, они нашли одного-единственного человека с именем Абу Бакр — это был жалкий нищий, голый и босый, да к тому же еще и косоглазый, в общем уродливейшее из творений божьих. Оказалось, что его отец был из чужих краев и обосновался в Куме, а отсюда и его имя. Когда же они явились с ним к правителю, он стал их бранить: „Вы привели мне уродливейшее творение божье, вы потешаетесь надо мной!" И приказал сечь их плетьми. Тогда самый остроумный и находчивый из них обратился к нему: „Делай что тебе угодно, эмир! Но это сам воздух Кума делает так, что Абу Бакр никак не может иметь лучшей внешности, чем вот этот“. Рассмеялся тогда вали и простил их»[463].
Первое место в Куме занимала партия яростных фанатиков — гурабийа[464], «которые во имя Фатимы все свое состояние передавали в наследство дочерям»[465]. Другая Фатима, сестра восьмого имама ар-Рида, обрела там в 201/816 г. вечный покой, почему еще и в наши дни Кум после Мешхеда является самым желанным местом для погребения по всей Персии. Напротив, Исфаган еще в те времена, когда через него проезжал ал-Мукаддаси, был настолько фанатически привержен к Му‘авии, что путешественнику едва не пришлось плохо[466]. В этом отношении Исфаган являлся антиподом Куму, и в 345/956 г. там вспыхнуло большое восстание из-за того, что солдат из гарнизона города, родом из Кума, оскорбил одно из священных для суннитов имен. С обеих сторон были жертвы, а лавки постоянно живущих в Исфагане купцов из Кума были разграблены[467]. К концу столетия ал-Хамадани объясняет причины упадка Нишапура и бедствий, обрушившихся на провинцию Кухистан, распространением там шиитского учения. В Герате, сообщает он, можно было даже услыхать, как мальчик на базарной площади возглашал, что Мухаммад и ‘Али прокляли Тайм, к которому принадлежит Абу Бакр, и ‘Али, к которому принадлежит ‘Омар[468]. Таким образом, в то время шиизм еще не завоевал областей своего сегодняшнего распространения, однако развитие его уже шло полным ходом.
Преследования сыграли на руку и этой религии.
Теоретическую богословскую основу шиизм получил в наследство от му‘тазилитов, отсутствие предания у которых особенно устраивало шиизм. В IV/X в. еще не существовало собственно шиитского богословия, и шиитский правитель ‘Адуд ад-Даула, например, следовал воззрениям му‘тазилитов[469]. Своего рода систему шиитских взглядов имели только Фатимиды, и она, как это особенно подчеркивает ал-Мукаддаси, во многом совпадала с учением му‘тазилитов[470]. Напротив, шииты зайдитского толка возводили учение му‘тазилитов к ‘Али[471]. «Во всех основных положениях зайдиты единодушны с му‘тазилитами, кроме вопроса об имамате»[472]. Наличие тесной связи между му‘тазилизмом и шиизмом предполагает также и эдикт халифа от 408/1017 г., между прочим, запрещающий му‘тазилитам и рафд, т.е. шиизм[473].
Метод главного представителя шиитской учености IV/X в. Ибн Бабуйа ал-Кумми в его «Китаб ал-‘илал» весьма напоминает му‘тазилитов, полагавших себя всезнающими. Как и му‘тазилизм, шиизм также давал простор для всякого рода ересей; уже вождь шиизма Ибн Му‘авия (II/VIII в.) окружил себя еретиками, один из которых был впоследствии казнен за то, что отрицал воскресение из мертвых и утверждал, что люди подобны растениям[474]. А Му‘изз ад-Даула освободил в 341/952 г. нескольких проповедников, учивших о перевоплощении души, из коих один утверждал, что в нем пребывает дух ‘Али, другой претендовал на дух Фатимы и, наконец, третий — на дух архангела Гавриила[475]. Все эти учения, и прежде всего учение о втором рождении и о перевоплощении души, имелись как у шиитов, так и у му‘тазилитов и суфиев, а общим их источником является христианская гностика[476]. ‘Али, как второй Христос, часто попадается нам около 300/912 г. в Вавилонии (см. гл. 49 — «Религия»). Во время пятничного богослужения в 420/1029 г. один шиитский проповедник в Багдаде молился сначала за пророка, затем за ‘Али, «который говорил с черепом»[477],— древняя легенда повествует то же самое и о Христе, который воскрешал мертвых, что в исламе долгое время было исключительным качеством Христа, который, хотя и имел облик сына человеческого, все же был богом[478]. Так и на праздник ‘Ашура перешло многое от пафоса страстной пятницы. А ал-Кумми увещевал своих сторонников: «Всякий раз, как вы видите небо красным, подобно свежепролитой крови, или солнце на стене, подобное красному плащу,— вспоминайте о смерти Хусайна». Фатима должна была по аналогии стать «пресвятой Девой» (батул)[479]. Наконец, были и такие шииты, которые учили, что Хусайн вовсе не был убит, это людям просто показалось, как и в истории Иисуса[480]. Весьма возможно, что даже и одежды шиитов имели связь с белым облачением гностических сект, так как первоначально одежды шиитов были тоже белыми: «Белые одежды и черные сердца»,— бранил их Ибн Суккара[481]; а один чудак из шиитов ходил в черных одеждах, говоря: «Лишь бы сердце было белым»[482]. У карматов были белые знамена, а фатимидские халифы и проповедники носили белые одежды[483]. Зеленый цвет как отличительный цвет Алидов в наши дни был впервые предписан египетским султаном Ша‘баном ибн Хусайном (ум. 778/1376)[484].
Пожалуй, единственным новшеством шиитского богословия того времени могло быть стремление по-своему распоряжаться всем циклом преданий об ‘Али и его доме, что, естественно, встречало глубочайшее презрение в среде суннитских ученых[485]. Около 300/912 г. некий шиит упомянул одно изречение Мухаммада, переданное через ‘Али и его семью. «Что это за цепь передатчиков?» — презрительно спрашивает Ибн Рахавайхи. Обе стороны измышляли и изобретали, сколько их душе было угодно, что, впрочем, с давних пор было обычным явлением в этой области. Передают, будто уже биограф Мухаммада Ибн Исхак вписывал в свою книгу шиитские стихи, с другой стороны, ‘Урван (ум. 147/764) выдумывал в пользу Омейядов истории, которые целиком перешли в историческое сочинение ал-Мада’ини[486]. Если уже около 300/912 г. некий поэт считает небылицами то, что проповедуют шииты, из-за недостатка традиционных передатчиков[487], то ал-Мукаддаси слышал в главной мечети Васита, как в теологически требуемой форме в качестве изречения пророка преподносилось следующее: «„Посадит Аллах в день воскресения из мертвых Му‘авию рядом с собой, собственноручно умастит его благовониями и представит его затем творению как невесту!“ Тогда я спросил: „Это почему же?“ — и проповедник отвечал: „Потому что он поразил ‘Али!“ Тут я вскричал: „Ты все это выдумал, ты — еретик!“, а он в ответ: „Хватайте этого шиита!“. Люди начали теснить меня со всех сторон, но один чиновник узнал меня и разогнал их»[488]. А в Исфагане этот же путешественник счел себя обязанным выступить против одного духовного вождя, утверждавшего, что Му‘авия, мол, посланник Аллаха, из-за чего вновь подвергся опасности[489]. Впрочем, в ту пору ‘Али уже давно не был яблоком раздора, уже давно миновали те времена, когда, например, аббасидский халиф ал-Мутаваккил (233—247/847—861) общался только с ярыми ненавистниками ‘Али, один из которых имел обыкновение засовывать под одежды подушку и, обнажив свой лысый череп, плясать, припевая при этом:
В целом же сунниты обращались с именем ‘Али весьма нежно[491], они менее всего были ненавистниками ‘Али; так, например, ал-Хамадани[492] (ум. 398/1008), у которого мы находим резкие слова по адресу шиитов и который защищает ‘Омара от поношений со стороны ал-Хваризми[493], сам сочинил нечто вроде плача по ‘Али и Хусайну[494]. Грубые проклятия всех прочих древних отцов церкви старого толка, бывшие столь популярными у шиитов, особенно раздражали суннитов. В 402/1011 г. в Багдаде умер один суннитский ученый, который как-то услыхал в Кархе (шиитский квартал), как поносят сподвижников пророка. После этого он дал себе слово, что ноги его больше там не будет, и действительно, с той поры никогда более не переступал Кантарат ас-Сарат[495]. Когда какой-нибудь шиит подвергался наказанию только за то, что он шиит, то в приговоре ни слова не говорилось об ‘Али и мотивировка приговора излагалась так: за то, что он поносил Абу Бакра и ‘Омара[496]. Когда же в 351/962 г. Му‘изз ад-Даула разукрасил мечеть Багдада широко распространенными среди шиитов проклятиями и они в течение одной ночи были соскоблены, то мудрый везир ал-Мухаллаби посоветовал в новых надписях предать поношению только одного Му‘авию, а другие имена выпустить[497].
В конце концов многие Алиды удалились в Египет, который редко бывал связан узами строгой дисциплины с халифским престолом в Багдаде. В 236/850 г. халиф ал-Мутаваккил, интернировавший арабских Алидов в Самарре[498], велел собрать вместе с ними и египетских членов этого рода. Каждый мужчина получил от наместника по 30 динаров, а каждая женщина — по 15, а затем всех их отправили в Ирак. Оттуда все они были сосланы в Медину[499]. Однако многие Алиды сумели уклониться от этого приказа и вскоре подняли восстание, так что уже следующий халиф вынужден был написать в Египет: ни один Алид не имеет права арендовать государственные угодья, ездить верхом на лошади, покидать пределы столицы, держать более одного раба; если же кто-нибудь из них участвует в судебном процессе, то он ни в коем случае не может давать свидетельских показаний[500]. И поэтому не удивительно, что на протяжении 50-х годов Египет переживал одно восстание Алидов за другим. В IV/X в. царившее на Западе возбуждение начало проникать и в Египет, так что в конце концов политическое положение алидской знати стало делом шиизма. В 350/961 г., в дни праздника ‘Ашура, возбуждение, царившее среди шиитов столицы, зашло настолько далеко, что они дали настоящее сражение суннитскому войску, состоявшему главным образом из суданцев и тюрков. Солдаты спрашивали каждого: «Кто твой дядя (ман халука)?» — и нападали на тех, кто не отвечал: «Му‘авия!»[501]. Один из разгоряченных боем чернокожих кричал на улицах столицы: «Му‘авия — дядя ‘Али!», что подняло народ Египта на выступление с антишиитским боевым кличем. Правительство оборонялось сколько могло.
В 353/964 г. один известный шиит был бит плетьми, а затем содержался в строгом заключении, где и умер. Над могилой вспыхнула схватка между его сторонниками и солдатами.
Когда же впоследствии, с приходом к власти Джаухара, государственная власть стала шиитской, народ при малейшем недовольстве разражался такими антишиитскими выкриками, как «Му‘авия — дядя ‘Али!». А в 361/972 г. одна слепая старуха, имевшая обыкновение декламировать на улицах города, была брошена в темницу. Собравшаяся толпа тотчас же принялась выкрикивать имена ненавистных шиитам сподвижников пророка, повторяя при этом: «Му‘авия — дядя правоверных и дядя ‘Али!» Наместник вынужден был уступить, объявил в мечети, что старуха, мол, была посажена в тюрьму ради ее же собственной безопасности, и велел освободить ее[502]. Сообщается даже об одном суннитском восстании, поднятом менялами, этими обычно наиболее легко приспособляющимися политически элементами[503].
Правительство Фатимидов вело в общем и целом разумную политику в отношении суннитов и отнюдь не было фанатичным, только оно раздавало все выгодные должности судей и юристов шиитам. Правительство даже мирилось с тем, что в 362/973 г. народ совершенно открыто праздновал изобретенный суннитами антишиитский праздник в память о том дне, когда пророк и Абу Бакр укрылись от врагов в пещере. В этот день на улицах сооружали балдахины и зажигали костры[504].
Однако и в этом отношении исключение составлял ал-Хаким: его наместник в Дамаске в 393/1002 г. заставил провезти по улицам к месту казни одного магрибинца верхом на осле, а перед ним шел глашатай, который выкрикивал: «Вот награда тем, кто любит Абу Бакра и ‘Омара!»[505]. В 395/1005 г. реформаторское неистовство ал-Хакима достигло апогея: наряду со многими другими распоряжениями он приказал начертать на наружных стенах мечетей, на стенах домов и на воротах проклятия по адресу Абу Бакра, ‘Османа, Му‘авии и т.п., а также и всех Аббасидов, что было просто чудовищно для его суннитских подданных[506]. Но, несмотря на это, он все же запретил в 396/1005 г. плач и причитания на улицах в дни праздника ‘Ашура, «ибо люди, останавливаясь перед лавками, вымогают подаяния». Отныне предаваться плачу и причитать разрешалось только в пустыне[507]. В 399/1009 г. произошел обычный для всего правления ал-Хакима перелом, и он запретил предавать проклятию всех этих великих мужей старого ислама[508].
Шиитский толк не смог все же обратить народ в свою веру. Так ал-Мукаддаси нашел шиитскими только цитадель столицы и одно местечко в Дельте[509]. Также и на Западе обращал на себя внимание своей приверженностью шиизму город Нафта на алжиро-тунисской границе, который из-за этого даже прозвали малой Куфой[510]. После политического поражения Фатимидов произошел быстрый спад в бурном развитии шиизма в Египте, и в конце концов он совершенно заглох.
Что же касается Багдада, то он был также и подлинной столицей всей интеллектуальной жизни ислама, так как здесь зарождались все духовные течения мусульманской империи и все секты и вероучения имели свои общины. Однако в IV/X в. двумя основными лагерями являлись приверженцы старой веры ханбалитского толка и шиизм[511]. Сторонники последнего имели своих приверженцев главным образом в базарных кварталах Карха, и лишь к концу IV/X в. шиизм перебрался через большой мост и обосновался в квартале вокруг Баб ат-Так[512]. Занять же всю западную часть города ему еще долго не удавалось, так как там, особенно в квартале басрийских ворот, плотно засели Хашимиты[513], также являвшиеся ярыми противниками шиизма; еще Йакут нашел здесь суннитов, а в Кархе — шиитов[514]. Кроме того, главным опорным пунктом суннитов был «квартал Ячменных ворот» на западном берегу Тигра[515]. Несмотря на энергичные преследования ал-Мутаваккила, уже к концу III/IX в. силы шиизма в Вавилонии были настолько велики, что в 284/897 г. везир дал понять халифу, который собрался было отдать, приказ о публичном предании поношению Омейядов с минбаров мечетей — эдикт этот сохранился до наших дней,— что мероприятие это пойдет лишь на пользу Алидам, сидевшим по всей области, а к ним уже и без того перешло много народа[516]. В 313/925 г. мечеть Бараса в Багдаде в первый раз упоминается как место сборища багдадских шиитов. Халиф приказал сровнять ее с землей и обнаружил при этом в ней всего лишь 30 человек молящихся, у которых были отобраны печатки из белой глины,— такие печатки тайно вручали своим сторонникам фатимидские эмиссары[517]. Мечеть была разрушена так основательно, что от нее не осталось и следа, а место, на котором она стояла, было присоединено к прилегавшему кладбищу[518]. Год 321/933 дал поучительный пример: североперсидский царедворец Йалбак вновь вознамерился предать с минбаров проклятию Му‘авию, однако ханбалиты подстрекнули народ выступить против этого, и в результате возникли беспорядки[519]. В 323/935 г. на улицах глашатаи выкрикивали: два ханбалита не имеют права собираться вместе, ибо они постоянно сеют смуты, и халиф подумал об этих своих непримиримых подчиненных, издав приказ, который дошел до нас[520]. Он упрекает их в том, что они жалят своими нападками лучших мужей общины, считают шиитов неверными, нападают на них на улицах и площадях, запрещают им паломничество к могилам имамов, а совершающих паломничество бранят еретиками, что они вместо этого паломничества совершают паломничества к могиле человека из народа, не знатного и не связанного с пророком, бросаются ниц перед памятником ему и молятся у его могилы. Если же они не перестанут заниматься этими нечистыми делами, то он пойдет на них огнем и мечом[521]. В 328/940 г. усилиями эмира Беджкема мечеть Бараса была заново отстроена, но уже как суннитская, а на ее фронтоне было высечено имя тогдашнего аббасидского халифа ар-Ради. Его преемник ал-Муттаки велел даже установить в этой новой мечети, освященной в 329/941 г., старинный минбар из мечети Мансура, который до той поры хранился там в сокровищнице и на котором стояло имя Харун ар-Рашида[522].
Первой шиитской династией, вмешавшейся в религиозную жизнь Багдада, были Хамданиды. Для начала, правда, они выступили так неудачно, что все и вся над ними издевались. Приверженный шиизму Хамданид помог взойти на престол известному своей враждебностью шиизму принцу Ибн ал-Му‘таззу[523]. По-иному дело обернулось, когда хозяевами Багдада стали Дейлемиты, совсем незадолго до этого обращенные в ислам неким Алидом. Вскоре после своего прибытия Му‘изз ад-Даула самым гнусным образом столкнул с престола халифа. Одна из причин, побудившая его так поступить, как говорили, заключалась в том, что халиф, мол, запрятал в тюрьму главу шиитов[524]. В 349/960 г. шииты были уже в состоянии закрыть свои мечети для суннитов, так что моления последних происходили только в одной мечети Бараса[525]. В 351/962 г. Му‘изз ад-Даула распорядился начертать на стенах этой мечети шиитские надписи, которые, однако, ночью соскребли какие-то неизвестные[526]. На следующий год, 10 мухаррама, он ввел празднование ‘Ашуры — этого главного праздника шиитов, дня торжественного плача по Хусайну. В этот день базары были закрыты, мясники не производили забоя скота, содержатели харчевен не готовили пищу, из цистерн выпускали воду, на улицах выставляли кувшины с водой, накрыв их войлочными одеялами. По улицам ходили женщины с распущенными волосами, с лицами, выпачканными сажей, и в разодранных одеждах, разбивая себе лица и оплакивая Хусайна. Совершались также паломничества в Кербелу[527]. «В этот день простой люд не любил употреблять чистую посуду и домашнюю утварь»[528]. В том же году, 18 зу-л-хиджжа, в Багдаде было также официально установлено празднование «Дня пруда Хумм», на берегу которого, согласно преданию, Мухаммад провозгласил ‘Али своим наследником[529]. Этот праздник, напротив, требовал соблюдения всех ритуалов, обычных для праздника радости и ликования: разбивали шатры, вывешивали ковры, выставляли напоказ драгоценности, а ночью под звуки труб и грохот барабанов перед зданием полицейского управления зажигали костер; поутру закалывали верблюдов и совершали паломничества к могилам курайшитов[530]. Сунниты же, наоборот, отмечали как праздник радости день смерти Хусайна, «облачались в чистые одежды, принаряжались и подкрашивались, задавали пиры и приглашали гостей, наслаждались сладостями и благовониями». Даже и хадисы говорили о приятной стороне этого дня[531] — верили, что тот, кто в этот день подводит глаза сурьмой, в течение всего года не будет поражен гнойным воспалением глаз[532].
Поэтому-то так горячо протестовал ал-Кумми (ум. 355/966): «Тот, кто печалится в день ‘Ашуры, будет радоваться в день воскресения. Кто же называет его днем благословенным (йаум барака) и в этот день припасает что-либо для своего дома, тот не обретет благословения от накопленного, будет поднят в день воскресения Йазидом и попадет в самый нижний отдел ада»[533]. После падения Фатимидов Айюбиды, приверженцы сунны, следуя сирийскому обычаю, тотчас же превратили этот, до той поры официальный день траура в праздник радости[534]. Кроме того, сунниты также придумали праздник, прямо противоположный дню ‘Ашуры: через восемь дней после шиитского траура по Хусайну они со своей стороны оплакивали Мус‘аба ибн аз-Зубайра и совершали паломничество на его могилу в Маскине на Дуджайле, как и шииты в Кербелу[535]. А восемь дней спустя после «Дня пруда» сунниты также ввели свой контрпраздник — они отмечали день, когда пророк и Абу Бакр укрылись в пещере. В этот день они делали все то, чем отмечали свой «День пруда» шииты. Впервые этот день праздновался суннитами в пятницу, 25 зу-л-хиджжа 389/999 г.[536]. В дни этих празднеств обычно возникали трения между обеими враждующими партиями, вследствие чего некоторые энергичные правители несколько раз запрещали оба праздника[537]. В этот раз в день праздника даже слышны были возгласы «Хаким йа мансур»; иными словами, в самой резиденции Аббасидов взывали к заклятому врагу, находящемуся в Каире. Это уже было чересчур, и халиф не стерпел: он послал свою дворцовую стражу на помощь суннитам, и Алиды пришли к нему с повинной за причиненное оскорбление[538]. В 420/1029 г. за противозаконное вероучение был арестован шиитский проповедник мечети Бараса и вместо него был прислан суннит, который взошел на минбар, согласно обычаям сунны опоясанный мечом, что не было принято у шиитов. Народ забросал его обломками кирпичей, сыпавшимися на него как дождь. У него оказались раздробленными плечо и нос, лицо было разбито в кровь. Халиф пришел от этого в ярость и начертал торжественное послание. В конце концов главы шиитов повинились и назначили другого проповедника, которому заранее писали тексты его проповедей[539].
Большое значение для неожиданно быстрого роста влияния шиизма в IV/X в. имел факт, что лишь в тот период были наконец точно определены обе их великие святыни в Вавилонии. До того времени не было точно установлено, где же похоронен ‘Али. Так, еще в 332/944 г. ал-Мас‘уди пишет: «Одни ищут его могилу в мечети Куфы[540], другие — там же, но во дворце, иные — близ могилы Фатимы в Медине, по мнению же других, верблюд с гробом ‘Али заблудился и прах ‘Али покоится где-то в области племени ат-Тайй»[541]. Шиитствующий Хамданид Абу-л-Хайджа (ум. 317/929) отметил (шаххара) место в Мешхед-Али, почитаемое еще и в наши дни за могилу ‘Али, сооружением большого мавзолея — купола, покоящегося на квадратном строении с колоннами,— который имел по двери с каждой стороны[542]. Везир Ибн Сахлан, будучи больным, дал обет, если он выздоровеет, возвести стену вокруг этой гробницы, что он и исполнил в 401/1011 г.[543]. Первым сановником, о котором мне известно, что он велел себя там похоронить, был умерший в 342/953 г. высокопоставленный чиновник из Басры[544], а из правителей первым был похоронен возле могилы ‘Али ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982), сначала погребенный в Дар ал-Мулк в Багдаде[545]. Тот же самый ‘Адуд ад-Даула соорудил памятник на могиле Хусайна в Кербеле[546], которая еще в 236/850 г. по приказу халифа ал-Мутаваккила была сровнена с землей, перепахана и засеяна[547].
Расположенный близ Мерва монастырь славился в IV/X в. тем, что обладал головой «князя великомучеников»[548]; впрочем, голова эта, как говорят, лишь в 548/1153 г. была, перенесена из Аскалона в Каир[549], в то время как Ибн Таймийа (ум. 728/1328) считает это невежественной басней[550]. В 399/1009 г. один везир в Рее распорядился, чтобы после смерти его тело было доставлено в Кербелу. Сын его запросил у главы Алидов, может ли он приобрести турбу для своего отца возле места погребения Хусайна за 500 динаров, на что ему сообщили, что Алид не берет денег с того, кто ищет прибежища по соседству со своим предком, и он может получить место даром[551]. Внутреннее устройство святыни в Кербеле впервые известно нам из описаний Ибн Баттуты в VIII/XIV в. Что же касается более раннего периода, то мы имеем только известие, что саркофаг был накрыт покровом и перед ним горели свечи[552]. Благочестивые побуждения заставили в конце концов и другого повелителя из Бундов выстроить мечеть и над могилой ар-Рида близ Туса — это была красивейшая мечеть из тех, что в ту пору можно было видеть в Хорасане[553].
В государстве халифов провинции сосуществовали более или менее независимо друг от друга, наподобие федеральных штатов (земель). Центральная власть сносилась с ними не через отраслевые министерства, а в обратном порядке, т.е. каждая область имела в Багдаде свое министерство (диван), которое и вершило там ее дела. А каждое министерство состояло из двух отделов: «основного» отдела (асл), который занимался распределением и сбором налогов[554] и, по всей вероятности, заботился о податных сословиях, т.е. занимался административной деятельностью, и отдела «ведомства финансов» (зимам)[555]. Только халиф ал-Му‘тадид (279—289/892—902) — самый толковый правитель III/IX в.[556] — первый объединил ведомства областей в «ведомство двора» (диван ад-дар)[557] с тремя подотделами: министерством по делам Востока (диван ал-машрик), министерством по делам Запада (диван ал-магриб) и министерством по делам Вавилонии (диван ас-савад, или ал-харадж). Одновременно все финансовые отделы трех министерств были объединены под одним началом[558]. В 300/912 г. были объединены также и «основные» отделы этих министерств с одним-единственным чиновником во главе[559], так что в новом столетии имперский административный аппарат состоял из двух отраслевых министерств: внутренних дел (усул) и финансов (азимма). Этим главным министерствам подчинялся целый ряд ведомств, также именовавшихся «диванами», подобных тем, что обычно имела каждая провинция. Однако поскольку государственный канцлер (везир) — глава центральной власти — сам правил провинцией Вавилония, то некоторые представительства этой провинции в Багдаде являлись в то же время и имперскими ведомствами. К четкому разграничению их функций так никогда и не пришли. Несколько слов об этих ведомствах.
1. Военное ведомство (диван ал-джайш). Оно состояло из палаты военных расходов (маджлис ат-такрир) и палаты набора войск (маджлис ал-мукабала). Некоторые воинские соединения, как лейб-гвардия, и различные отряды в провинциях (бу‘ус), управлялись отдельно[560].
2. Ведомство расходов (диван ан-нафакат) в Багдаде, предназначенных главным образом для нужд двора, так как большая часть Вавилонии была сдана на откуп и откупщики должны были покрывать необходимые издержки двора. В состав этого ведомства входили:
а) палата жалованья (маджлис ал-джари) — главным образом по делам жалованья придворным чиновникам (хашам);
б) палата провиантского довольствия (маджлис ал-анзал), производившая расчеты с поставщиками хлеба, мяса, убойного скота, сладостей, льда, фруктов, дров, масла и т.п.;
в) фуражная палата, которая вела расчеты за поставку фуража для лошадей и т.п., а также для содержавшихся на государственные средства диких животных, производила выплату жалованья персоналу конюших и сторожей и, наконец,— оплату строительных счетов, землемеров, архитекторов, поставщиков гипса, кирпича, извести и белой глины, поставщиков тикового дерева и резчиков по тику, плотников, живописцев и позолотчиков;
г) палата по чрезвычайным случаям (маджлис ал-хавадис);
д) палата составления документов;
е) палата копий[561].
3. Государственное казначейство (диван байт ал-мал). В Багдаде оно являлось контрольной инстанцией между ведомством расходов и министерством внутренних дел. Туда поступали списки статей доходов еще до того, как они направлялись в министерство, а кроме того, все указания ведомств расходов должны были получить визу государственного казначейства[562].
В 314/926 г. было издано предписание еженедельно представлять везиру книги учета движения (рузнамеджат) государственной казны в Багдаде, чтобы он постоянно был в курсе наличия кассы. А до этого времени данные о закрытии (хатма) каждого месяца обычно представлялись в середине следующего[563].
4. Ведомство конфискаций (дар ал-мусадарин)[564]. Платежные ордера его жертв выписывались в двух экземплярах — один поступал в это ведомство, а другой — везиру[565].
5. Канцелярия оформления документов. На Востоке она именовалась диван ар-раса’ил, а в фатимидском Египте — диван ал-инша’[566]. В начале V/XI в. начальник этой канцелярии в Багдаде получал 3 тыс. динаров в год кроме поборов, которые вырастали из оформления всевозможных документов и грамот о назначении (сиджиллат, шухудат и кутуб ат-таклидат), изготовление которых наряду с корреспонденцией халифа и являлось основной обязанностью этого ведомства[567].
6. Главное почтовое ведомство (диван ал-барид). Его начальник «инспектирует чиновников почтовых трактов и заботится об их жалованье. Он обязан знать все тракты, чтобы быть советчиком халифу во время его путешествий или при отправке войска. Он должен прежде всего пользоваться доверием правящего халифа, ибо к нему поступают послания со всех сторон, он доставляет их по адресам и заботится затем о том, чтобы донесения почтмейстеров (асхаб ал-барид) и иные известия представлялись халифу»[568].
Служба связи в империи была весьма высоко развита. Так, правитель Багдада имел возможность послать Ибн Тулуну в Египет туфлю из дома одной из любовниц Ибн Тулуна, о существовании которой знали лишь самые интимные его друзья. Послана она была с угрозой: кто это может, тот и жизнь его держит в своих руках[569]. Чаще всего почтмейстер являлся официальным осведомителем (сахиб ал-хабар), которому его шпионы (‘айн, т.е. «глаз») доносили все новости. Это византийское наследство. Еще при императоре Константине Великом его коллеги, которые к тому же именовались почтмейстерами (veredarii), обеспечивали службу информации[570]. И подобно тому как в наше время клика репортеров, так уже и в те времена литераторы добывали себе кусок хлеба, подвизаясь на поприще службы информации[571]. Грамота о назначении одного почтмейстера от 315/927 г. обязывала его докладывать вплоть до мельчайших подробностей о налоговых чиновниках, о возделывании земли, о положении подданных, об образе жизни судейских чиновников (хуккам), о деятельности монетного двора, о ведомстве, контролировавшем государственных пенсионеров (аулийа). Он обязан был вести книгу о курьерах своего района, куда заносить их число, имена и жалованье, а также число трактов, их протяженность в милях, станции, должен был обеспечивать возможно скорую обработку сумок с почтой. Донесения должны быть отдельными для каждого класса чиновников, судей, полицейских чинов, налоговых агентов и т.п.[572]. Осведомители должны были сообщать не только важное с точки зрения политики, но вообще все, что представляет интерес. В 300/912 г. один из таких осведомителей из Динавера пишет, что его доверенное лицо в другом городе сообщило ему следующее: мул такого-то принес там жеребенка, что всех повергло в изумление. «Я велел доставить мне мула и жеребенка и обнаружил, что мул светло-карей масти, а жеребенок хорошо сложен, со всеми конечностями и свисающим хвостом»[573].
7. Кабинет халифа (диван ат-тауки‘). Туда поступали все прошения, подаваемые на имя повелителя, после их рассмотрения в «ведомстве двора» (диван ад-дар, см. выше). По их исполнении они возвращались обратно в ведомство двора, которое передавало их в соответствующие министерства[574]. Резолюцию писали на самом прошении, и тут уж могла проявить себя остроумная лаконичность повелителя или его секретаря. Сообщается, что резолюции Бармакида Джа‘фара, управлявшего этой канцелярией при Харун ар-Рашиде, собирались любителями. За каждую платили по одному динару[575].
8. Ведомство печати (диван ал-хатам), где распоряжения халифа после их выверки в разных министерствах и канцеляриях в его присутствии скреплялись печатью[576].
9. Ведомство вскрытия печати (диван ал-фадд), где вскрывалась деловая корреспонденция халифа. Раньше эта корреспонденция поступала непосредственно к самому халифу, теперь же она доставлялась везиру, который распределял письма по министерствам. Так диван ал-фадд превратился в кабинет везира, а глава его стал теперь секретарем везира. В министерстве по делам Вавилонии это ведомство сохранило, по-видимому, еще более старое название «почтовая палата» (маджлис ал-аскудар)[577]. Оба этих ведомства, которые около 300/912 г. мы находим уже объединенными под началом одного чиновника, ежемесячно приносили ему доход в 401 динар[578].
10. Государственный банк (диван ал-джахбаза), в который текли комиссионные, взимавшиеся при обмене мелких денег на крупные (кусур), прибыль от ажио[579] на различные денежные курсы (равадж), все, что зарабатывали на системе задатков и просроченных платежей, а также и другие, мне непонятные поступления. Некоторые брали на откуп государственный банк в провинции за большие деньги, возвращая их себе обратно путем незаконных действий[580].
11. Ведомство благотворительности (диван ал-бирр ва-с-садака)[581].
К началу IV/X в. министры (сахиб диван) делились на три ранга[582]. Самое большое жалованье получал министр по делам Вавилонии — 500 динаров в месяц[583], другие — приблизительно одну треть этой суммы. При халифе ал-Му‘тадиде (279—289/892—902) на содержание всех министерств, начиная от самого министра и вплоть до привратников, а также и на расходы на бумагу из тряпья и папирус из бюджета опускалось 4700 динаров в месяц. К этому присоединялось еще жалованье везиру, затем жалованье писарей ведомства платежей и казначеев, которые оплачивались из сумм, отпускаемых на жалованье для вычеркнутых из списков наемников, и из штрафов, налагаемых на всадников, не имевших лошадей; таким образом, их жалованье строилось на дополнительном вознаграждении, определяемом их бдительностью[584]. Деньги должны были выплачиваться в первую неделю месяца[585]. В начале IV/X в. был введен обычай, позднее ставший излюбленным, выплачивать за год меньше двенадцати месячных окладов. Так, в 314/926 г. большинство чиновников получало лишь десять окладов, и, как водится, больше всего от этого страдали более мелкие чиновники, а почтмейстеры и казначеи получали только за восемь месяцев[586]. Однако имелась возможность безубыточного существования посредством совмещения нескольких должностей; так, около 300/912 г. один и тот же чиновник был министром внутренних дел, начальником кабинета халифа (диван ат-тауки‘) и государственного казначейства (байт ал-мал)[587].
Во главе провинций наряду с командующим воинским соединением (амир) стоял и гражданский правитель (‘амил), которого именовали «сборщиком податей», ибо его основной обязанностью являлась доставка налогов с провинции в государственное казначейство. Он же должен был производить необходимые расходы на нужды своей провинции, так как центральное казначейство заботилось только о дворе, министерствах и Багдаде[588]. Оба главы провинции пользовались равным церемониалом канцелярского стиля (куриалиями)[589], общие указы везира всегда одновременно поступали обоим[590]. И все же командующий стоял выше хотя бы уже в том отношении, что с его должностью было связано право «предстояния на молитве» — привилегия, выделявшая его как благороднейшего мусульманина его провинции[591]. Если оба начальника хорошо ладили между собой, то могли делать что им заблагорассудится; например, в 319/931 г. амир и ‘амил Фарса и Кермана договорились между собой не направлять больше налоговые суммы в Багдад и долгое время выдерживали это[592].
Если же кто-нибудь один брал на себя оба эти поста, то он становился как бы неограниченным властителем своей провинции; вот почему честолюбивый тюркский военачальник Беджкем в 325/937 г. соглашался отправиться в Хузистан только в том случае, если ему передадут там «армию и поземельный налог»[593]. Официально так обозначали, например, должность Ахмада ибн Тулуна, а также и Ихшида — двух неограниченных властителей Египта[594].
Дионисий из Телльмахры (ум. 229/843) в конце своей хроники сетует по поводу огромного числа чиновников, которые всеми способами пожирают хлеб бедных[595]. В небольшом городке Ракка на Евфрате сидели, например: 1) кади, 2) налоговый чиновник, 3) командующий гарнизоном, 4) почтмейстер, чтобы докладывать халифу о положении в области, 5) управитель коронными угодьями (савафи), 6) начальник полиции[596]. Такой же штат начальства стоял во главе каждого из тридцати шести округов империи Саманидов[597]. И значительную часть из этого слишком обильного начальства выгоняли прочь при кончине того везира, который их поставил. Тогда они слонялись без дела по улицам столицы и затевали склоки до тех пор, пока их партия вновь не становилась у кормила власти,— точно так же, как еще и в наши дни в Испании и до недавнего времени в Соединенных Штатах Америки. Или же они сеяли смуту и раздор в провинции. Когда к правителю в Исфагане вновь заявился один из таких ищущих места чиновников с целой кучей рекомендательных писем из Багдада, то тот, выйдя из терпения, воскликнул: «Вы, не имеющие мест, вы просто бич страны; каждый день к нам приходит кто-нибудь из вас, требуя должности (тасарруф) или подачки. Если бы у меня в руках были сокровища всей вселенной, то и они уже иссякли бы»[598].
Мудрый султан ‘Адуд ад-Даула платил таким людям жалованье и за время пребывания их без работы, которое высчитывал затем после определения их на должность[599].
Первым установил в Египте твердые ставки (маратиб) чиновникам Ихшид[600]. А Фатимиды целиком переняли его организацию дела. Они откровенно намеревались поделить государство между своими приверженцами, потому что Джаухар, оставив, правда, всех чиновников на их постах, придал каждому по магрибинцу[601]. Когда же те вскоре проявили себя превеликими нарушителями спокойствия, то уже не могло быть и речи о том, чтобы оттеснить издавна сидящее на своих местах чиновничество, сплошь христианское. По дошедшему до нас описанию системы административного управления при Фатимидах везир, правда, получал столько же, сколько и его коллега в Багдаде,— 5 тыс. динаров в месяц, но зато оклады министров были в Каире значительно скромнее: начальник бюро корреспонденции (диван ал-инша’) получал 120 динаров в месяц, глава казначейства (сахиб байт ал-мал) — 100, прочие начальники— от 70 до 30 динаров. В III/IX в. один начальник канцелярии в Египте взял на работу толкового чиновника, который мог самостоятельно отвечать на письма, определив ему жалованье 40 динаров в месяц[602].
В противоположность армии, где среди офицерского состава встречаются почти исключительно имена несвободных, сословие чиновников было целиком сохранено за свободными[603]. Эту карьеру избирали главным образом персы. «Персы захватили должности, раньше их занимали Бармакиды, а теперь Мазераййиты и Фарьябиты»[604]. Принимая во внимание отчетливо выраженный финансовый характер функций чиновника, он имел много общего с купцом, а ведь персы по всей империи как раз и были самыми ловкими торговцами. Так, в наше время один австрийский чиновник, организовавший в Персии почтовую службу, сообщает: «Каждый перс чувствует себя способным ко всему, что угодно, и он никогда не постесняется сегодня занять пост и исполнять функции высокого чиновника гражданского ведомства, а завтра — руководящую военную должность»[605]. Это древняя черта персидского характера. Писарь багдадского султана Бахтийара чувствовал себя настолько многосторонне одаренным, что сумел даже добиться должности военачальника (исфахсалар), из-за чего, правда, он в 358/969 г. вынужден был бежать из Багдада[606].
Жизненный путь чиновников коренным образом отличался от положения юристов или ученых. Чиновники являлись главными носителями светской образованности (адаб) и брали от богословия ровно столько, сколько этого требовало их образование. Различие это проявлялось также и внешне: чиновники никогда не носили спускающейся на затылок головной повязки ученых (тайласан), а только светское платье (дурра‘а)[607]. Когда везир ал-‘Утби принуждал ученого Ибн Зухла (ум. 378/988) занять пост начальника имперской канцелярии (диван ар-раса’ил), то везиру пришлось разъяснить ему, что он по-прежнему останется в пределах сословия ученых, ибо пост этот в Хорасане был юридическим по своим функциям[608]. С другой стороны, халиф отказывался сделать какого-либо ученого везиром, так как в этом случае повсюду пойдет молва, что он-де не имеет в своем государстве ни одного дельного чиновника (катиб)[609].
Существование такого светского сословия чиновников составляло основное различие между мусульманской империей и Европой эпохи раннего средневековья, где только писец имел классическое образование. Эта особенность отнюдь не принесла пользы исламу, так как чиновничество, занятое чисто внешней стороной своей деятельности и пребывая в состоянии интеллектуальной косности, редко рождало страстных борцов за веру. В силу этой особенности чиновничье сословие было удобным прибежищем для образованных противников церкви, которые спасались в его рядах от гнета и раздоров, царящих в духовной жизни империи. Еще и в наши дни какой-нибудь пустой и самодовольный эфенди представляет собою большее препятствие прогрессу, чем самый ограниченный богослов. Основные правила норм морали чиновника и судьи благочестивой легендой приписываются ‘Омару I. Это он, как считается, возложил на своих чиновников соблюдение четырех нижеследующих правил: 1) никогда не ездить верхом на лошади; 2) не носить платья из тонкой материи; 3) никогда не есть лакомств; 4) никогда не закрывать двери перед нуждающимися и не держать секретаря для приема просителей (по-арабски «отказывающий» — хаджиб)[610].
Однако уже в III/IX в. в жизни чиновников злую роль стали играть деньги. Все стоило денег, и прежде всего само место[611], а уплаченные за место деньги приходилось возмещать нечестным путем. «Глава ведомства добывал деньги, получая жалованье за тех служащих, которые не поступали на работу, за людей, которые вообще не существовали, причем делалось это путем занесения слуг (гилман, вукала и хаваши) в ведомости на получение жалованья под видом юристов или писарей; посредством того, что на бумагу списывалось больше, чем ее фактически получали, или же продажей части поступившей бумаги на сторону»[612]. Гражданский правитель Египта (‘амил) получал блестящее жалованье в 3 тыс. динаров в месяц; из этой суммы он, правда, должен был также покрывать расходы на содержание своих контор, однако он подсчитал, что этой суммы ему не хватит, если принять во внимание подарки, которые нужно делать командующему войском, двору и везиру. Даже фаворитку халифа чиновники преследовали до тех пор, пока сам повелитель не посоветовал ей укротить «писарей» подарками[613]. Поэт Ибн ал-Му‘тазз (ум. 296/908) называет чиновников «желчными набатейцами с набитым брюхом, в то время как народ тощает»[614]. А благочестивые люди той эпохи так же, естественно, смешивали в одну кучу чиновников и грешников, как Новый Завет — мытарей и грешников. Один набожный гравер отказался за 100 динаров выгравировать драгоценный камень чиновнику, в то время как сделал такую же работу купцу за 10 дирхемов; другой — отверг 500 динаров, пожертвованных ему купцом. Друзья уговаривали его: этот поступок можно было бы понять, если человек не желает иметь ничего общего с казенными деньгами, ибо такие деньги всегда подозрительны, но ведь это же деньги купца, им самим заработанные[615]. Третий порицал сам себя за то, что садится за стол с одним чиновником; правда, он находит себе оправдание: чиновник, мол, покупает продукты честным путем[616]. «Однажды, когда Ахмад ибн Харб сидел в кругу старейшин и знатных горожан Нишапура, которые пришли засвидетельствовать ему свое почтение, в комнату вошел его сын — пьяный, бренча на гитаре и распевая песни. Ни с кем не здороваясь, он нахально пересек комнату. Ахмад, заметив смущение гостей, спросил: „Что с вами?“ Они отвечали: „Нам стало стыдно оттого, что этот парень в таком виде проходит мимо тебя“. Ахмад ответил на это: „Его следует простить. Однажды ночью мы с женой лакомились кушаньем, присланным нам одним соседом. В ту ночь был зачат этот сын, мы заснули и проспали время молитвы. На следующийдень мы осведомились у нашего соседа, откуда пища, которую он нам послал, и узнали, что она была со свадебного пиршества в доме одного правительственного чиновника“»[617].
Вместо слов «до свидания» при расставании одни серьезно, а другие в шутку говорили: «Кайтесь за определение на должность». А когда один отставной чиновник, соблазнившись тепленьким местечком, вновь поступил на службу, его прозвали «отступник»[618]. Однако общая точка зрения рассматривала нечестное отправление должности как нечто едва ли затрагивающее честь. Авторы хроник даже удивлялись, если высокопоставленные чиновники оказывались честными людьми. Так, сообщается, будто умерший в 314/926 г. управляющий государственным казначейством не оставил после себя денег[619]. Неоднократно заподозренные или даже уличенные в растрате чиновники после уплаты ими растраченных денег или оставлялись на посту, или позднее опять назначались на ту же должность. Но не всегда так обстояло дело; надежное сообщение считает основателем подобной системы Ихшида, наместника Египта, который вообще являл собою финансиста, свободного от предрассудков[620]. Когда с кем-нибудь из чиновников что-либо случалось, то более удачливые коллеги и его подчиненные организовывали подписку, чтобы облегчить ему выплату штрафа[621]. Потребовался такой неистовый благочестивец, как ал-Хаким, чтобы в 404/1013 г., как простому вору, отсечь обе руки начальнику одного министерства за совершенную тем растрату. Впрочем, тот же ал-Хаким вновь поставил в 409/1018 г. этого человека с отрубленными руками на пост главы ведомства расходов, а в 418/1027 г. он даже стал везиром[622].
Развращенность чиновничьего сословия сказалась в империи халифов также и в профессиональном заболевании — титуломании и в напыщенно-замысловатых формах официальной переписки — бедствий, которые вспыхнули в IV/X в. и продолжают свирепствовать и по сей день. Весьма большое значение придавалось высокопарной формуле вежливости в адресовке и обращении деловых писем, в то время как подпись в противоположность европейской традиции, к счастью, формулировалась очень кратко. Это явление начало развиваться еще в III/IX в. До того обращение было простым: отцу такого-то от отца такого-то. Однако ал-Фадл ибн Сахл ввел в 200/815 г. формулу: такому-то, да хранит его Аллах, от такого-то[623]. Затем дело стало быстро развиваться. Мы располагаем перечнем градаций формул обращения, которые употреблялись везиром в начале IV в. Главнокомандующий Сирии имел право на «Аллах да придаст тебе силы, да хранит твою жизнь, да будут милость его и благодеяния его к тебе щедрыми», а мелкий провинциальный офицер на формулу «Аллах да хранит тебя и да простит тебе»; низшая ступень, а именно местные почтмейстеры и правительственные банкиры, имели право только на «Да сохранит тебя Аллах»[624]. К вельможам и везирам в начале века обращались «Наш господин» (сайидна) или «Наш покровитель» (маулана) и притом на «ты». Но уже в 374/984 г. два везира титуловали себя «Великий сахиб» и «Учитель, покровитель и наставник мой» — в 3-м лице[625].
Что мне? Аббасиды двери отверзли почестям и титулам.
Они даровали титул такому человеку, которого их предок не сделал бы даже привратником в отхожем.
Легковесны стали дирхемы в руках этого нашего халифа; и тогда стал он раздавать людям титулы[626],—
поет ал-Хваризми (ум. 383/993).
Верховный кади ал-Маварди получил в 429/1037 г. титул акда ал-кудат — «наирешающий судья». Некоторые богословы осуждали его за это, но в то же время считали законным, что эмир Джалал ад-Даула стал именоваться титулом «великий царь царей», что ал-Маварди опять-таки считал посягательством на титулатуру бога (см. гл. 9 — «Двор»). Позднее все судьи именовали себя акда ал-кудат[627]. И в этом халиф ал-Хаким пытался повернуть вспять уже раз установленное. После того как он сначала с особенной щедростью направо и налево раздавал всевозможные титулы, в 408/1017 г. он упразднил все титулы, за исключением семи самых высоких, разумеется, для того чтобы вскоре опять ввести их[628].
Секретарь халифа ал-Кадира (381—422/991—1031), как передают, ввел еще и поныне повсеместно бытующую формулу вежливости — «присутствие», т.е. и в такой мелкой детали IV/X в. установил закон для современности. Это он первым обратился к везиру: «высокое везирское присутствие» (ал-хадра ал-‘алийа ал-вазирийа). Считается, что этот же человек также впервые применил в отношении халифа описательный титул: «святейшее пророческое присутствие», что затем стало всеобщим обычаем. К нему также восходит причудливая выдумка именовать халифа «служба», «так что я имел возможность читать начертанное рукою кади Ибн Абу-ш-Шавариба: „Слуга высокой службы такой-то“»[629]. Халиф ал-Ка’им даровал своему везиру (убит в 450/1058) три титула: ра’ис ар-ру’аса (глава всех глав), шараф ал-вузара (честь везиров), джамал ал-вара (совершенство рода людского)[630].
Напротив, по-древнему простым остался стиль судебных органов: верховный кади всегда обращается к судьям в своих посланиях только по имени[631].
По пятницам и вторникам все присутственные места были закрыты. Сообщается, что так было определено халифом ал-Му‘тадидом (279—289/892—902) — «по пятницам, потому что это был день молитвы и он любил этот день, ибо в свое время его придворный наставник по пятницам освобождал его от учебных занятий. А кроме того, посреди недели людям необходим день для отдыха и устройства своих личных дел»[632].
С упадком феодального государства и с ростом бюрократии при первых аббасидских халифах появляется везир. Омейядам эта фигура была еще неизвестна[633]. В начале IV/X в. везира продолжают лишать его феодальных прерогатив: халиф забрал у него родовые имения Аббасидов, переданные в управление еще его предшественникам, ежегодно приносившие ему 170 тыс. динаров, и посадил его на одно твердое жалованье — сначала 5 тыс., а затем 7 тыс. динаров в месяц[634]. Все же одну привилегию по сравнению с другими чиновниками он сохранил: он получал содержание на своих сыновей по 500 динаров в месяц, иными словами, жалованье министра[635].
Самым примечательным переломом в общественной жизни был тот факт, что в первоначально заложенной по чисто военному образцу империи везир, верховный «писарь», по занимаемому им рангу стоял над всеми военачальниками. Таким образом, мощная чиновничья иерархия более раннего Востока торжествовала в этом явлении свое возрождение.
Когда в 312/924 г. всемогущий полководец Мунис возвращался в Багдад, то везир встретил его на своем таййаре, «чего не делал прежде ни один везир», чтобы поздравить с благополучным прибытием; при прощании полководец приложился устами к руке везира[636].
В начале IV/X в. аббасидские везиры, как, впрочем, и другие чиновники, обычно носили плащ (дурра‘а), платье (камис), рубашку (мубаттана) и туфли (хуфф)[637]. Официальный цвет одежды был черный[638]. Во время придворных торжеств везир носил платье придворного (сийаб ал-маукиб), кафтан (каба) и меч у пояса (минтака), сохраняя в качестве единственной части гражданской одежды черную головную повязку (‘имама)[639]. Это одеяние торжественно вручалось ему халифом при вступлении в должность. На этот торжественный акт за будущим везиром следовала целая процессия придворных, военачальников, чиновников, которые по завершении церемонии сопровождали его и на обратном пути. Один историк считает нужным сообщить, что некий везир во время этого торжественного шествия, почувствовав сильную потребность помочиться, остановился в доме одного чиновника, за что впоследствии повысил ему жалованье[640]. Возвратившись к себе, везир обычно принимал поздравления от народа в соответствии с различными рангами поздравлявших; халиф посылал ему деньги, одежды[641], благовония, яства, напитки и лед.
Располагаем мы также данными о распорядке работы одного везира, жившего около 300/912 г., правда, с оговоркой, что как раз он сохранил свои привычки начальника канцелярии. «Рано поутру приходили его советники, везир вручал каждому документы по его ведомству и приказывал, что ему нужно было доставить. По вечерам они приносили ему на просмотр готовые работы и оставались у него вплоть до ночи. Когда документы были проверены и ему были представлены бумаги с указанием расходов, распоряжений, составленных документов и оформленных счетов, он прекращал заседание, и все удалялись, после того, как он поднимался со своего места»[642]. Во время этих заседаний каждый чиновник сидел со своей чернильницей на твердо определенном месте, лицом к везиру, а первый секретарь впереди всех против везира[643].
Везир оставлял в своем архиве копии с важных документов, которые после его падения обычно переправляли в дом его преемника. Когда в 304/916 г. Ибн ал-Фурат принял дела после ‘Али ибн ‘Исы, документами последнего был набит до самой крыши целый дом[644]. Говорят также о бамбуковом ящике, где хранились секретные бумаги; на его крышке рукой самого везира был написан перечень документов[645].
Вплоть до 320/932 г. бывший дворец Сулаймана ибн Вахба на восточном берегу Тигра, именовавшийся также Дар ал-мухаррим, имевший периметр в 300 тыс. локтей, являлся должностной резиденцией везира. Позже этот огромный участок, годный под застройку и расположенный в одном из самых дорогих кварталов города, был обращен в деньги: «Его разделили на участки, продали их многим людям, а выручка была использована в качестве почетного дара халифа ал-Кахира войскам»[646]. Для везира же был отделан дворец одного из сыновей халифа[647].
К должностному дворцу везира стягивалось для несения караульной службы такое количество пехоты, что для особо важных поручений можно было посылать до тридцати человек[648]. Во время больших аудиенций везира в зале стояли телохранители, которые сопровождали особо почитаемых персон, а также эскортировали везира при каждом его выходе из зала, выступая перед ним с обнаженными мечами. В таких случаях всегда идет речь о двухстах человек[649].
Ко двору везир обычно отправлялся только в дни аудиенций — к началу века они были по понедельникам и четвергам[650],— как правило, вместе с одним из четырех начальников отделов[651]. Там у везира был особый дом, где придворные свидетельствовали ему свое почтение, пока его не вызывали к повелителю. Однако начиная с 312/924 г. он ожидал приема в доме верховного главнокомандующего — это было признаком упадка значения его сана[652].
Для доклада везир садился перед халифом, как это делали более низкие по сану перед более высокопоставленными, держа при этом в левой руке красивую чернильницу, которую он носил на цепочке. Возросшая в более поздние времена склонность к особым церемониям требовала начиная примерно с 300/912 г., чтобы при этом стоял камергер и держал везиру чернильницу[653]. В остальное время везир имел при дворе своего представителя[654] и придворные держали его в курсе событий, развертывавшихся вокруг персоны халифа[655].
Назначался везир халифом, который обычно утверждал в этой должности везира своего предшественника. В 300/913 г., когда халиф пожелал назначить везира, он составил длинный список кандидатов и послал его своему доверенному человеку, который по причине глубокой старости вышел в отставку с поста везира; тот начертал под каждым именем свое суждение. Когда же этот надежный человек посоветовал халифу на пост везира одного кади, ему крайне не понравилась эта рекомендация: советчику должно быть стыдно и перед правителями государств ислама и перед неверными, так как подобное решение означало бы, что либо в стране его нет ни одного дельного чиновника (катиб), раз везиром ставят юриста, либо халиф просто ошибся в выборе[656]. Однако приблизительно в то же время кади ал-Марвази из Бухары (ум. 334/946) стал везиром саманидского правителя в Хорасане[657].
Эпоха эта была еще столь сильно проникнута духом аристократизма, что из каждой должности вскоре вырастала каста. Так, наряду с целыми семействами кади имелись также роды везиров. И «сыны везиров» (аулад ал-вузара) образовывали самостоятельный класс — высшее чиновничество[658]. Сан везира воспринимался как нечто наследственное до такой степени, что сын везира Ибн Мукла сумел стать везиром уже в 18 лет[659], а сын ал-‘Амида — в 21 год[660]. Род Хакан в течение 70 лет дал четырех везиров, а род Бану-л-Фурат на протяжении 50 лет — тоже четырех. Ал-‘Амид был везиром ‘Имад ад-Даула, основателя империи Бундов, а его сын и внук были везирами Рукн ад-Даула в Иране. Семейство Бану Вахиб, по происхождению христиане из Вавилона, на протяжении десяти поколений кряду передавало друг другу по наследству высшие чиновничьи посты в империи, а четыре человека из их рода были везирами[661]. Один из членов этого семейства, назначенный в 319/931 г. на пост везира, был в молодости мотом и неоднократно подвергался серьезным угрозам кредиторов, пока кади не взял его под свою опеку. А поэтому военачальник Мунис, человек дельный и осмотрительный, высказал мнение, что и на посту везира государства он будет так же плохо управлять делами, как и своим собственным имуществом[662]. Назначение это казалось тем более рискованным, что везир в то же время в значительной мере был и министром финансов. Так, везир должен был составлять расчет государственного бюджета, облагать налогами и отменять их[663], выжимать деньги из провинций[664]. И уже в 303/915 г. войска, требовавшие увеличения жалованья, сожгли скотный двор этого везира вместе со скотиной и порезали его лошадей прямо в конюшне[665]. Следует отметить, что в IV/X в. почти все везиры, оставлявшие свой пост или терявшие его, терпели крах из-за финансовых затруднений. Когда в 334/946 г. везир прослышал, что войска обвиняют его в задержке им жалованья, он обрил голову, вымылся горячей водой, облачился в саван и провел всю ночь в молитве. В конце концов солдаты все же убили его. Был он богослов, постился каждый понедельник и четверг и непрестанно молил бога, чтобы тот даровал ему милость умереть на своем посту[666]. Год 334/946 является важнейшей вехой в истории института везиров. В тот год с вступлением Бундов в Багдад канцлер эмира — высший чиновник правительства — также получил титул везира, в то время как везир халифа уже не имел его больше[667]. Строго говоря, везиров в ту пору вообще больше не было. Хилал ас-Саби, перечисляя в своей «Истории везиров» наиболее выдающихся высших чиновников IV/X в., разделяет их на везиров династии Аббасидов и «писарей» (куттаб) эпохи Дейлемитов[668]. Также и ал-Джаухар, говоря о времени завоевания Египта, вначале отказывает Джа‘фару ибн ал-Фадлу в титуле везира, так как он, мол, не является «везиром халифа»[669]. Даже и Фатимидам на первых порах этот титул, очевидно, казался слишком мирским — высшим чиновником у них был кади. И лишь второй египетский халиф ал-‘Азиз взял себе везира[670] — перешедшего в ислам иудея Ибн Киллиса (ум. 380/990). Даже в более поздние времена «нельзя было в присутствии везира обращаться к верховному кади, именуя его верховным кади, ибо титул этот подобал только везиру»[671]. Ал-Макризи особенно подчеркивает, что после смерти Ибн Киллиса ал-‘Азиз больше не назначал везира, так же как ал- Хаким, и только в V/XI в., при аз-Захире, вновь появился этот титул. А в указанный промежуток времени должность эта именовалась «посредничество» (висата)[672]. Однако народ не делал различия в этих тонкостях титулатуры, так, например, живший около 400/1009 г. христианин Йахйа ибн Са‘ид всегда говорит о везирах.
При правителях областей должность везира претерпевает изменения. Из числа старых имперских везиров ал-Фадл ибн Сахл, везир халифа ал-Ма’муна, носил, правда, титул «мастера двух искусств» (зу-р-ри’асатайн), очевидно из-за того, что он искусно владел и мечом и пером[673]; на военном поприще он, однако, никогда не отличался. Хорошим полководцем был лишь ал-Хасан ибн Махлад, смещенный в 272/885 г. везир халифа ал-Му‘тамида[674]. Начиная с этого времени мы находим, что везиры как Саманидов, так и Бундов были и полководцами и канцлерами одновременно[675]. Даже такому до мозга костей литератору, как Сахиб, пришлось, будучи везиром, вступить на военное поприще[676].
Закат былого величия сана везира, а также воцарившуюся в ту пору грубость нравов характеризует один случай: в 341/952 г. вспыливший Бунд Му‘изз ад-Даула приказал дать своему везиру в Багдаде ал-Мухаллаби, который к тому же возводил свой род к старой омейядской знати, сто пятьдесят палок, бросил его в темницу, но, несмотря на все это, оставил везиром. Правда, он вынужден был сначала осведомиться, можно ли вновь назначать на ту же должность человека после такого обращения с ним, и узнал, к своему успокоению, что кондотьер Мердавидж велел однажды так вздуть своего везира, что тот не мог ни ходить, ни сидеть, и, невзирая на это, опять поручил ему этот же пост[677]. Недостойный сын этого самого Му‘изз ад-Даула взял себе везиром в 362/973 г.[678] придворного повара, «который с полотенцем на плече подносил ему кушанья, отведав их предварительно сам»[679]. А его двоюродный брат, султан ‘Адуд ад-Даула, приказал арестовать своего везира Абу-л-Фатха ибн ал-‘Амида, который уж слишком связался с врагами, ослепить его и отрезать ему нос[680]. Он же заставил своего двоюродного брата прислать к нему везира, того самого бывшего повара, который агитировал против него. Предварительно ослепив несчастного, он приказал возить его на верблюде для публичного поношения среди войска, а затем бросить слонам, которые его затоптали; тело же казненного султан распорядился посадить на кол на мосту через Тигр[681]. Этого беднягу, который, правда, и сам имел на совести немало жестоких поступков[682], один поэт воспел стихами в своей великолепной элегии, где о нем сказано:
Так как лоно земли слишком тесным было, чтобы вместить твои доблести после смерти,
То воздух сделали твоей могилой и вместо савана окутали одеждой ветров[683].
‘Адуд ад-Даула ввел два новшества в должность везира: во-первых, он назначил двух везиров, а во-вторых, один из них — Ибн Мансур Наср ибн Харун — был христианином. Он остался на посту наместника провинции Фарс (родины правителя), а другого везира — ал-Мутаххара ибн ‘Абдаллаха — ‘Адуд ад-Даула взял с собой в Багдад. Ал-Мутаххар ибн ‘Абдаллах был человек гордый: когда ему не удалось очистить вавилонские болота от засевших там разбойников, он вскрыл себе перочинным ножом вены на обеих руках. Для него лучше было умереть, чем предстать пред очи своего повелителя с невыполненным поручением[684]. Его преемник получил лишь должность заместителя имевшего резиденцию в Ширазе везира, ибо эксперимент не удался — между обоими везирами постоянно возникали трения[685].
В 382/992 г. Баха ад-Даула, избравший своей резиденцией Шираз, следуя примеру отца, назначил двух везиров, один из которых был его наместником в Вавилонии[686]. Вокруг иранской канцелярии, которой много лет подряд отлично управлял ас-Сахиб (ум. 384/994)[687], после его смерти завели недостойную спекуляцию. Был назначен преемник. Тогда другой, более высокопоставленный чиновник предложил за эту должность 8 млн. дирхемов. Назначенный предложил шесть за то, чтобы его оставили на этом посту. Повелитель великодушно скостил по два миллиона каждому, назначил обоих везирами и положил в карман 10 миллионов. Оба должны были сидеть на одной скамье и коллективно подписывать документы. Так же сообща высасывали они из страны все соки, а когда дело касалось войны, кидали жребий — кому предводительствовать войском. Это положение кончилось, однако, тем, что один из них приказал убить другого[688].
Только когда в 380/990 г. фатимидский халиф ал-‘Азиз возложил сан везира на христианина ‘Ису, сына Нестория, везир-христианин на Востоке обрел наконец двойника в Египте[689].
Страсть к титулам, давшая пышный цвет около 400/1009 г., являлась ярким, свидетельством того, насколько измельчало тогдашнее общество; она не пощадила и везира. В 411/1020 г. правитель Багдада дарует своему везиру привилегию властителя — он разрешил, чтобы в часы молитвы перед его домом били в барабан, и присваивает ему титул «великого везира» (вазир ал-вузара)[690]. Этот новый титул, который имел столь богатую событиями судьбу, был затем поспешно позаимствован каирским халифом ал-Хакимом (ум. 411/1020)[691]. Историк Хилал ас-Саби (ум. 447/1055) сетовал по поводу этого титула, что он явился одним из напыщенных преувеличений своего времени[692]. В 416/1025 г. везир в Багдаде впервые получил несколько титулов вместе: ‘алам ад-дин (знамя веры), са‘д ад-даула (счастье династии), амин ал-мулк (доверенное лицо царства), шараф ал-мулк (величие царства)[693]. Этим было достигнуто положение, существующее на Востоке наших дней. Заметим, что в противоположность его нетитулованным предшественникам власть этого везира равнялась нулю.
Везиры в IV/X в.
Это в первую очередь ‘Али ибн ал-Фурат, который в 296/909 г., пятидесяти пяти лет от роду, наследовал пост везира у своего брата ал-‘Аббаса. Это был очень богатый человек. «Ни об одном везире, кроме как об Ибн ал-Фурате, не слыхали мы, чтобы за время пребывания в своей должности обладал бы золотом, серебром, недвижимым имуществом на сумму в 10 млн. динаров»,— говорит его современник, историк ас-Сули[694]. Он держал свой двор на весьма широкую ногу, выплачивал ежемесячно около 5000 пенсий от 100 до 5 динаров[695], ежегодно выдавал поэтам 20 тыс. дирхемов постоянного жалованья, не считая случайных подарков и вознаграждений за панегирические стихи[696]. Из числа тех, кто постоянно садился за его стол, упоминают девять его тайных советников и среди них —четырех христиан. Целых два часа подавались им все новые и новые блюда[697]. Ибн ал-Фурат держал целую полковую кухню для огромного количества своих подчиненных: передают, что эта кухня ежедневно поглощала 90 овец, 30 ягнят, 200 кур, 200 куропаток и 200 голубей. День и ночь пять пекарей пекли пшеничный хлеб, непрерывно готовили сладости. При доме был большой зал для питья, в котором стоял огромный резервуар с холодной водой, и всякий, кто хотел пить, получал там воду, будь то пехотинец или кавалерист, полицейский или канцелярский служащий. Офицерам, придворным и чиновникам подносили фруктовые соки специальные кравчие в одеждах из тончайшего египетского полотна, украшенных вышивками, и с белоснежным полотенцем через плечо[698]. Дворец Ибн ал-Фурата представлял собой целый город; тут даже жили личные портные везира[699]. В нишах зала для питья лежали грудами свитки папируса, чтобы просителям и жалобщикам не надо было их покупать[700]. Передают, что в день его вступления в должность подскочили цены на папирус и воск, так как он распорядился выдавать каждому, кто приходил его поздравлять, свиток мансуровской бумаги[701] и десятифунтовую восковую свечу; а кравчие израсходовали в тот день в его доме 40 тыс. фунтов льда[702]. Все время своего пребывания на посту он сохранял обыкновение выдавать каждому, кто покидает его дом после наступления сумерек, по восковой свече[703]. В 311/923 г. он основал в Багдаде больницу, на содержание которой ежемесячно отпускал из личной кассы по 200 динаров[704]. Также и по его внутренним качествам в нем было нечто от великодушного монарха. Так, после вступления в должность он, не читая, собственноручно сжег обнаруженные им списки его политических противников[705], а после его отстранения от должности смерть показалась ему милее, чем попытка откупиться при помощи денег[706]. Когда начальник налогового ведомства Египта направил ему показавшееся поддельным распоряжение везира, сообщив при этом, что он тем временем взял под стражу подателя той бумаги, Ибн ал-Фурат ответил, что документ, который и на самом деле был подделан,— подлинный, «ибо тот, кто даже в Египте надеется на добро от его, везира, имени и авторитета, не должен быть предан позору»[707]. А когда смещенный везир ‘Али ибн ‘Иса изо всех сил унижался перед ним, лобызал ему руку и даже встал на колени перед его десятилетним сынишкой, Ибн ал-Фурат высказал предположение, что этим он ничего не добьется, что его печень (т.е. темперамент) в несчастье увеличивается, как у верблюда, да, пожалуй, еще и вдвое[708]. К тому же Ибн ал-Фурат благодаря долгой службе был хорошо знаком со всеми хитростями и уловками чиновничьего ремесла, виртуозно управлял всем запутанным финансовым хозяйством империи, и его преемник был во многих отношениях прав, когда воскликнул: «Сегодня скончалось „писарское искусство“!»[709]. О политической мудрости старый практик рассуждал весьма прохладно: «Править государством — это в сущности искусство фокусника: если хорошо и уверенно проделывать фокусы, то они становятся политикой»[710]. Другая его максима гласила: «Для правления лучше, когда его дела идут с ошибками, чем когда они правильны, но стоят на месте»; и, наконец, еще одна: «Если у тебя есть дело к везиру, но ты можешь разрешить его с библиотекарем или с секретарем, то сделай так и не доводи дело до везира»[711].
Совершенно хладнокровно запускал он руку в государственную казну. Вместе со своим братом он в огромных масштабах мошеннически обирал государство[712]; его критики даже сердились на него за то, что при изъятии его состояния были обнаружены мешки с деньгами, еще опечатанные печатью личного казначея халифа[713]. «Стоит ему ступить десять шагов,— рассказывал один из его чиновников,— он похищает 700 тыс. динаров». «После восстания Ибн ал-Му‘тазза я вместе с Ибн ал-Фуратом, находясь во дворце халифа, определил основные статьи расхода на жалованье войскам и дал распоряжение о выплате. Когда с этим было покончено, везир сел в свой таййар и направился к каналу ал-Му‘алли. Прибыв туда, он крикнул: „Стой!“. Матросы причалили к берегу, и везир обратился ко мне: „Дай указание казначею Абу Хорасану, чтобы он доставил мне еще 700 тыс. динаров, которые занесены в книгу как жалованье войскам и должны быть распределены среди них“. Я сказал про себя: „Разве мы не распределили все статьи; что означает эта дополнительная надбавка?“ — однако выполнил, что он велел. Он подписал распоряжение, отдал его слуге, сказав при этом: „Не отступай ни на шаг от казны, пока ты не доставишь эти деньги в мой дом“. Затем поехал дальше. Деньги были доставлены, вручены его казначею, и я заметил, что он позабыл взять хоть что-нибудь из этой кучи денег для себя»[714].
Прямой противоположностью ему был его бывший приятель, а позднее соперник — ‘Али ибн ‘Иса, также родом из старой чиновничьей семьи[715]. Он был набожен, днем постился[716] и половину своих доходов обращал на благотворительные дела[717]. В противоположность Ибн ал-Фурату он был нелюбезен в обращении, даже и по отношению к самому халифу[718]. Филологу ал-Ахфашу он дал во время официальной аудиенции такой грубый ответ, что «у того свет померк в глазах» и он умер от такого оскорбления[719]. ‘Али ибн ‘Иса никогда не был неряшлив в одежде; туфли он снимал только в гареме или когда отходил ко сну[720]. Работал он день и ночь[721], и для того чтобы даже к концу перегруженного работой дня прямо сидеть перед своими чиновниками, он велел класть в дверные ниши подушки и закрывать их занавесями, чтобы никто не видал, как он прислоняется к ним[722]. Что в несчастье, напротив, чувство собственного достоинства изменило ему — это мы уже видели. Из благочестивых побуждений он был против чиновников из христиан[723], из добросовестности он не разрешил своим сыновьям занимать служебные посты во время своего везирства[724]. Дефицит в государственном бюджете он пытался предотвратить бережливостью, снижал гвардии и чиновникам жалованье, вычеркивал, между прочим, и обычное в «день заклания»[725] распределение мяса всем дворцовым и государственным служителям, стремился воспрепятствовать хищению государственных денег. Однако Ибн ал-Фурат упрекал его за то, что он заботится о морали людей, подсчитывает, не обманывают ли на корме для содержащихся за счет государства гусей на багдадских прудах, и предает при этом забвению самое главное — доходы от налогов[726]. Другой чиновник подсчитал, что везир за час получает 20 динаров жалованья, а занимается такими мелочами, которые даже и жалованья его не стоят[727].
Несмотря на свою благочестивую и мелочную натуру, он солгал халифу после своего падения, будто у него имеется всего 3 тыс. динаров, чтобы тотчас же быть уличенным в том, что у него где-то запрятано 17 тыс., а затем, по прошествии короткого времени, дать обещание выплатить государству 300 тыс. динаров, из коих 1/3 в течение тридцати дней, а остальное позже[728]. Позднее верховный правитель имел право упрекнуть его в том, что он в свое время клятвенно заверял, будто его имение стоит всего лишь 20 тыс. динаров, в то время как на самом деле оно стоило 50 тыс. Это разоблачение произвело впечатление, «как будто он, [халиф], дал ‘Али ибн ‘Исе проглотить камень»[729]. Руки его тоже не были чисты: свою великую мягкость к обоим артистам от финансов, которые в ту пору обгладывали Сирию и Египет, он так никогда и не смог оправдать[730].
В промежутке между этими двумя везирами в течение двух лет этот пост занимал ал-Хакани — родом из высокопоставленной дворцовой знати и сын везира. Суждение о нем кое в чем кажется мнением о демократе, человеке из народа: «Он был неряшлив и общителен, и при этом приземист и хитер»[731]. Когда его о чем-нибудь просили, он ударял себя в грудь и восклицал: «Да! Охотно!» — за что получил прозвище «Ударяй-в-грудь». Он пользовался большей популярностью в народе, чем у знати[732]. Описания его личности сопровождаются то безобидно комическими, то ядовитыми анекдотами, которые частично относятся к кому-то совсем другому. Напротив, его манера назначать чиновников и тотчас же их снимать или заменять в меньшей степени объяснялась его нерадивостью в делах, а скорее его алчностью к существовавшим в то время гонорарам за патент[733]. В одном хане <караван-сарае> в Хулване собралось однажды, как передают, семь чиновников, назначенных на протяжении 20 дней на одну и ту же должность, а в Мосуле — пять[734]. Передают также, что самый важный район Бадурайа, к которому относилась значительная часть Багдада, он в течение 11 месяцев отдал в управление одному за другим 11 префектам[735].
Вот так в начале века стояли друг возле друга три везира, каждый резко отличавшийся от другого, связанные лишь общей для них бесчестностью, позволявшей им залезать в государственную суму.
Хамид ибн ал-‘Аббас[736], ставший везиром в 306/918 г., представлял собой существенное исключение из общего правила, ибо он не происходил из чиновничьего сословия, а начал свою карьеру сборщиком налогов и так постепенно добрался до высоких должностей. Ему было уже 80 лет, когда он стал везиром, но и будучи на этом посту, он все же сохранил за собой аренду за сбор налогов. Абсолютно ничего не смысля в чиновничьем деле, он лишь носил звание и одежды везира, а всеми делами ведал бывший везир ‘Али ибн ‘Иса, что одному поэту дало повод к насмешке: «У нас везир с нянькой»[737]. Или же одного называли «везир без соответствующего сану одеяния», а другого — «одеяние без везира». Когда же халиф высказал сомнение, захочет ли ‘Али ибн ‘Иса быть подчиненным, после того как сам был начальником, бывший сборщик податей ответил ему: «Писарь что портной: он сошьет платье то за 10 дирхемов, то за 1000 динаров»[738]. «Писаря» платили ему за его презрение к ним той же монетой, а когда везир бывал груб со своим свергнутым предшественником, последний язвил: сейчас не время и не место орать, как бывало, на крестьян при взвешивании зерна[739]. С характерной для всякого выскочки роскошью он держал 1700 прислужников (хаджиб) и 400 вооруженных мамлюков. Экипаж его корабля состоял из самого дорогого по тем временам сорта людей — из белых евнухов. Однажды во время перепалки с чернокожим придворным евнухом Муфлихом везир пригрозил ему: «У меня большое желание купить сотню чернокожих евнухов, назвать их всех Муфлихами и подарить моим рабам»[740]. При всем том отличался он, однако, щедростью: когда один придворный пожаловался, что запас ячменя у него приходит к концу, он выписал распоряжение на выдачу ему 100 курр (курр = около 3600 фунтов). На свою кухню он расходовал ежедневно 200 динаров. В обеденное время никто не уходил из его дома, не получив обеда, даже слуги посетителей получали обед, так что порой расставлялось до сорока столов. Халифу он подарил дом, постройка которого обошлась ему 100 тыс. динаров[741]. Однажды во время прогулки, увидав сгоревший дотла дом какого-то бедняка, он приказал, чтобы до вечера дом отстроили заново — в противном случае он будет лишен возможности радоваться, что и было исполнено ценой огромных затрат[742]. Несмотря на все это, у него хватало смелости и дерзости бессовестнейшим образом спекулировать зерном, скопившимся в его амбарах в Вавилонии, Хузистане и Исфагане, что в конце концов привело к огромному восстанию.
Другой везир — Ибн Мукла[743] (род. в Багдаде в 272/885) был простого происхождения[744]; шестнадцати лет от роду вступил на поприще чиновника, достиг высокого положения при помощи Ибн ал-Фурата[745] и настолько преуспел в его школе, что уже через несколько лет с него можно было содрать хорошие деньги. Трижды был он везиром при первых трех халифах столетия и выстроил себе роскошный дом на самом дорогом земельном участке столицы. Так как он очень верил в предсказания по звездам, то собрал астрологов и после захода солнца по их указанию заложил фундамент своего дома. Самым примечательным был обширный парк при его дворце, весь обнесенный решеткой, где не было одних только пальм. Он держал в этом парке всевозможных птиц, а также газелей, диких оленей, диких ослов и верблюдов и занимался различными экспериментами по выведению животных. Когда ему однажды сообщили, что водоплавающая птица оплодотворила сухопутную и та снесла яйца и высидела птенцов, он дал сообщившему 100 динаров[746]. Он был отважный интриган: так, ему приписывается свержение халифа ал-Кахира (322/934)[747]. Он натравил халифа и главнокомандующего Беджкема на тогдашнего правителя Багдада Ибн Ра’ика, который отнял у него поместья[748]. Однако халиф все же вывел его на чистую воду, несмотря даже на то что Ибн Мукла заставил астрологов определить время своего свидания с халифом[749], и в наказание ему отрубили правую руку[750]. Это было тем более жестоко, что Ибн Мукла был знаменитейшим каллиграфом всех эпох и главным создателем того нового арабского почерка, который впоследствии применялся на протяжении столетий[751]. Вместо того чтобы приучаться писать левой рукой, он привязывал калам к обрубку правой и так писал дальше[752]. И несмотря на все это, он так же упрямо продолжал подстрекать и поносить, так что спустя три года ему еще вырезали язык. Умер он в заточении, и историки описывают, как этот когда-то могущественный и обожавший роскошь человек, доставая из колодца воду, зубами держал веревку, когда опоражнивал ведро[753].
Другой везир по ночам пьянствовал, а днем у него голова трещала с похмелья, так что даже процедуру вскрытия почты он поручал разным чиновникам, а исполнение самого важного возлагал на Абу-л-Фараджа Исра’ила, иными словами, на христианина[754]. Все его занятия сводились исключительно к выжиманию денег[755].
Приблизительно около середины столетия заправлял делами в Вавилонии толковый везир Абу Мухаммад ал-Хасан ал-Мухаллаби. Он происходил из старой мусульманской аристократии, рода ал-Мухаллаба ибн Абу Суфры[756]. Семейство это постоянно жило в Басре, где еще в III/IX в. владело прекрасными домами[757]. Однако будущему везиру поначалу пришлось плохо. У него не было даже столь необходимого ему единственного дирхема, чтобы купить себе мяса в дорогу. Один друг дал ему взаймы денег и за это получил позднее от везира 700 дирхемов[758]. Уже будучи везиром, он овладел в богатом событиями 334/946 г. Багдадом, пока в него не вступил сам Му‘изз ад-Даула[759]. Сначала мы встречаем Абу Мухаммада в 326/938 г. на посту заместителя (вакил) управляющего финансами Абу Закариййа ас-Суси[760], затем заместителем везира, от ревности которого ему много пришлось перенести[761]. В 339/950 г., после смерти везира, Му‘изз ад-Даула сделал Абу Мухаммада своим писарем, а титул везира он получил лишь шесть лет спустя[762]. Его друг ал-Исфахани, автор объемистой «Книги песен», превозносит в нем одни только добродетели писаря[763]; однако Абу Мухаммад был также и способным военачальником, который, например, весьма успешно отразил атаки оманских арабов на Басру[764]. Он и умер (352/963) во время похода для завоевания Омана, после того как 13 лет подряд исправлял самую высокую должность в своем государстве[765]. Он добросовестно заботился о сохранении порядка, восстановил в Басре более справедливую старую систему налогов[766], велел чуть не до смерти избить докладчика (хаджиб) верховного кади, за то что тот с гнусными целями преследовал женщин, искавших у него защиты[767]. Хитрость, с которой он разыскивал наследство умерших чиновников, производит, правда, отвратительное впечатление, однако в то время это не считалось унизительным даже для халифов и правителей областей, и Мискавайхи описывает это с восхищением[768]. Народ, напротив, считал гнусным то, что Му‘изз ад-Даула после смерти ал-Мухаллаби тотчас же присвоил себе все его состояние и вымогал деньги у всех людей своего многолетнего слуги вплоть до последнего лодочника[769]. Вообще, в лице своего повелителя ал-Мухаллаби имел трудного хозяина, который даже велел однажды всыпать ему 150 палок. В плохих отношениях был он также с тюркским военачальником Сабуктегином, который пользовался неограниченным доверием у своего господина[770]. Но, несмотря на все это, он в важных делах все же имел власть над Му‘изз ад-Даула; так, ему удалось убедить его и дальше сохранить Багдад в качестве резиденции и построить себе там знаменитый дворец[771]. За его столом собирались ученые и писатели, и его трапезы относятся к числу самых известных трапез столетия[772]. За столом он обычно много пил и держал себя развязно. О щедрости этого везира говорит и ал-Мискавайхи в своей краткой и холодной характеристике[773]. Однажды ал-Мухаллаби получил в дар роскошную, усыпанную драгоценными каменьями чернильницу на высоких ножках. Находившиеся в помещении чиновники тихонько говорили о ней, и один из них заявил, что она очень пригодилась бы ему — на вырученные за нее деньги он смог бы жить, а везир пусть убирается к черту (фи хир уммихи). Ал-Мухаллаби услыхал это и подарил ему чернильницу[774]. Кади ат-Танухи с благодарностью описывает, как он благосклонно продвигал его, юного сына своего старого приятеля, как добыл ему судейскую синекуру и обеспечил уважение верховного кади — старого врага отца юноши — тем, что в его присутствии во время одного торжественного приема оживленно беседовал вполголоса с юношей о пустяках, но с таким видом, будто это были государственные тайны. «На следующее утро кади только что не носил меня на руках»[775].
Самым знаменитым везиром конца столетия был Ибн ‘Аббад в. Рее, получивший прозвище ас-Сахиб[776] — везир иранской империи Бундов (род. 326/938 — ум. 385/995). Начав с сельского учителя, он сумел достичь поистине царственного величия. Его юный повелитель, которому он добыл империю, подчинялся ему решительно во всем и оказывал почет всеми возможными способами[777]. Когда этот везир умер, в стране был объявлен всеобщий траур, как по властителю[778]. Он был одержим великой страстью к литературе. Авторы панегириков в его честь сравнивали его с Харуном ар-Рашидом: как и тот, он собрал вокруг себя лучших представителей искусства слова и состоял в переписке с такими мастерами багдадской и сирийской литературы, как ар-Ради, ас-Саби, Ибн ал-Хаджжадж, Ибн Суккара, Ибн Нубата[779]. Каталог его библиотеки составлял десять томов, одних только трудов по богословию было у него 400 верблюжьих вьюков вопреки тому, что о нем неоднократно говорили, будто он ничего не смыслит в богословии, и невзирая на то, что он проявлял больше склонности к таким философским дисциплинам, как техника, медицина, астрономия, музыка, логика и математика[780], и даже сам написал медицинский трактат[781]. Правда, являть такую благотворительность в отношении литераторов, как, по рассказам, древние покровители поэтов, он уже не мог: «Он давал по 100-500 дирхемов и одно платье, 1000 дирхемов давал он редко»[782]. Особенно любил он одежды из легкого шелка (хазз), а также любил дарить их, и поэтому его придворные чаще всего появлялись в пестрых шелках[783]. Поэт аз-За‘фарани просил как-то у ас-Сахиба платье из флоранса, такое же, как он видел на слугах везира. Везир ответил ему: «Я читал о Ма’не ибн За’иде, что один человек просил его: „Сделай меня наездником, о повелитель!“. Тогда он распорядился выдать ему верблюда, коня, мула, осла и рабыню, сказав при этом: „Если бы мне было известно, что бог создал еще какое-нибудь другое животное для верховой езды, то я бы посадил тебя и на него“. Так же и мы теперь распорядимся, чтобы тебе выдали джуббу, рубаху и платье, шаровары, тюрбан, носовой платок, шарф, плащ и чулки из флоранса. А если бы мы знали о существовании еще какой-нибудь принадлежности туалета, которую шьют из флоранса, то и ее мы также выдали бы тебе»[784].
Несчастливой судьбе ас-Сахиба было угодно вызвать недовольство злейших языков его эпохи. До нас дошло хвалебное послание, которое написал Абу Хаййан ат-Таухиди ему еще в начале их отношений[785]. Они закончились столь ядовитым пасквилем, что эта книга приносила несчастье каждому ее владельцу, но тем не менее этот пасквиль являл собой лучший образец живой, правдивой характеристики человека, написанной изящнейшим арабским языком того века.
Личность везира Ибн ал-‘Амида (ум. 360/971) описал нам ал- Мискавайхи, который много лет был у него библиотекарем; этот человек произвел на него огромное впечатление. «Его бедою было,— посмеивается над историком ал-Мискавайхи ат-Таухиди,— [приговаривать] „Это сказал ал-Мухаллаби“, „Это сказал Ибн ал-‘Амид“ — чем он на всех нагонял скуку»[786]. Описание везира ал-Мискавайхи начинает с восхваления в своем герое необыкновенной памяти, что в ту пору ценилось много выше, чем в наши дни. «Он говаривал не раз, как в годы своей юности часто бился об заклад, что в течение одного дня выучит наизусть 1000 стихов; он был слишком исполнен достоинства и велик, чтобы преувеличивать»[787]. В области поэзии, богословия, естествознания, в логике и философии можно было только поучиться у него. Но, кроме того, он был также сведущ и в таких редких науках, как механика, для чего нужно обладать глубочайшим знанием природы; познаниями в науке о необычных родах движений, о перемещении тяжестей и равновесии. Он изобрел много орудий для штурма крепостей, а также метательных машин, каких не удавалось создать даже древним народам, снаряды с большой дальностью полета и огромной разрушительной силой и зеркала, посредством которых можно было производить поджоги на большом расстоянии[788]. Ради развлечения он мог в течение часа при помощи ногтя вырезать на яблоке лицо, причем столь тонко, что никто другой, располагая инструментами, не смог бы так сделать и за несколько дней. Его письма собраны, включая и то письмо, в котором он говорит об упадке и возрождении провинции Фарс, этот «учебник везирского искусства»[789]. Он был наставником ‘Адуд ад-Даула, самого дельного правителя того века, в искусстве управления государством, «искусство всех искусств», и тот всегда называл его своим учителем[790]. Он также ходил в походы во главе своего войска, но только из-за мучившей его подагры его несли в носилках[791]. Говорил он мало, только когда его спрашивали, и имел обыкновение со скромностью ученика внимать ученым, «пока спустя месяцы и годы он не оживлялся при обсуждении какого-нибудь вопроса, показывая тем самым, что основательно разбирается в этом деле»[792]. Положение его было исключительно тяжелым. С одной стороны — правитель, который удерживал свою власть над войсками только благодаря расточительной щедрости, не хотел выдавать ни единого дирхема на административные нужды, которые бы себя впоследствии окупили, «и бывал доволен доходами в том виде, как они поступали»[793]; с другой стороны — его дейлемитские соплеменники, настолько притеснявшие подданных, что те по ночам, собравшись на пустырях, вынуждены были договариваться, чем бы им еще ублаготворить солдатню[794]. И несмотря на все это, везир навел порядок, рассказывает ал-Мискавайхи, и сумел внушить страх перед своей персоной даже военачальникам, так что каждый, на кого он смотрел с упреком, трепетал от страха, «и мне пришлось это частенько испытывать»[795]. Однако везир хорошо знал завистливый нрав дейлемитов, знал, что их можно обуздать только простотой, без какой бы то ни было показной пышности. Когда же его сын, невзирая на предостережения отца, стал соперничать в роскоши с дейлемитской знатью, приглашал их на игры и охоты, пиры и попойки, отец предугадал в этом гибель своего дома и умер, «подавившись злостью»[796].
«Ибн ал-‘Амид говорил, как только он его видел: „Его глаза бегают, как ртуть, а его шея вертится, как на шарнире“. И он был прав. Ас-Сахиб действительно умел изящно вертеться и извиваться, любил потягиваться и сучить ногами, как женщина, когда ее щекочут, или кокетливая блудница»[797]. Но он не знал ни снисходительности, ни сострадания, и люди бежали от него из-за его грубости и властолюбия. Он был горяч и вспыльчив, завистлив по отношению к вышестоящим и недоверчив к равным. Он убивал и ссылал людей, повергал их в горе, но при всем том даже ребенок мог его перехитрить, а дурак — поймать. Двери его дома всегда были распахнуты, и доступ к нему был легок — стоило его попросить: «Пусть наш повелитель соизволит, чтобы я позаимствовал кое-что из его речей и из его поэтических и прозаических посланий. Все, что приносят ему земли Ферганы, Египта и Тифлиса, мне не нужно, лишь бы извлечь мне пользу из его речей и благодаря ему хорошо изучить арабский язык и красноречие. Послания нашего повелителя — это суры Корана, а их мысли — стихи Корана. Да будет хвала тому, кто соединил в одном — Вселенную и все свое могущество проявил в одном существе!». После этих слов он размякал, таял, забывая обо всех важных делах и каких бы то ни было обязанностях, приказывал библиотекарю достать его послания и, невзирая на бесчисленное количество бумаг, благосклонно выслушивал человека и привлекал его в свое общество. Порою, например, в день ‘ида или по истечении какого-нибудь времени года он сочинял стихотворение, вручал его Абу ‘Исе ибн ал-Мунаджжиму, говоря при этом: «Это стихотворение я посвятил тебе, прочти его на собрании поэтов под видом хвалы в мою честь и будь третьим среди читающих!». Абу ‘Иса — этот багдадский льстец, состарившийся в хитростях и подхалимстве, так и поступал. Он пел ему в уши его же собственную песнь о себе, где везир описывал себя самого и превозносил своей же мудростью. «Еще раз, Абу ‘Иса! Великолепно! Прекрасно, Абу ‘Иса! Сколь же ясны были твои мысли! Как умножился твой талант поэтического вымысла, а рифмы твои так и льются. Это совсем не то ветхое плетение, которое ты преподносил нам на прошлом празднике. Такие собрания, как это, поучают людей, даруют им живость ума, умножают их мудрость, превращают дряхлого мерина в породистого коня, а клячу — в чистокровную лошадь». И он не отпускал его без годового содержания и почетного подарка. Поэты же приходили в ярость, ибо они знали, что Абу ‘Иса не в состоянии накропать даже и полустишья, выдержать в размере целый стих и не может почувствовать вкус цезуры. То, что никто никогда не возразил ему: «это заблуждение»,— а также не обошелся с ним неучтиво, сбивало его с толку, приводило его в состояние восхищения собственными достоинствами, рождало в нем преувеличенное мнение о своем разуме. Но он закоснел в атмосфере, когда ему постоянно твердили: «Наш господин попал в точку! Наш повелитель сказал верно! Божественно! Подобного ему мы в жизни еще не видывали! Кто такой ас-Сули, кто Сари ‘ал-Гавани, кто Ашджа‘ ас-Сулами? Если бы он пошел по их пути, то в метрике наш господин сравнялся бы с ал-Халилом, в правоведении — с Абу Йусуфом, в литературной критике (мувазана) — с ал-Искафи, в чтении Корана — с Ибн Муджахидом, в истории сотворения Вселенной — с Табари, в логике — с Аристотелем, в истории — с Кинди, в искусстве молниеносной остроты — с Абу-л-‘Айна, в каллиграфии — с Ибн Абу Халидом, с ал Джахизом в „Книге о животных“, в искусстве афоризма — с Сахлем ибн Харуном, в искусстве врачевания — с Йоханной, по памяти — с ал-Вакиди… (следует еще целый ряд сравнений). Ты можешь видеть, как во время подобной болтовни он извивается, улыбается, тает и сияет от радости, приговаривая: „Нет! Не так — награда победителю в стихосложении принадлежит им: мы не смогли ни достичь этого, ни следовать по их стопам“. При этом он делал вид, будто стонет, раскидывал ноги, кривил губы, глотал слюну и отклонял принимающей рукой, брал, как колеблющийся, сердился, в то время когда казался довольным, а свое удовлетворение облекал в одежды гнева. Он вел себя то как умирающий, то как царь, то вскакивая, то склоняясь, подобно блуднице, когда ее щекочут, или фигляру. При этом он воображал, будто он судья над судьями нравов и теми, кто определяет цену положениям. Испортило его еще, кроме того, и доверие его господина, который вполне на него положился и редко выслушивал того, кто высказывал о нем свое мнение, так что он стал в конце концов относиться к людям легкомысленно, самодовольно и прихотливо, презирал и малых и великих мира сего и одинаково открывался всякому новому человеку. В итоге ошибок у него было множество, а грехов — куча, но богатство — снисходительный хозяин! Спрашивают: Как мог он, обладая такими качествами, вершить дела? Я отвечаю: Клянусь богом, если бы его место заступила выжившая из ума старуха или глупая рабыня, дела все равно шли бы своим чередом. Он был гарантирован от вопроса: Почему ты поступил вот так и почему ты не сделал этак? Подобные вопросы существуют для царских слуг лишь в самых исключительных случаях. Однажды ал-Харави высказал господину ас-Сахиба свое мнение о выброшенных на ветер деньгах и неумных мероприятиях. Ас-Сахибу подбросили записку, из которой он узнал об этом. Он приказал задушить советчика. Надежные люди из его окружения сообщили мне, что в каждом деле, за которое он только берется, он выносит неправильное решение, и только сопутствующее ему счастье поправляет впоследствии дело и в результате создается впечатление, будто он действительно поступал сообразно откровению свыше, будто в его персоне сокрыты божественные тайны о начале и конце всех вещей. Если бы его мастерство проявлялось в рамках рассудка и благоразумия, то он был бы отличный наставник, ибо был склонен поучать людей потоками слов и оглушительным криком, издевательствами и прославлениями. Это нравится мальчикам, привязывает их к науке, будит в них жажду к ней и соответственно побуждает их учить наизусть Коран и поэтов и усиленно трудиться. Он имел обыкновение настойчиво приглашать ученых не стесняться в его присутствии, не относиться к нему как к везиру, пока те не становились доверчивыми и „не касались рукой запретной грани“, но тогда он приходил в ярость и, резко меняя отношение, говорил: „Эй, раб, возьми эту собаку за руку, тащи ее в темницу, но предварительно отвесь ей по шее, спине и по бокам пятьсот ударов плетью и палкой…“ Однако рассказ — это далеко не то, что виденное воочию: кому не приходилось находиться в этом обществе, тот никогда не видал еще диковинных картин и не знает, что такое бестолковый человек»[798]. Там собирались одни лишь отчаянные, как бойцовые петухи, спорщики, которые, придя в раж, совершали глупые поступки и вопили, и он вопил вместе с ними[799]. Своим чиновникам он давал указания и в таких делах, в которых ничего не смыслил. Так, однажды, обрушившись на одного бухгалтера целым потоком слов, он велел ему представить постатейный расчет своего бюджета. Тот просидел взаперти несколько суток, тщательно выверил расчеты и представил ему. «Он взял расчет у меня из рук, пробежал по нему глазами, не прочитав внимательно, не проверив и не задав ни одного вопроса. Затем кинул его мне и изрек (в рифму): „Это разве расчет? Разве это документ? Разве это чистовик? Разве это утверждение? Разве это сличение и сопоставление? Клянусь богом, если бы я не воспитал тебя в моем доме, денно и нощно не прилагал усилий сделать из тебя толк, если бы не твоя юность и не мое уважение к твоим родителям, я заставил бы тебя сожрать эту бумагу и приказал бы сжечь тебя, облив смолой и нефтью, каждому писарю и бухгалтеру в назидание. Неужели ты думал провести такого, как я! И это меня — состарившегося в расчетах и письме. Клянусь богом, каждую ночь, перед тем как заснуть, я высчитываю в голове доходы с Ирака и доходы всего мира. Неужели тебя ввело в заблуждение, что я ослабил поводья, в коих держал тебя, и ты осмелился утаить свои ошибки и показать свои преимущества? Переделай то, что ты там мне представил, и знай, что ты, между прочим, только что вернулся с того света, а потому умножь твои молитвы и милостыню и никогда не полагайся на подлость и черствость“. Но, клянусь богом, речь его не испугала меня, а равно и болтовня его, потому что я знал его неосведомленность в бухгалтерском деле и его неспособность в этом. Поэтому я пошел, кое-что вычеркнул, другое поменял местами, а затем вернул ему отчет. Он заглянул в него, рассмеялся мне в лицо и вскричал: „Браво! Да благословит тебя бог, это как раз то, чего я хотел, именно в таком виде я и требовал. Спустил бы я тебе в первый раз, во второй раз в тебе не проснулась бы совесть!“»[800].
Насколько ясным и простым выглядит мусульманское законоположение о взимании налогов в трудах теоретиков от Абу Йусуфа до ал-Маварди и в сводах хадисов, настолько запутанным, пестрым и сложным было оно в действительности. Это происходило отнюдь не от различий финансового дела в бывших византийских и персидских провинциях; ведь и в доарабскую эпоху также существовали различия, между сирийским, египетским и североафриканским уложением о налогах, так же как и между вавилонским, хорасанским и южноперсидским.
Более или менее равномерно в пределах империи производились только чисто мусульманские поборы: подушная подать с христиан и иудеев и налог в пользу нищих с мусульман. Эти налоги рассчитывались ежемесячно, так же как и суммы с наследственной аренды, сборы с мельниц, за земельные участки в городах и т.п., причем все эти ежемесячные поборы взимались из расчета лунного года. На деле их брали из этого расчета только в больших городах, мало зависящих от урожая. Однако при сборе налогов в сельской местности приходилось считаться с крестьянином, с семенами и урожаем, иными словами, руководствоваться солнечным годом[801].
Так обстояло дело в бывшей греческой половине империи, т.е. в коптской и сирийской части; на Востоке руководствовались персидским календарем, там сбор налогов начинался с персидского Нового года[802]. Это было естественно в более ранние времена, когда Новый год приходился еще на летнее солнцестояние — время уборки урожая[803]. Теперь же Новый год приходился на начало весны, т.е. до уборки урожая, и поэтому уже халифы III/IX в. не раз пытались учредить другой налоговый год. Так ал-Мутаваккил определил началом взимания налогов в 243/857 г. семнадцатое июня, но умер, так и не успев осуществить это нововведение. Передают, что халифу ал-Му‘тадиду как-то во время охоты бросилось в глаза, что хлеб стоит совсем еще зеленый, а чиновники уже готовятся собирать налоги. После этого он приказал в 281/894 г. начать налоговый год одиннадцатого июля и одновременно унифицировал различные календари налоговых ведомств. Восток должен был отныне приспосабливаться к Западу: халиф распорядился, чтобы и персидский календарь, где обычно каждые 120 лет вводился добавочный месяц, следуя греческому и сирийскому образцу, вставлял каждые четыре года один дополнительный день[804]. Однако, так как лунный календарь нельзя было отменить из религиозных соображений, то параллельно существовали два календарных года различной длины, что создавало невероятную путаницу. Отличали, например, 300-й лунный год (ас-санат ал-хилалиййа) от 300-го налогового года (ас-санат ал-хараджиййа), а так как оба эти года в конце концов столь сильно расходились, «что налоговый год именовался по лунному, который давно уже закончился, и поскольку к лунному году никак нельзя было прибавить 13-й месяц, ибо тогда все священные месяцы сдвинулись бы со своих мест, а помесячные годовые налоги стали бы слишком куцыми», то в 350/961 г. было решено каждые 32 года пропускать один налоговый год и таким образом хоть как-то привести в соответствие оба типа расчетов. И 350-й налоговый год тотчас же превратился в 351-й. До нас дошло разработанное ас-Саби предписание[805].
Другим своеобразием мусульманского финансового управления было то, что налоговые ведомства провинций в то же время являлись и государственной казной: из своих доходов они покрывали штатные расходы (нафакат ратиба) и суммы на содержание войск, и только разница, т.е. нетто-доходы, препровождалась в центральное казначейство[806]. Поэтому суммы этого дохода употреблялись исключительно на нужды двора, на содержание гарнизона резиденции халифа, министерств и восточной части Багдада, на частноправовых основаниях принадлежавшей двору. Западная сторона, т.е. собственно город, являлась частью округа Бадурайа[807].
С бухгалтерией одного налогового ведомства Хорасана в IV/X в. знакомит нас ал-Хваризми[808]. Мы находим там:
раскладка налогов (канун[809]);
налоговый счет (аварадж), на который каждому налогоплательщику всякий раз записывались в кредит подлежащие уплате суммы;
журнал (рузнамадж), куда вносили ежедневные доходы и расходы;
закрытие месяца (хатма);
закрытие года (хатма джами‘а);
кассовая книга (та’ридж), в которой отдельные выплаченные суммы располагались построчно для более легкого их суммирования;
отчет (‘арида), разделенный на три столбца: первый для причитающегося по спискам, второй — для фактически полученной суммы и третий — для разницы («в большинстве случаев внесенная сумма была меньше, чем раскладка»);
расписка в уплате налога (бара’а);
окончательный расчет (джама‘а);
списание со счета (мувафака).
Сохранился также государственный бюджет за 306/918 г.; он кладет в основу общий расчет за 303 г. В нем, как и в книгах отдельных налоговых ведомств, против доходов ставились расходы, среди которых различали, как и у нас, штатные (ратиба) и внештатные (хадиса); заканчивался бюджет, как и у нас, суммой дефицита. Налоговые суммы с Вавилонии, Хузистана, Фарса и Ирана имели там только денежное выражение, в то время как еще около 260/873 г. наряду с денежным выражением приводилась и натуральная повинность; таким образом, это было выражением развития системы денежного хозяйства на Востоке. Напротив, сирийские и месопотамские провинции еще производили расчеты по двум видам[810]. Этим господством денег, убивавшим все более тонкие оттенки, да и вообще тысячелетним искоренением земной деловитостью всего духовного и обусловлено, что в бюджете полностью отсутствуют все те символические расходы, которые делают столь пестрыми налоговые ведомости западного средневековья. Лишь о городе Исбиджабе в Туркестане, на самой границе империи, имеются сведения, что он ежегодно отправлял в качестве поземельного налога (харадж) четыре гроша и одну метлу[811]. Однако, несмотря на это, около 300/912 г. стало обычаем вместе с данью или налогом посылать ко двору также отдельные диковинки. Так, в 299/911 г. из Египта вместе с деньгами прибыл козел с выменем, дававшим молоко[812], в 301/913 г. из Омана были доставлены белый попугай и черная газель[813], в 305/917 г. из Омана же — черная птица, говорившая по-персидски и по-индийски лучше, чем попугай, и черные антилопы[814].
В качестве важной формы землевладения по всей империи имело распространение ленное владение — наследственная аренда (икта‘); и на Востоке и на Западе это была древняя традиция. «Наследственная аренда установление персидское»,— категорически заявляет писавший о Востоке Абу Йусуф[815], на Западе же она восходила к римлянам. Как на Востоке, так и на Западе таким путем государственные земли и пустоши (agri deserti) переходили от правительства в частные руки[816]. Обложение налогами этих ленных владельцев регулировалось, правда, в каждом отдельном случае договорами и, согласно теоретикам, платили они одну десятую дохода[817]. Владельцы этих земель отнюдь не были в лучшем положении, чем обычные землевладельцы. Так, в одном сочинении IV/X в. встречается анекдот, повествующий о том, что Харун ар-Рашид намеревался дать своему лейб-медику в ленное владение земельные угодья, тот же, однако, попросил лучше дать ему денег, чтобы купить эти земли, подчеркнув при этом, что среди его владений нет ленных[818]. И все же большинство судебных разбирательств вызывалось как раз тем, что владелец поместья выдавал его за ленное, а правительство рассматривало поместье как обычную землю, подлежащую обложению налогом[819]. Ленные земли постоянно возвращались в руки правительства либо через конфискацию, либо из-за запустения, причем последнее чаще всего происходило как следствие невыносимого налогового бремени. Так, в III/IX в. при Саффаридах из Фарса выехало так много землевладельцев, подлежавших обложению земельным налогом, что тогдашнее правительство прибавило причитающуюся с них сумму налогов к налогам с оставшихся, и это непомерное увеличение налогов воспринималось как народное бедствие. Когда же эта провинция вновь вошла в состав империи, из Фарса отправилась в Багдад депутация и добилась того, что халиф отменил в 303/915 г. распоряжение об этой прибавке (такмила)[820]. Таким образом, подобная мера в то время, очевидно, не представляла на Востоке исключения, а в Египте круговая порука общины за одиночных беглецов даже являлась правилом; относительно Месопотамии можно найти указания, что такой порядок касался лишь подушной подати[821]. Такого рода круговая порука была отменена во Франции перед самой революцией, а в России только в 1906 г.
Другие земли правительство удерживало за собой как государственные владения (дийа‘ султаниййа). В хорошие времена они умножались путем покупки других имений[822], а в 323/935 г., наоборот, часть их пришлось продать, чтобы погасить заем[823]. Если правительство было слабым, то эти государственные домены постоянно находились под угрозой захвата расположенными по соседству крупными землевладельцами[824].
Чтобы избежать налогового гнета, мелкие землевладельцы отдавали свои поместья под покровительство более могущественных, и тогда они писались на их имя и вместо земельного налога уплачивалась лишь ленная десятина, но земля оставалась во владении бывшего хозяина, который мог ее и продать и передать по наследству. Форма эта стара: еще в византийском Египте таким путем возникали крупные землевладения. Сообщается об этом и во времена Омейядов[825], а в IV/X в. это явление даже имело особую рубрику в налоговых ведомствах Хорасана[826]; удивительно часто это практиковалось около 300/912 г. в изнывающем под бременем налогов Фарсе[827]. Однако на Востоке эти подзащитные никогда не становились крепостными своих покровителей, так это было установлено законом в Египте в 415 г. н.э.[828].
В фиск поступала также одна пятая часть добытых сокровищ как из копей, так и поднятых со дна морского, затем выкуп за сбежавших рабов, владельца которых не удавалось найти, изъятое у разбойников имущество, хозяева которого не объявлялись, и, наконец, фиск являлся наследником в тех случаях, когда таковых не было[829]. Последнее, собственно говоря, относилось только к мусульманам; так, например, наследство ал-Хатиба ал-Багдади (200 динаров) досталось казне[830]. В соответствии с изречением пророка: «Мусульманин не может наследовать от неверного, а неверный от мусульманина», халиф в 311/923 г. вынес такое определение: имущество христиан или иудеев, не имеющее наследников, отходит к общине умершего, но не к государству[831]. Среди юристов многие даже защищали совсем уж современное положение, что наследство должно переходить не к отдаленным родственникам, а к государству. Это имело особо важное значение, так как, по мнению некоторых законоведов, даже вполне близкие наследники получали лишь установленную Кораном квоту, и казна таким образом весьма часто приглашалась в сонаследники[832]. В III/IX в. при халифе ал-Му‘тамиде (256—279/869—892) было организовано особое фискальное ведомство по делам наследования (диван ал-маварис)[833] — превосходное поле деятельности для махинаций алчных на деньги чиновников.
Горе тому, чей отец умер богатым! Долго держали его взаперти в доме бедствия, и он (неправедный чиновник) говорил: Кто знает, что ты его сын?
И если он отвечал: Сосед мой и все, кто знает меня,— они выщипывали у него бороду, пока он не слабел,
И били его, и пинали изрядно…
И оставался он в теснейшей темнице до тех пор, пока не бросал им свой кошелек.
Так сетовал в конце III/IX в. Ибн ал-Му‘тазз[834].
Халиф ар-Ради еще мог держать в узде правительственные вожделения на наследства, и, когда султан Вавилонии первый раз присвоил себе крупное наследство, халиф вынудил его вернуть награбленное[835]. Напротив, совершенно официально действовал также отважный, но пользующийся известностью у поэтов как плохой правитель Сайф ад-Даула. В 333/944 г. он назначил кади г. Алеппо Абу Хусайна, который прибирал к рукам наследство умерших, приговаривая при этом: «Наследство — Сайф ад-Даула, а Абу Хусайну — комиссионные»[836]. Прославляя правителя Фарса Рукн ад-Даула, его современник ал-Мукаддаси особо отмечает: «При всех своих ошибках он не посягал на наследство»[837]. Из этого высказывания можно составить себе представление об обычных для того времени действиях.
Очень велико было искушение рассматривать имущество, оставшееся после чужеземцев, как наследуемое и присваивать его; однако подобного закона, как, например, это имело место в Англии XIII в.[838], в отношении мусульман не существовало во всей истории ислама. Однажды бундскому наместнику Багдада, умершему в 401/1010 г., принесли большую сумму денег, оставшихся после смерти одного египетского купца, и сообщили: «У умершего нет наследника». Однако наместник заявил, что в правительственную казну не может поступать ничего не принадлежащего ей, и деньги нужно оставить, пока кто-нибудь не объявится. Через некоторое время из Египта приехал брат покойного с документом, облекавшим его полномочиями на наследство, которое и было ему выдано. Слава об этом поступке наместника и похвалы в его адрес прогремели по всему Египту; он слышал об этом и радовался[839]. С инаковерующими в ряде случаев поступали несколько по-другому. В XII в. в Мосуле тяжело заболел рабби Петахья, и врачи объявили его болезнь смертельной. «А так как там был закон, гласивший, что правительство забирает у каждого умершего иудея-чужеземца половину его имущества, а рабби Петахья был роскошно одет, то они говорили: „Он богат“, и правительственные чиновники уже приходили забрать его имущество, как будто он при смерти». Во многих случаях у богатых людей еще при жизни изымалась часть их богатств. Этот обычай возник как своего рода компенсация за имущество, приобретенное чиновниками нечестным путем, подобно тому как Наполеон I заставлял своих чрезмерно разбогатевших маршалов уплачивать правительству большие суммы. Так же и все купцы, с которых драли шкуру, или обделывали делишки с правительством, или по меньшей мере были способны на это. Так, Ибн ал-Му‘тазз, описывая полное насилий время правления ал-Му‘тамида, поет:
И какому-нибудь купцу, имевшему драгоценные камни, золото и от Аллаха привольную жизнь,
Говорили: Правительство хранит у тебя большие деньги.
Он отвечал: Нет, клянусь Аллахом, у меня их и не мало, и не много.
Я заработал только на торговле и никогда не обманывал.
Они же окуривали его дымом сжигаемой соломы и подпаливали его тяжелыми раскаленными кирпичами,
Пока жизнь не становилась ему отравой, его не охватывало малодушие и он не восклицал:
О, хоть бы все деньги провалились в ад!
И давал он им, что они требовали, его отпускали, и думал он лишь о том, как бы уйти, и уходил прочь в оцепенении[840].
Список подобных экзекуций у ал-Хилала[841] содержит, быть может, лишь имена чиновников или банкиров (джахбаз), сотрудничавших с правительством; мне не известно ни одного случая в повествовательной литературе, где бы правительство посягало так на имущества, приобретенные неполитическим путем. «Везир Ибн Мукла ополчился против Абу-л-Хаттаба, но не нашел никакого административного повода (тарик дивани) его схватить, ибо тот уже 20 лет как оставил службу и пребывал у себя дома»[842]. Можно даже проследить развитие этого процесса: в начале IV/X в. это было еще наказание, позднее, однако, всякий, имевший дела с правительством, подозревался в нечистых делах и при удобном случае с него драли шкуру. Особенно хладнокровно производил такие конфискации Ихшид, вице-король Египта, который в денежных делах по сравнению со всеми правителями между 300/912 и 350/961 гг. не страдал угрызениями совести «и брал у каждого все, что мог получить, отдавая предпочтение рабам-оруженосцам знатных господ вкупе с их оружием, лошадьми и одеждами, которых он определял в свою лейб-гвардию»[843]. А тот, кто на протяжении своей жизни был на первом месте, мог быть уверен, что после смерти он потеряет все свое имущество. Системой этот метод стал опять-таки при Ихшиде: «когда умирал кто-нибудь из его военачальников, или чужеземец, или богатый купец, он накладывал на наследство запрет и заставлял наследников платить»[844]. Так, в 323/934 г. он забрал из наследства, оставшегося после торговца биссусом Сулаймана — крупнейшего торговца страны,— 100 тыс. динаров[845]. После смерти ал-Мухаллаби (ум. 352/963), тринадцать лет бывшего у него везиром, Му‘изз ад-Даула забирает все его состояние и вымогает деньги от всех слуг умершего «вплоть до конюхов, матросов и тех, кто прослужил у него хотя бы один-единственный день». Народ счел это отвратительным[846]. А когда умер ас-Сахиб, который, будучи всемогущим везиром, много лет властвовал над северной Персией, его дом был тотчас оцеплен и сам правитель, обыскав его, нашел кошелек с расписками получателей на сумму в 150 тыс. динаров, которые были сданы на хранение на сторону. Они были тотчас же оприходованы, а все, что было в доме и сокровищнице, доставлено во дворец[847]. Прибегали ко всевозможным хитростям, чтобы провести казну в отношении наследства. Депонировали состояние у ряда различных лиц[848] и записывали их в книгах под вымышленными именами[849]. Когда умерщвленный в 366/976 г. везир Ибн ал-‘Амид увидал, что надежды на спасение у него больше нет, он бросил опись своего имущества и сокровищ в печь и сказал своему судье: «Из спрятанных мною денег ни один динар не достанется твоему господину». Даже под пыткой не смогли добиться у него и намека[850]. После смерти Беджкема (326/938) халиф ал-Муттаки, весьма благочестивый повелитель, тотчас же отправился в его дом, рылся там повсюду и собрал два миллиона дирхемов золотом и серебром. Кончил он тем, что приказал промыть в доме землю, что принесло еще 36 тыс. дирхемов[851]. Однако покойник зарыл свои деньги также и в пустыне, разумеется умертвив, как говорили, своих помощников. Правда, его современник Сабит ибн Синан объявляет это ложью: Беджкем, мол, сам описал ему, как он все это сделал: он положил в ящики деньги и рабочих, которые должны были зарывать их, погрузил на мулов; прибыв в пустыню, отослал назад погонщиков, сам взялся за повод и повел караван, в нужном месте выпустил людей, затем снова посадил их в ящики, сделал для себя знак в этом месте и отправился обратно[852]. Для того чтобы раздобыть деньги умершего в 350/961 г. казначея Му‘изз ад-Даула, которого даже сам правитель считал бедным, везир применил искусство детектива. И в конце концов ему удалось установить, что деньги лежат закопанными в комнате парикмахера казначея, нубийца, а на нижней поверхности коромысла деревянных весов записаны тайнописью размер и адрес депонированной суммы[853]. Смерть богатого частного лица была сущей катастрофой для всего его окружения. Его банкиры и друзья вынуждены были скрываться; правительству отказывали в возможности ознакомиться с завещанием, чтобы оно не могло ориентироваться в размещении средств. Но в конце концов семье приходилось откупаться, уплатив значительную сумму — в одном случае 50 тыс. динаров[854].
Согласно строгому мусульманскому праву пошлины также были запрещены, и, несмотря на это, таможни (марасид) стояли повсюду. Юристы выходили из затруднительного положения, помещая пошлину в графу налога на благотворительные нужды (закат) по меньшей мере в пределах той суммы, которую обязаны были платить верующие. Отсюда и та фикция, что купец, один раз уплатив пошлину, имеет право в течение года ездить взад и вперед через границу беспошлинно, но в то же время платить пошлину и за деньги из расчета 10%[855]. На деле же таможенные тарифы были крайне разнообразны. В Джидде, порту Мекки, с каждого верблюжьего вьюка пшеницы взимали полдинара, с одной кипы египетского полотна в зависимости от качества — 2 или 3 динара, с верблюжьего вьюка шерсти — 2 динара; в Кулзуме (Суэц) с каждого верблюжьего вьюка — 1 дирхем. И в других арабских портах также надо было уплачивать пошлину, только размер ее, как указывают, был ниже. Суда, прибывавшие с Запада в Египет, платили пошлину в Александрии, а сирийские — в Фараме[856]. Различные мелкие арабские властители также имели областные таможенные ведомства (марасид барриййа) с различными размерами пошлин. Один взимал с каждого вьюка полдинара, большинство других даже всего лишь 1 дирхем[857]. Вавилония была щедро одарена морскими, речными и дорожными поборами. Особенно дурной славой пользовалась Басра из-за тщательных обысков и бесконечной канители. Во времена ал-Мукаддаси там проходила граница между халифатом и областью карматов, и у ворот города друг против друга располагались таможни обоих государств. За одну-единственную овцу надо было платить 4 дирхема пошлины (т.е. в два раза больше ее стоимости), и к тому же карматская таможня была открыта всего лишь один час в день[858]. В ал-Йахудиййе — торговом квартале Исфагана — каждый верблюжий вьюк облагался ввозной пошлиной в размере 30 дирхемов[859]. Одна из провинций Синда имела дифференцированную пошлину: то, что поступало из Индии, облагалось более высокой пошлиной, чем товары из прочих областей Синда[860].
Как повсеместно в древности, взимались также пошлины и на вывоз. Согласно данным юристов, пограничные гарнизоны должны были обыскивать всех выезжающих, отнимать у них оружие и рабов, просматривать их бумаги: не содержат ли они сведений о верующих[861]. В Трансоксании при переправе через Оксус <Амударья> за каждого раба мужского пола взималось 70-100 дирхемов, за тюркскую девушку — 20-30, за верблюда — 2 дирхема, а за багаж путешественника — 1 дирхем[862]. В Синде же, наоборот, все облагалось вывозными пошлинами, за исключением рабов[863]. В маленьком южноарабском государстве Ассар пошлиной облагался только вывоз[864]. Премию за вывоз знал, пожалуй, только необычайно богатый финиками Керман, где караван-баши за 100 тыс. верблюжьих вьюков фиников, вывезенных караваном в Хорасан, получал от правительства по одному динару[865]. Таможенный досмотр того времени описывается в Омане как нечто исключительно неприятное[866]. В VI/XII в. испанец Ибн Джубайр жалуется на обращение таможенных чиновников в Александрии: «Едва мы прибыли, как на борт поднялись доверенные лица правительства, чтобы переписать все, что ввозится. Все бывшие на корабле верующие должны были один за другим подходить к чиновнику, который записывал их имена, приметы, место рождения. Каждого допрашивали о товарах и наличных деньгах, которые он вез с собой, и со всего этого надлежало уплатить налог на нужды благотворительности (закат), причем не проверяя даже, уплачено ли уже за этот год. А так как большинство путешественников отправились морским путем, чтобы совершить паломничество, то не взяли с собой ничего, кроме провианта в дорогу[867]. И теперь за это они должны были уплатить благотворительный сбор, причем никто даже не спрашивал, миновал ли уже год со времени последнего взноса или нет. Ахмада ибн Хасана доставили на берег, чтобы допросить его о Магрибе и о грузе корабля. Он был препровожден к начальству, затем к кади, от него к таможенным чиновникам, затем к целой толпе слуг султана, и все они обо всем его расспрашивали. Его показания были запротоколированы, после чего его отпустили. Верующим было приказано выгрузить на берег свой багаж и продовольствие, причем на берегу стояли охранники, которые их сторожили и следили за тем, чтобы все их вещи были доставлены в таможню. Затем их вызывали поодиночке, вносили багаж каждого (таможня была битком набита) и приступали к досмотру всех вещей, больших и малых, причем всё бросали в кучу. Залезали путешественникам в карманы, проверяя, нет ли в них чего; после этого их заставляли клясться в том, что у них больше ничего нет. Во время всего этого пропадали многие вещи, ибо руки путались и толчея была превеликая. После этой сцены, исполненной унижения и оскорбления чести, за что мы молим Аллаха даровать нам высокую награду, путешественников отпустили»[868].
Начиная с ранней эпохи ислама, когда еще серьезно считали, что империя принадлежит верующим, существовало разделение между государственной казной (байт ал-мал) и личной кассой правителя (байт мал-ал-хасса). Но так как один и тот же человек черпал и оттуда и отсюда, не давая никому отчета, то в конце концов стало зависеть от его совести, насколько он хотел различать оба этих кошелька[869]. Позднее на эту тему сочинялись трогательные истории о том, сколь робко Абу Бекр и ‘Омар брали взаймы деньги у верующих. Известное выравнивание происходило в тех случаях, когда при пустой государственной казне приходилось расплачиваться личной шкатулке, чтобы не допустить всеобщего краха[870]. Нам известно из письма везира ‘Али ибн ‘Исы, что халиф ал-Му‘тадид (279—289/892—901) и даже бережливый ал-Муктафи (289—295/901—907) изымали деньги из своей личной кассы на нужды государства[871]. При ал-Му‘тадиде к этому еще не привыкли: когда в отсутствие везира его сын, который замещал его, занял деньги на государственные нужды у халифа, то отец писал ему, что он совершил проступок перед ними обоими, ибо ему следовало взять деньги у купцов и уж лучше заплатить им проценты из своих собственных денег и денег отца[872]. В годы правления ал-Муктадира (295—320/907—932) его личная касса жестоко обиралась, но, правда, всегда с оговоркой о возврате. В 319/931 г. везир представил халифу дефицит (‘аджз) на неотложные государственные расходы в сумме 700 тыс. динаров и заявил при этом, что не видит иного выхода, кроме того чтобы главе государства самому выплатить эту сумму. Однако это показалось халифу настолько чудовищным, что он весьма охотно принял предложение некоего честолюбивого человека, который обязался не только возместить все издержки, но и доставить еще 1 млн. динаров в личную кассу халифа. Этот человек, щедро протянувший руку помощи, стал везиром, однако уже на следующий год его вынуждены были снять, так как обнаружили, что он просто подделывал бюджет[873]. В 329/940 г. везир потребовал из личной кассы халифа 500 тыс. динаров для выплаты жалованья войскам и в конце концов получил-таки эту сумму[874].
Выпадавшие на долю халифа как духовного главы верующих пожертвования, издержки на паломничество, на ежегодные военные походы против неверных, на выкуп пленных и прием иностранных послов он все равно должен был оплачивать из своей личной казны[875], но зато все расходы на цивильный лист (апанажи) и содержание двора покрывались за счет государственной казны[876].
Мы располагаем реестром денежных сумм, питавших личную казну халифа, который относится к началу IV/X в.[877]:
1. Наследство предков. Есть сведения, что при Аббасидах самое внушительное наследство, и притом наличными, оставил после себя Харун ар-Рашид — 48 млн. динаров. Однако и халиф ал-Му‘тадид (279—289/892—901) благодаря хорошему ведению дел довел свою личную казну до суммы свыше 9 млн. динаров, что в те времена считалось настолько редкостным случаем, что ему приписывали всевозможные планы на те времена, когда у него будет 10 млн. Говорили, будто он хочет на одну треть снизить земельный налог или будто он намеревается переплавить все золотые монеты в один слиток и установить его затем у ворот дворца, дабы все правители узнали, что он имеет 10 млн. динаров и не нуждается в них. Однако он умер до этого[878]. Его преемник ал-Муктафи (289—295/901—907) довел личное сокровище до суммы в 14 млн.[879]
2. Земельные налоги и налоги с ленных владений Фарса и Кермана (т.е. чистый доход за вычетом расходов). В период с 299/911 до 320/932 г. они составляли 23 млн. дирхемов ежегодно, из коих 4 млн. поступали в государственную казну, так что для личной казны халифа ежегодно оставалось 19 млн. дирхемов. Зато халиф должен был брать на себя экстраординарные расходы обеих провинций: так, например, в 303/915 г. им было израсходовано свыше 7 млн. динаров на их покорение[880].
3. Денежные суммы из Сирии и Египта. В теории подушная подать с иудеев и христиан должна была поступать в личную казну халифа как представителя верующих, а не в государственную казну[881].
4. Доход от «возмещений», конфискаций и с наследств[882].
5. Деньги с поместий и земельный налог с Вавилонии, Хузистана, Востока и Запада.
6. Сбережения: оба последних халифа III/IX в. имели обыкновение ежегодно откладывать 1 млн. дирхемов. При одинаковом ведении хозяйства ал-Муктадир должен был бы после 25 лет своего правления скопить свыше 70 млн. динаров, иными словами, вдвое больше Харун ар-Рашида. Однако ал-Муктадир все промотал. После бедствий, причиненных карматами в 315/927 г., в его личной казне находилось еще полмиллиона динаров[883].
Самой сложной провинцией считался Фарс; из-за его запутанной налоговой системы он являлся высшей школой для правительственных чиновников[884]. «Не спрашивай о бремени и множестве их налогов!» — говорит ал-Мукаддаси[885]. Он заявляет, будто прочел в одной из книг библиотеки ‘Адуд ад-Даула следующее: «Персам, населяющим Фарс, больше, чем всем прочим людям, вдалбливается покорность правительству, они терпеливее всех сносят бесправие, тяжелее всех обложены налогами, а образ мышления у них самый низменный; они никогда еще не ведали справедливости»[886]. И в самом деле, в 303/915 г. Фарс платил налогов намного больше всех других провинций[887]. Недаром ал-Балхи посвящает ему один из самых своих длинных политических экскурсов[888]. Возможно, что уже при Сасанидах состояние этой горной страны было весьма пестрым: неприступные замки в горах, воздвигнутые на скалах, леса и земельная аристократия — все это уже тогда создавало специфически феодальную обстановку. Большинство землевладений являлись ленными[889], и, несмотря на это, денежное хозяйство было развито там столь высоко, что даже батраки коронных владений должны были уплачивать свои подати в дирхемах[890]. Отнесение земель к тому или иному виду налога исходило из того, орошается ли земля при помощи машин или нет, или вообще не может быть орошена. Во втором случае платили 2/3, в третьем — 1/2 налога первой категории[891]. Плодоводство, к которому уложения ислама относят и виноградную лозу, было освобождено халифом ал-Махди от уплаты земельного налога, однако в 303/915 г. под натиском требований крестьян — производителей зерна у плодоводства была отнята эта привилегия и оно было обложено тяжкими налогами: начиная с того времени виноградари платили приблизительно со 150 ар поливных виноградников 1425 дирхемов налога[892]. С каждой пальмы взималось по 1/4 дирхема[893]. Мельницы и заводы по производству розовой воды платили налог халифу[894]. В городах Фарса земля базарных улиц принадлежала правительству, которое взимало за нее арендную плату; дома принадлежали их владельцам.
Все поборы, выходившие за рамки канонических налогов (земельная десятина, налог в пользу нищих, подушные подати христиан и иудеев), всегда считались мусульманскими юристами противозаконными, и именно по этой причине благочестивый везир ‘Али ибн ‘Иса отменил в Мекке косвенные налоги (макс), а в Месопотамии — налог на вино (джибайат ал-хумур)[895]. По той же причине египетский халиф ал-Хаким, когда он вознамерился показать свою набожную приверженность древнеисламским нормам, также отменил все пошлины и налоги, не предусмотренные каноническим правом, а его преемник вынужден был тотчас же ввести их вновь[896]. Как Фарс в отношении земельного налога, так Египет являлся классическим примером в отношении этих косвенных поборов. Списки времени Фатимидов свидетельствуют о том, что все было обложено налогами, лишь воздух был свободен от них[897]. Да, кроме того, со всей суммы налогов должны были еще платить 1/12 «вычетов», 1/10 лажа[898] и один процент гербового сбора[899]. Арабская историческая традиция, приписывающая раннему периоду ислама благочестивое правление в соответствии с каноническим правом, называет Ибн ал-Мудаббира, который в 247/861 г. был управителем финансов Египта, «писарем сатаны» за то, что он ввел незаконные тяготы[900]. Но все они уже были при Птолемеях, римлянах и византийцах. «Невольно встает вопрос: существовал ли вообще в тогдашнем Египте какой-либо поддающийся обложению налогом объект, который остался бы необложенным»[901], в то время как эпоха старого ислама восприняла, кажется, не так уж много издавна привычных фискальных поборов[902]. Ал-Мукаддаси сообщает, что на острове ткачей Тиннисе обложение налогами было особенно тяжким[903]; так, уже около 200/815 г. жители Тинниса жаловались проезжавшему патриарху, что они должны ежегодно платить 5 динаров, которые не в состоянии добыть, а взыскивают с них до жестокости строго. Древние порядки продолжали существовать вплоть до мелочей: особое положение, которое занимала Александрия как налоговый округ в птолемеевском Египте[904], имеет место еще и в начале IV/X в., когда в имперском бюджете было записано: «Египет и Александрия»[905]; даже значительно позднее ал-Калкашанди сообщает, что Александрия платит налоги непосредственно в личную казну султана[906]. Унаследованное Птолемеями, римлянами и византийцами фараоново верховное право на владение землей играет еще важную роль в трудах арабских теоретиков налогового обложения[907]. Также и древнее птолемеевское монопольное право на ряд отраслей хозяйства продолжало оставаться в силе. Так, в первую половину эпохи Фатимидов ал-Мукаддаси рассказывает: «Налоги в Египте обременительны, особенно в Тиннисе, Дамиетте и на берегах Нила. Шатские ткани[908] копт имеет право ткать только в том случае, если на них ставится правительственное клеймо, и может продавать их только назначенным правительством маклерам. То, что продается, правительственный чиновник заносит в список, затем материи скатываются в штуки, зашиваются в циновку <каши>, потом поступают к человеку, который упаковывает их в ящик, далее к тому, кто обвязывает ящики,— и каждый взимает за это сбор. В воротах порта опять взимается кое-что, и каждый ставит на ящике свою отметку. Перед отплытием суда подвергаются обыску. Точно так же в Тиннисе взимают по одному динару с бурдюка масла и т.п., а затем следуют тяжелые поборы в Фустате. На побережье Тинниса я видел одного сидящего там сборщика (дара’иби). Говорят, что доход (кабала) с этой местности составляет 1000 динаров в день; по берегам Нила в Верхнем Египте и на побережье Александрии таких мест много»[909]. На Востоке налоги на право продажи появились лишь во второй половине IV/X в. К концу своего правления ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982) ввел в Багдаде налог на продажу лошадей или каких-либо предметов домашнего хозяйства и учредил монополию на производство искусственного льда и шелка-сырца (казз). Это вызвало следующие негодующие строки:
Неужели на всех базарах Вавилонии существуют поборы
И все, что продается, облагается налогом в один дирхем[910].
Когда же сын ‘Адуд ад-Даула в 375/985 г. захотел взимать с продажи тканей из чистого шелка и хлопчатобумажных одну десятую их стоимости, «в городе вспыхнуло возмущение, заставившее отменить этот налов»[911]. Эти же товары вновь были обложены налогом в 389/998 г., и вновь вспыхнуло большое волнение: народ воспрепятствовал пятничному богослужению в старом городе и сжег дом, в котором хранились налоговые расчеты. Восстание было подавлено, но десятину стали взимать только с тканей из чистого шелка. На каждый кусок, сходивший с ткацкого станка, продававшийся и вывозимый, ставилось клеймо[912]. Дело не ограничилось налогами на предметы роскоши: в 425/1033 г. святой ад-Динавари делает халифу представления о тех бедствиях, которые причиняет народу налог на соль. Налог отменили, указ об отмене был зачитан в соборных мечетях, и на их дверях были начертаны проклятия по адресу того, кто осмелится возобновить это злодеяние. В то время налог на соль ежегодно приносил 2000 динаров[913]. Народ Египта, пожалуй, никогда не восставал против всех этих налогов.
В Сирии обложение товаров налогами было незначительным даже и при египетских халифах. Существовало только, в частности в Иерусалиме, постановление, разрешавшее производить торг только на базарах; запрещалось продавать где-либо в другом месте, а базары должны были платить изрядные суммы сборов[914]. Налоговой спецификой этой провинции являлись «лицензионные сборы» (химайат), например на право держать повозку. Эти сборы приносили столько же, сколько и крайне высокий земельный налог[915]. Пошлины менялись в этой несчастной стране в зависимости от властителя. «Начиная с 330/941 г.,— говорит Ибн Хаукал,— страна разрывалась между людьми, стремившимися обойти один другого; целью каждого из них являлось только то, что он в состоянии был утащить именно сегодня, все стремились набрать сколько могли, пока им позволяло время. Никто не помышлял о строительстве, никто не заботился о стране с благоразумием и рассудительностью»[916]. Тот же Ибн Хаукал утверждает, будто он видел сирийский бюджет на 296/908 г.— за вычетом жалованья чиновникам он составлял 39 млн. дирхемов[917].
И в Египте и в Сирии государственная казна помещалась в главных мечетях; это были увенчанные куполами сооружения на высоких колоннах. А в Фустате она стояла прямо перед минбаром; имела железную дверь, снабженную замком, добирались к которой по деревянным мосткам. Из-за казны мечеть на ночь очищали от людей и запирали[918].
Являлось ли это древним египетско-сирийским обычаем? Может быть, так охранялась в старые времена и церковная казна? Возможно также, что она, как в византийскую и в античную эпоху, являлась не только храмовой, но и государственной казной[919].
Вплоть до середины IV/X в. и позднее возобновлявшаяся каждые четыре года аренда государственных земель также происходила в главной мечети; и это, пожалуй, древнеегипетский обычай[920].
Месопотамия на протяжении большей части столетия (до 370/980 г.) находилась под властью почти независимых Хамданидов. Эти правители из бедуинов, среди которых только Сайф ад-Даула в Алеппо смог вести блестящий и рыцарский образ жизни, притесняли своих подданных с беспечным неразумием кочевников. Они были самыми плохими хозяевами государства, и по сравнению с ними тюрки и персы воспринимались на престоле как мудрые отцы народа. Характерной особенностью их как кочевников была ненависть к деревьям. Так, когда в 333/944 г. г. Алеппо захлопнул свои ворота перед отрядами Сайф ад-Даула, они вырубили в окрестностях города все прекрасные деревья, которые, по словам поэта-современника ас-Санаубари <ум. 945 г. н.э.— Д.Б.>, весьма украшали местность[921]. В Месопотамии они принудительно скупили большую часть земель за десятую часть их стоимости: передают, что Насир ад-Даула в течение своей долгой жизни превратил таким путем почти весь округ Мосула в личную собственность[922]. Они заставляли вырубать на этих землях плодовые деревья и сажать вместо них технические культуры: хлопок, кунжут и рис. Многие жители покидали эти места — целое племя Бану Хабиб, родичи Хамданидов, перешло якобы с 12 тыс. всадников (одна рукопись дает 5 тыс.) к грекам, где они были радушно приняты и откуда начали прилежно грабить свою бывшую несчастную родину. Владения всех беглецов, разумеется, конфисковывались казной. «Однако многие все же предпочитали жить в мусульманской стране из любви к родине, где они провели свою юность, невзирая на то, что они должны были отдавать половину урожая и властелин определял размер налога по своему усмотрению в золоте или серебре». В 358/968 г. один только округ Нисибин давал 5 млн. дирхемов земельного налога, плюс к этому еще 5 тыс. динаров подушной подати, 5 тыс. динаров налога на вино, 5 тыс. динаров налогов на домашних животных и огороды; налоги на мельницы, бани, лавки и государственные земли составляли 10 тыс. динаров. После изгнания Хамданидов вновь приступили к посадке деревьев и закладке виноградников[923]. Не удивительно, что Ибн Хаукал около 370/980 г. объявляет Хамданида богатейшим правителем своего времени наряду с испанским халифом ‘Абд ар-Рахманом II[924]. В 368/978 г. ‘Адуд ад-Даула собрал в одном из самых укрепленных замков сокровищ на сумму около 20 млн. дирхемов[925]. К тому же существовала постоянная распря по поводу дани как с Багдадом, так и с Византией[926].
Для востока империи, который на протяжении столетия платил подати различным правителям, и прежде всего Саманидам и Бундам, цифры налогов в IV/X и III/IX вв. более или менее одинаковы. Ибн Хаукал констатирует это даже в отношении Афганистана[927]. Он дает высокую оценку финансовой политике государства Саманидов, которое включило весь крайний север и восток империи в единую административную систему. «Налоги там ниже, но, несмотря на это, жалованье войску и оклады там щедрее, чем где-либо. Сбор налогов производится дважды в год, и каждый раз собирают 40 млн. дирхемов. Жалованье, напротив, выплачивается в начале каждого квартала и составляет всякий раз 5 млн. дирхемов, т.е. половину государственного дохода. Государственные чиновники, как кади, сборщики податей, начальники округов, начальники полиции и почтовые чиновники одного определенного округа, получают совершенно одинаковое жалованье, которое определяется налоговой способностью округа. Разница между доходами и расходами позволяет соблюдать великую справедливость и мягкость в налоговом управлении»[928]. В Фарсе при ‘Адуд ад-Даула, самом выдающемся правителе столетия, доход вырос с 1 887 500 в 306/918 г. до 2 150 000, иными словами, вырос на 1/6[929]. Он мог щедро раздавать подарки и тем не менее обеспечить себе годовой доход в 3¼ млн. динаров, ибо «он смотрел на динар, но ценил и грош»[930]. Также и Египет в целом пребывал на одном уровне. В III/IX в. чрезмерно энергичный Ибн Тулун сумел выжать из страны около 5 млн. динаров. В смутные времена около середины IV/X в. Египет давал ежегодно 3270 тыс. динаров, чтобы к концу столетия, при везире Йа‘кубе ибн Киллисе вновь подняться до 4 млн.[931] Таким образом, не может быть и речи о каком-то всеобщем финансовом крахе. Все зависело, как впрочем, и повсюду, от того, кто стоял у кормила правления. В 355/965 г. везир заявил Бунду Рукн ад-Даула, что Азербайджан, если он возьмет управление им в свои руки, будет ежегодно приносить ему 50 млн. дирхемов, а более слабому правителю — в лучшем случае 2 млн., «ибо тогда придется вычесть лены дейлемитов и курдов, налоги с сильных, коих он не сможет заставить выполнять их повинности, и все потери, порожденные безалаберностью и невозделыванием земель»[932]. Лишь в Вавилонии мы сталкиваемся с действительно значительным снижением налоговой способности, однако это уже имело место во второй половине III/IX в. Около 240/854 г. Ибн Хордадбех считает, что Вавилония давала еще 78 млн. дирхемов, а около 280/893 г. значительная часть Вавилонии была сдана на откуп приблизительно за 2,5 млн. динаров, значит, примерно в два раза меньше[933]. Наконец, бюджет 306/918 г. устанавливает сумму, едва превышающую 1,5 млн. динаров, т.е. меньше, чем одну треть[934]. Эта сумма дохода позднее, в IV/X в., даже немного поднимается: в 358/968 г. Ибн Фадл взял на откуп Вавилонию за 42 млн. дирхемов, что равнялось по курсу того времени 2,1 млн. динаров[935], а еще позднее ‘Адуд ад-Даула предлагает за нее лишь 30 млн. дирхемов[936]. Разница по отношению к древним временам была столь велика, что раньше «земельный налог с Вавилонии» обозначал самую большую сумму в мире[937], теперь же ‘Адуд ад-Даула заявил, что он желает от Вавилонии иметь титул, а доходы — с Арраджана (прибрежной области в Фарсе)[938]. Основной причиной упадка было заболачивание земель, которые при искусственном орошении требовали исключительно упорядоченного содержания. Большинство земледельцев вынуждено было эмигрировать, большая часть мосульцев были, например, «арабы», прибывшие из Куфы и Басры, и там, в Верхней Месопотамии, лишь в IV/X в. стали возделывать пустовавшие до той поры наносные земли[939]. Как только главная государственная казна вынуждена бывала ограничиваться доходами с Вавилонии, она бывала пуста. Первые финансовые затруднения встретились багдадскому правительству, когда ас-Саффар отторг от империи Фарс. Эти затруднения натолкнули тогда (в 70-е годы III/IX в.) на мысль о внутреннем государственном займе, сначала в форме откровенно принудительной. Регент ал-Муваффак предложил везиру «взять у купцов взаймы (кард), затем обложить их, тебя, писарей и налоговых чиновников некоторой денежной суммой, которая даст нам возможность послать в Фарс войско. Если это нам поможет, тогда мы вернем всем им эту сумму». Однако везир отнюдь не пришел в восторг от этого предложения[940]. Когда около 300/912 г. замедлилось поступление денег с отданной в свое время на откуп провинции Ахваз, правительство в Багдаде дозволило еврею-финансисту Иосифу, сыну Пинхуса, ссудить казне срочную денежную сумму[941]. В 319/931 г. наместники Фарса и Кермана сговорились не платить больше налогов, что заставило везира продать государственные угодья на сумму 50 тыс. динаров — это случилось в первый раз[942] — и, кроме того, он должен был взять ссуду под половину дохода от налогов 320/932 г. Поэтому-то на этот год так мало осталось дохода. Сверх того он должен был занять 200 тыс. динаров, причем за каждый динар вынужден был дать 1 дирхем процентов — таким образом, вероятно, 7% в месяц[943]. В 323/934 г. занятые суммы не смогли вернуть, и везир вынужден был частично выдать кредиторам передаточные векселя на налоговых чиновников Вавилонии, частично продать домены[944]. В 324/935 г. везир вновь берет взаймы у богатых купцов; кроме того, были проданы принадлежавшие казне жилища у стены старого города и т.п.[945]
Отныне в методах взимания налогов опять возрождаются дурные доисламские обычаи. Начало сдаче на откуп налогов на Востоке положили государственные займы, которые впервые применили при халифе ал-Му‘тадиде (279—289/892—901). В то время «мир был дик и глух, а казна пуста» и оставалась еще много времени до поступления налогов, а ежедневно нужно было 7 тыс. динаров для покрытия необходимых расходов, да и то при очень большом их сокращении. Тогда два находчивых чиновника уговорили одного финансиста принять на себя эту сумму, предложив взамен взять налоги нескольких округов Вавилонии. Везир и халиф страшно обрадовались найденному выходу, считая его чем-то чрезвычайно новым и хитроумным[946]. В налоговой ведомости от 303/918 г. отданы на откуп налоги с Востока, Ахваза и Васита, за исключением ленных владений[947]. В 306/918 г. халиф отдал на откуп за 3 млн. динаров в год доходы с Египта[948]. На следующий год даже сам везир взял на откуп земельный налог с Вавилонии, Хузистана и Исфагана и взвинтил цены на зерно, так как в его амбарах скопилась значительная часть урожая. Это переполнило чашу терпения народа, и в Багдаде вспыхнуло восстание с обычной в таких случаях программой: было сорвано пятничное богослужение, разнесены в щепы минбары, сожжены оба моста, открыты тюрьмы, разграблен дом начальника полиции. Правительство наказало нескольких человек, пользующихся дурной славой, остальных оставило на свободе и распорядилось открыть амбары везира и его компаньонов. Договор на откуп был расторгнут, везир вынужден был сместить своих чиновников, но преспокойно остался на посту везира халифа, хотя и предлагал свою отставку[949]. Откупщик земельных налогов, по крайней мере в Вавилонии, был не частным лицом, а облеченным должностью финансовым управителем, взятой им на откуп области[950], в которой он сам назначал и смещал налоговых чиновников[951]. Однако правительство держало при откупщиках чиновников-контролеров, которые доносили, когда откупщик зарабатывал слишком много[952], но в первую очередь следили за тем, чтобы он также соблюдал вмененные ему в обязанность издержки, так как по обычаю он должен был заботиться об исправности каналов и мостов во взятом им на откуп округе, о посевах и общественной безопасности[953]. Более мелкие откупа, как сбор налога в пользу неимущих, передавались в качестве должности по совместительству какому-нибудь купцу или землевладельцу, если они были мусульмане, очень неохотно — военному, ибо «расчеты с ними легко склоняют их к возмущению», как говорил некий везир в начале века[954].
В качестве «откупщиков» своих земель (а не вассалов, как это было в Римской империи германской нации) формально могли выступать большинство правителей областей. На пути к трону они для начала противозаконно занимали города и провинции, затем сражались с войсками халифа, чтобы в конце концов быть признанными повелителями за откупные суммы. Подобные вынужденные «откупа» были для правительства предприятием много худшим, чем обычные. Так, в 296/909 г. Йусуф ибн Абу-с-Садж взял на откуп не отошедшие к Саманидам северные земли империи (Армению и Азербайджан) за 120 тыс. динаров — эта «откупная сумма» равнялась приблизительно одной десятой налоговых доходов с обеих провинций сто лет назад[955]. В 322/934 г. Бунд ‘Имад ад-Даула захватил провинцию Фарс и затем потребовал ее у халифа на откуп, предложив за это миллион дирхемов, в то время как Фарс одним только земельным налогом и налогами с ленных поместий начиная с 299/911 г. на протяжении 20 лет приносил ежегодно 18 миллионов[956]. Так и Оман в начале IV/X в. платил 80 тыс. динаров «откупа», а 100 лет назад, при непосредственном управлении государством, приносил 300 тыс. динаров[957].
Суровые меры при взимании налогов были исконно древними, но, пожалуй, и необходимыми. Управитель Бадурайи, сельскохозяйственного округа Багдада, писал везиру наступающего IV/X в. ‘Али ибн ‘Исе: «Люди там известны своей толстокожестью и не очень чувствительны к тюрьмам и оковам»; он должен получить свободу действий, чтобы «направить их на верный путь» и выжать из них деньги. Везир, однако, определил, что за недоимки можно в лучшем случае применить долговую тюрьму, иное же — особенно пытки — непозволительно[958]. Подобное определение соответствует теории, которая во времена Харуна ар-Рашида запрещала «из-за налогов бить плетьми, подвешивать на блоке и заковывать в цепи»[959]. И эта теория была при том же халифе применена на практике: «Вплоть до 184/800 г. имущих людей пытали за неуплату налога. Тогда это было отменено Харуном ар-Рашидом»[960]. В 187/803 г. на пост налогового управителя Египта был назначен некий человек, который обещал выколачивать налоги, не прибегая к помощи «плети и палки»[961]. Однако уже около 200/815 г. Дионисий из Телльмахры характеризует сборщиков налогов Месопотамии как «насильников, безбожных и безжалостных людей родом из Вавилонии, Басры и ‘Акула, более злобных, чем змеи; они избивали людей, бросали их в тюрьмы, подвешивали грузных людей за одну руку, что едва не влекло за собой их смерть»[962]. В конце III/IX в. принц Ибн ал-Му‘тазз воспевает административный стиль ненавистного ему везира Ибн Булбула и описывает, сколь безжалостно выколачивались при нем налоги:
Не одного, не одного знатного, достойного, по-рыцарски благородного мужа — можно было видеть — волокли палачи в тюрьмы и налоговые управления.
Выставляли его на ад полуденного солнца, пока голова его не уподоблялась кипящему котлу.
Его руки опутывали пеньковыми веревками, которые прорезали суставы.
И подвешивали его на стенной крюк, как сосуд с холодной водой[963].
И били его по голове, как по барабану, коварно подмигивая глазами злорадствующего и друга.
Когда он молил спасти его от палящих солнечных лучей, сборщик налогов отвечал ему пинками, а тюремный страж лил на него масло, так что он превращался из бизза в…[964]
Когда же пытка становилась ему невыносимой и он не мог уже избежать их требований,
Говорил он: Позвольте мне попросить взаймы у купцов, а если не удастся, то продать участок земли.
И дайте мне сроку пять дней, а потом заковывайте меня в цепи, как вам заблагорассудится.
Но они нажимали на него и давали только четыре, и из речей нельзя было дальше ни на что надеяться.
И тогда приходили к нему нечестивые помощники и ссужали ему деньги из расчета один за 10 (т.е. 1000%),
Писали купчую на продажу и вынуждали его принести клятву на продажу.
Тогда платил он свой долг, уходил прочь, отнюдь не выказывая радости вблизи них.
А палачи приходили к нему и клянчили у него подачки, будто они массировали его в бане[965].
Если же он отказывался, они сдирали у него с головы повязку и расцарапывали ему шею и череп[966].
Еще более жестоким пыткам подвергали, когда дело шло о «возврате» государственных денег; в этом случае в первую очередь налагали тяжелые оковы на ноги и применяли битье и подвешивание за одну руку[967]. Так поступил халиф ал-Кадир в отношении матери своего предшественника и брата, пока она не отдала свои деньги, не распродала имения и даже не прекратила религиозные пожертвования. Кади, который должен был засвидетельствовать ее подпись, увидал «бледную старую женщину со следами тяжких страданий; целый день ничто не радовало нас по причине такой превратности судьбы»[968]. Затем применялся также допрос с пристрастием, когда под ногти загоняли заостренную тростниковую палочку[969] или били жертву дубинкой по голове[970]. Некий очевидец описывает, в каком виде вернулась жертва из тюрьмы: «Оковы содрали кожу до крови, одежда была перепачкана, волосы отросли, а нервы его трепетали»[971]. Для усугубления мучений на жертву надевали шерстяное платье, пропитанное нефтью или мочой[972]. Но когда в 325/936 г. тюркский кондотьер Беджкем ставил на тело людям, из которых он выжимал деньги, жаровню с раскаленными углями, ему указали, что это скверный обычай, которому он научился у персидского военачальника Мердавиджа: «Но здесь все же Багдад и обиталище халифа, а не Рей или Исфаган». И он действительно отказался от этого приема[973]. Вообще эти допросы с пристрастием воспринимались как нечто богопротивное. Это может подтвердить одна история, рассказанная в IV/X в.: «Я был у Ибн ал-Фурата во время его первого везирства (296—299/908—911); он сидел и работал; вдруг он поднял голову и, отложив в сторону дела, произнес: „Мне нужен человек, который не верил бы ни в бога, ни в день Страшного суда, но повиновался бы мне полностью. Я хочу использовать его для одного важного дела; выполнит он то, что я ему поручу,— я щедро его вознагражу“. Все присутствующие насторожились, как вдруг вскочил один человек по имени Абу Мансур, брат камергера везира, и сказал: „Я такой человек, везир!“ Везир спросил: „Ты хочешь это сделать?“ — „Я хочу сделать это и даже больше того!“ — „Какое ты получаешь жалованье?“ — „129 динаров в месяц“.— „Выдайте ему вдвойне! Что тебе еще нужно?“ — И все его желания были удовлетворены. Тогда везир сказал: „Вот, возьми мой письменный приказ, ступай в налоговое ведомство, отдай его чиновнику и потребуй от него выписку задолженности Ибн ал-Хаджжаджа, а затем требуй у него деньги хоть до смерти, но пока все деньги не будут собраны, не поддавайся на уговоры и не давай отсрочки!“ Человек этот отправился, прихватив с собой в карауле у ворот 30 человек. Тогда я [рассказчик] сказал: „Я тоже хочу пойти в налоговое ведомство и посмотреть, чем кончится эта история“. Я пришел в контору, когда Абу Мансур вручил одному из обоих начальников приказ везира и потребовал выписку долгов Ибн ал-Хаджжаджа. Начальник сказал: „Ровно один миллион дирхемов“. Он, однако, потребовал полный перечень всех претензий, затем велел доставить Ибн ал-Хаджжаджа и принялся бранить его и поносить всячески, в то время как тот льстил ему и всячески угождал. Тогда он приказал обнажить его и бить, истязуемый же только приговаривал: „Да охранит Аллах!“. Абу Мансур приказал установить большой столб, прикрепить наверху вал с веревкой, за которую привязали руку Ибн ал-Хаджжаджа. Затем его подтянули вверх, а Абу Мансур не переставал кричать: „Деньги! Деньги!“. Подвешенный умолял опустить его, чтобы он мог переговорить с чиновниками о том, что с него требуют. Но Абу Мансур ничего и слышать не хотел и, сидя под столбом, выказывал злость без зла, только для того, чтобы могли доложить везиру о его поведении. Когда же он притомился от препирательств, он сказал державшим веревку: „Бросьте этого ублюдка!“ — думая при этом, что они этого нё сделают. Однако они отпустили веревку, а Ибн ал-Хаджжадж был мужчина жирный и тучный — и он свалился Абу Мансуру на загривок и сломал ему шею. Абу Мансур упал лицом вперед, а Ибн ал-Хаджжадж лишился чувств. Первого унесли на носилках в его дом, и он по дороге умер, второго же отвели обратно в темницу, но от гибели он спасся. После того как его жена уплатила 100 тыс. динаров, его выпустили, выплату остатка отсрочили, а люди удивлялись словам Ибн ал-Фурата: „Мне нужен человек, который не верил бы ни в бога, ни в день Страшного суда, а повиновался бы мне“»[974]. Только в годы жестокого правления Бахтийара в Багдаде, в самую лихую годину столетия, люди, из которых выжимали деньги, обычно умирали под пытками[975].
Крайне омерзительно было наблюдать, как высокопоставленные чиновники поднимали цену на такого беднягу в глазах правителя, как каждый стремился обеспечить себя более высокой суммой, когда ему отдавали на руки осужденного, в надежде выдавить из него более изрядную сумму[976]. Однако это мошенничество тоже особенно процветало при Бахтийаре, и его не следует искать повсеместно.
В IV/X в. цвета халифа были черный и белый. Когда в 320/932 г. халиф ал-Муктадир совершал свою предсмертную поездку, серьезность которой была ему совершенно ясна, он вышел в самом праздничном облачении. На нем был серебряный кафтан, черная повязка, на плечи был накинут плащ пророка, на красной перевязи — меч пророка и в руке посох. Перед ним ехал верхом на лошади наследный принц, также в кафтане, но в белой повязке[977]. Обычно аббасидский правитель, как и все его более сановитые подданные, носил в III/IX и IV/X в. высокую остроконечную шапку (калансува) и персидский кафтан (каба) — все цвета воронова крыла[978]. Черной была и сума, в которой ежедневно к утренней молитве доставляли милостыню халифа[979]. Черным было также и «знамя халифата» (‘алам ал-хилафа); на нем белыми буквами было начертано: «Мухаммад — посланник Аллаха» (Мухаммад расул Аллах)[980]. Однако фатимидские халифы в Каире носили белые цвета — цвет Алидов, их знамена были белые или кроваво-красные; один поэт сравнивает их с анемонами[981]. «Коронация» халифа свершалась следующим образом: он собственноручно прикреплял свое знамя к древку и принимал халифскую печать[982], т.е. с чисто арабской простотой. Напротив, у правителей областей (эмиров) это была настоящая коронация в соответствии с древним языческим обычаем, когда им на голову возлагалась усыпанная драгоценными каменьями диадема, надевались нашейная цепь и два браслета из золота, обычно также усеянные драгоценными камнями[983]. В III/IX в. обычным цветом придворной ливреи был красный; в день особо пышного торжества халиф приказывал выдать каждому кроме его красной куртки и остроконечной шапки еще и новую одежду иного цвета[984]. Однако в IV/X в. во время торжественных приемов оруженосцы стояли перед халифом частично в черном, частью же в белом[985].
Над головами как Аббасидов, так и Фатимидов колыхался в воздухе зонт халифов, защищающий от солнца (шамсат ал-хилафа, в Египте — мизалла), в Багдаде же о нем почти ничего не слышно. В 332/943 г. его несут как знак высокой чести даже над головой наместника[986]; в африканском Каире он слыл символом величия и был такого же цвета, что и облачение халифа[987]. Наконец, признаком верховной власти багдадского халифа было и то, что все пять сроков молитвы возвещались дворцовой стражей ударами в барабаны (табл) или литавры (дабадиб) и трубами (бук). Только в дни дворцового траура эта музыка отменялась на несколько дней[988]. Халиф отчаянно защищал эту привилегию верховной власти от посягательств на нее наместников, но безуспешно: начиная с 368/978 г. ‘Адуд ад-Даула велел бить в барабан перед своими воротами начала трех сроков молитвы, в 418/1027 г. Джалал ад-Даула — четыре и, наконец, в 436/1044 г. наместник приказал бить в барабан все пять раз, как и халиф[989]. Скромным, как и его облачение, оставался и титул халифа: «Повелитель правоверных»[990]. Правда, начиная со второго Аббасида — любопытно, что послужило образцом? — халиф особо получал благочестивое прозвание, принять его почиталось его первой обязанностью после присяги[991]. В 322/933 г. халиф просил своего друга ас-Сули, литератора и знаменитого шахматиста, составить ему подбор подходящих для такого случая имен. Ас-Сули — а эти сведения мы имеем от него самого[992] — послал ему список из 30 имен и посоветовал ему выбрать прозвание ал-муртада би-л-лахи — «любезный Аллаху» и был при этом настолько уверен, что этот титул будет принят, что даже заготовил большую касыду с рифмой на муртада. Однако халифу его предложение пришлось не по вкусу, ибо этим титулом назвал себя в свое время один незадачливый претендент, и он выбрал ар-Ради. Ас-Сули использует свой исторический труд, чтобы спасти для потомства свою выстреленную в воздух хвалебную касыду; к сожалению, он не избавил нас также и от сочиненной позднее касыды на «Ради». Первым ввел перифразу для халифа лишь секретарь халифа ал-Кадира (381—422/991—1031) — «пресвятейшее пророческое присутствие», затем это стало повсеместным обычаем; от того же секретаря исходит и причудливо-витиеватая затея назвать повелителя «служение», так что «я сам читал начертанное рукою кади Абу-ш-Шавариба: Слуга благородного служения такого-то»[993]. Что же касается правителей областей и высших сановников, то среди них страсть к титулам просто свирепствовала, как и среди чиновников. Все они наделялись халифом званиями друга, пособника или опоры «династии» (даула)[994]. Правда, ал-Бируни (ум. 447/1055)[995] считал: «Когда Аббасиды стали щедро награждать своих пособников составными лживыми именами со словом „династия“, дело их династии было уже проиграно»[996]. Во второй половине IV/X в. был сделан еще шаг по пути этих двусложных титулов: ‘Адуд ад-Даула — «опора династии» (ум. 372/982) назывался также еще и Тадж ал-Милла — «венец религии»; в конце концов перешли к трехсложным: Баха ад-Даула — «краса династии» именовался еще Дийа-л-Милла — «свет веры» и Гийас ал-Умма — «помощь общины». Эти титулы с даула повсюду вошли в моду — как у Саманидов, правителей Севера и Востока, так и у Фатимидов и у тюркского Богра-хана, который в 382/992 г. пожаловал сам себя титулом Шихаб ад-Даула — «пламя династии». Вновь ожили и совершенно чуждые исламу богохульные прозвания. Бунды первыми дали своим везирам титулы, принадлежавшие к имени божьему: «единственный» (аухад); «могущественнейший из могущественных» (кафи-л-куфат); «единственный из могущественных» (аухад ал-куфат); другие правители именовали себя сами «повелитель мира» (амир ал-‘алам) и «господин наместников» (саййид ал-умара), за что их клянет ал-Бируни: «О боже! Заставь их вкусить позор в сей жизни и ниспошли им и другим откровение об их обольщении»![997] Наконец, считается, что ал-Кадир (381—422/991—1031) подарил один из самых важных для грядущих лет титул, когда он в первый раз облек именем султан («власть») Махмуда из Газны[998]. Когда же правитель Багдада потребовал себе в 423/1031 г. титул ас-султан ал-му‘аззам малик ал-умам — «могущественная власть, царь народов», то ему отказал в этом ал-Маварди, посредник халифа, указав, что первая часть титула — это сам халиф; вторая часть была изменена в малик ад-даула — «царь династии»[999].
А когда в 429/1037 г. бундский правитель получил даже древний и языческий титул шахиншах ал-а‘зам малик ал-мулук, то народ возмутился и забросал камнями проповедников, которые произносили эти слова во время молитвы в мечети. Несмотря на то что придворные богословы пытались доказать, будто «царь царей земли» не является именем божьим, ибо тогда ведь и издавна бытующий титул верховного кади «судья судей» тоже имя божие, многие серьезные люди были возмущены, а известный писатель ал-Маварди даже сложил из-за этого с себя судейское звание[1000]. Однако этот титул, как известно, процветает и поныне. Хилал ас-Саби недоволен, впрочем, также и наименованием ал-галиб — «победитель», которым в 391/1001 г. халиф нарек своего преемника; он приводит известное изречение на Альгамбре: «Нет победителя кроме Аллаха»[1001]. Истинно священными считались только титулы, дарованные халифом; он милостиво разрешал, чтобы за них ему хорошо платили, и к концу IV/X в. извлекал из этого свои основные доходы. За титул малик ад-даула — «царь династии» правитель Багдада, после того как долго торговались, следует ли ему заплатить до или после пожалования титулом, послал халифу в 423/1031 г.: 2 тыс. динаров, 30 тыс. дирхемов, десять кусков шелка-сырца из Сусы, 100 кусков дорогой парчи, 100 кусков ткани другого сорта, 20 манов[1002] алоэ, 10 манов камфары, 1000 мискалей[1003] амбры, 100 мискалей мускуса и 300 китайских чаш; кроме того, он сделал еще подношения отдельным придворным[1004].
В эту пору придворный этикет вообще сделал огромный шаг вперед и по своей сущности принял такие формы, которые позднее остались неизменными на многие века. Около 200/815 г. к ал-Ма’муну обращались на «ты», как ко всякому смертному[1005], к ал-Муктадиру около 300/912 г. в большинстве случаев обращались так же[1006], хотя обращение в третьем лице, как, например, «повелитель правоверных приказал» и т.д., уже было в ходу. В конце века уже нельзя было так запросто обращаться ни к одному образованному человеку. В начале IV/X в. одного наместника во время приема у правителя сначала называли по имени (исм), всегда звучавшем несколько официально, потом имя, чтобы подчеркнуть большую приязнь, было заменено куньей («отец такого-то»)[1007]. Но в V/XI в. халиф имел право употреблять публично, даже в отношении своего друга, только имя (исм) и лишь в частной беседе употребить интимную кунью[1008]. Ал-Ма’мун подал руку патриарху Дионисию, как и всем, кого он хотел почтить[1009], а когда военачальник Мунис в начале IV/X в. прощался с халифом, то он поцеловал ему руку[1010]. Для выражения особого уважения в те времена целовали вышестоящим особам ногу[1011], равным по положению друзьям — плечо[1012].
Наместник Беджкем при особо торжественных обстоятельствах лобызал ар-Ради бедро и руку[1014].
Мусульманин старого арабского толка счел бы за посягательство на величие Аллаха целовать землю перед каким-нибудь человеком. Византийские послы, представшие в 305/917 г. перед ал-Муктадиром, не делали этого, ибо и мусульманские послы в Византии были освобождены от этого обряда этикета[1015]. В одном рассказе, действие которого разыгрывается также в начале IV/X в., некий робкий писарь намеревался поцеловать землю перед начальником полиции, но тот говорит: «Не делай этого, это обычай, принятый у тиранов»[1016]. Однако в 30-х годах того же столетия правитель Египта бросается перед халифом на землю. Когда Ихшид встретил халифа, то он уже задолго до его приближения спешился — подобно оруженосцу он был опоясан мечом, имел при себе колчан,— поцеловал несколько раз землю, приблизился затем к халифу и приложился к его руке. «Мухаммад ибн Хакан крикнул ему тогда: „Садись на коня, Мухаммад!“, а затем: „Садись на коня, Абу Бакр!“. Передают, что халиф приказал Ибн Хакану обращаться к нему по прозвищу. Однако Ихшид остался стоять перед ним, опираясь на свой меч, а когда сел на коня, то прислуживал халифу с плетью на плече, ибо до сего времени ему не приходилось прислуживать другому халифу. И он хвастался этим, а халифу это понравилось. Он обратился после этого к Ихшиду: „Я жалую тебя твоими провинциями на 30 лет и даю тебе Ануджура в наместники“. Поцеловал тогда Ихшид землю несколько раз кряду и подарил халифу такое же подношение, что и в первый раз, ради сына своего Ануджура и за то, что он обратился к нему, назвав его почетным прозванием»[1017].
Исключительной торжественностью блистали придворные обычаи во время венчания на престол правителя ‘Адуд ад-Даула в 369/979 г. Халиф восседал во дворе для приемов, перед ним лежал Коран ‘Османа, на плечах у него был плащ пророка, а в руке — посох его, и опоясан он был мечом халифов. Вельможи стояли по обе его стороны. Тюрки и дейлемиты вступили во двор без оружия, за ними следовал их повелитель. Когда ему сказали, что сейчас упал на него взор халифа, он поцеловал землю; увидав это, один из его военачальников в испуге спросил его по-персидски: «О царь, разве это бог?» ‘Адуд ад-Даула прошел вперед и еще дважды поцеловал землю. Затем халиф обратился к своему камергеру: «Подведи его поближе!», после чего он подошел еще ближе и вновь дважды поцеловал землю. Халиф дважды повторил приглашение: «Подойди ближе, подойди ближе!». Тогда он приложился к его ноге. Халиф простер над ним руку и трижды произнес: «Садись!», но тот не сел, пока халиф не сказал: «Я поклялся, что ты сядешь». Тогда тот поцеловал стул, приготовленный для него по правую руку халифа, и уселся. Халиф торжественно передал ему управление всеми своими землями. После этого ‘Адуд ад-Даула облачили в прилегающем покое в почетные одежды, возложили на него корону и вручили ему знамя (лива). А три дня спустя халиф послал ему дары, и в их числе плащ из египетского биссуса, золотой ключ и хрустальную бутылку. «Напиток в ней был такой старый и настолько загустел, что казалось, будто кто-то уже пил его, хотя бутылка и была закупорена шелком с печатью»[1018].
В Египте эпохи Фатимидов благоговение зашло еще дальше: когда в 366/976 г. в мечети ал-Азхар зачитывался указ о назначении нового кади, «последний, делал вид, что он собирается пасть ниц всякий раз, как упоминалось имя Му‘изза или кого-нибудь из членов его семьи»[1019]: точно так же целовал он в 398/1008 г. землю, когда произносилось имя ал-Хакима[1020]. Да ведь даже на базарах люди падали ниц, когда называлось имя этого халифа[1021]. Но когда ал-Хаким ударился в староисламские традиции, он запретил целовать перед собой землю и обращаться к нему маулана — «наш государь». Однако уже при его преемнике аз-Захире поступали так же, как и при его предшественниках[1022]. И перед имперским регентом Ибн ‘Аммаром многие падали ниц, избранные лобызали его стремя, а интимные друзья — колено и руку[1023].
Приблизительно в это же время в качестве примера высшего куртуазного воспитания приводят одного придворного правителя Бухары: во время его беседы с повелителем к нему в туфлю забрался скорпион и несколько раз его ужалил, но он и глазом не моргнул. Лишь оставшись один, он снял с ноги туфлю[1024]. При дворе Ихшида в Мисре показывали слона и жирафа, все рабы, слуги и солдаты дивились на них. Один Кафур не спускал глаз со своего господина из боязни, что он. может ему понадобиться и тот заметит его невнимательность[1025]. В 332/944 г. ал-Мас‘уди пространно говорит об этой придворной внимательности. Он превозносит один случай, когда некий хузайлит, беседуя с халифом ас-Саффахом, не двинулся с места, даже когда сорванная ураганом с крыши черепица упала посреди зала[1026]; как придворный одного из персидских царей во время прогулки верхом с таким увлечением внимал хорошо ему известному рассказу властелина, что свалился вместе с лошадью в ручей, но с того времени стал пользоваться неограниченным доверием повелителя[1027].
В официальной переписке, а также между собой наместники в высшей степени подобострастно говорят о повелителе правоверных, называя его «наш господин» (маулана), себя же они именуют его «вольноотпущенниками» (маула)[1028]. Письма к посторонним лицам тоже неизменно начинаются с констатации: «Господин наш, повелитель верующих, находится в добром здравии, вознесем же за это хвалу Аллаху и возблагодарим его»[1029], и все излагается так, будто исходит от халифа[1030]. Когда далеко на севере, в Рее, близ нынешнего Тегерана, везир преподнес своему государю огромную золотую памятную медаль, то на одной ее стороне было выбито имя халифа и наместника и место чеканки, а на другой — стихи[1031].
Однако в личном общении с правителями областей повелителю правоверных пришлось горько расплачиваться за свое растущее бессилие. Так как тюрк Беджкем у себя дома никогда ничего не пил, пока виночерпий не пригубит первым, то и ар-Ради, когда наместник обедал у него, первым отведывал все яства и напитки, и все просьбы Беджкема так и не могли его удержать от этого[1032].
Больше всего пострадал престиж двора халифа при ал-Мустакфи (333—334/944—946), который целиком и полностью был в руках одной честолюбивой персиянки. Она сама надзирала за дворцовыми служащими, «дворец превратился в улицу для всякого, кто не знал халифа, и каждого, кто приходил к ал-Мустакфи, он принимал. В угоду этой женщине он осыпал наместника Тузуна неслыханными почестями, он мог разъезжать верхом по дворцу, где раньше не ездил даже ни один халиф, да и балдахин халифа несли над ним»[1033]. К несчастью для повелителя, «дейлемиты были шиитами и не испытывали к нему никакого благоговения»[1034]. Зачинщики дворцовых переворотов и до этого свергали и умерщвляли халифов, теперь же впервые публично выказывалось неуважение к нему. В 334/945 г. ал-Мустакфи давал торжественную аудиенцию, вокруг него, расположившись по рангу, сидели приближенные. Вошел Му‘изз ад-Даула, поцеловал землю, затем руку халифа. Вдруг вошли два его воина-дейлемита и что-то громко крикнули по-персидски. Халиф подумал, что они хотят приложиться к его руке и протянул им руку. Тогда они схватили его, бросили наземь, обмотали шею его же головной повязкой и поволокли прочь. Му‘изз ад-Даула вскочил, все дико закричали, затрубили трубы, а халифа тем временем доставили в дом султана и там ослепили[1035]. Лишь умный ‘Адуд ад-Даула «снова почитал халифа, к чему тот уже более не был привычен»[1036]. Но и сам он, направляясь в 370/980 г. в Багдад, потребовал, чтобы халиф вышел ему навстречу до моста через ан-Нахраваи. «Это был первый случай, когда халиф торжественно встречал эмира»[1037].
На дворцовом бюджете халифа ал-Му‘тадида (279—289/892—901) состояли:
1) принцы (эмиры) халифского дома;
2) дворцовая служба (науба). Ежедневно около 1000 динаров жалованья, из которых 700 выплачивалось белым, т.е. собственно привратникам (бавваб), и 300 чернокожим, главным образом рабам халифа[1038]. Но так как последние получали мало жалованья, то им выдавался хлеб;
3) вольноотпущенники, чаще всего бывшие рабы отца халифа (мамалик). Из них набирали камергеров (худжжаб) в количестве 25 человек и их заместителей (хулафа ал-худжжаб), которых было 500 человек[1039]. Один из последних бросился во время последнего сражения ал-Муктадира к своему господину, чтобы прикрыть его своим телом, и пал, сраженный[1040]. В 329/940 г. впервые был пожалован титул «обер-камергера» (хаджиб ал-худжжаб)[1041];
4) гвардия. В багдадском гарнизоне отряды различных начальников, частично состоявшие из их вооруженных рабов, образовывали сплоченные и надежные воинские соединения, как, например, отряд грека Иоанна Яниса (йанисиййа), полк евнуха Муфлиха (муфлихиййа). Другие же состояли большей частью из рабов самого халифа и набирались из числа лучших всадников и стрелков войска (‘аскар ал-хасса). Из всех этих отрядов выбирали полк личной гвардии — «отборные» (мухтарин) — как называлась и личная гвардия ал-Хумаравайхи в Египте[1042]. На их обязанности было нести службу во время аудиенций и выездов халифа;
5) прочая придворная челядь, личная канцелярия, чтецы Корана, муэззины, астрономы и часовщики, рассказчики историй, шуты, курьеры, знаменосцы, барабанщики и трубачи, водоносы, придворные ремесленники — от золотых дел мастеров до плотников и шорников, пять конюших, стоявших под началом шталмейстера, причем пятый был погонщиком верблюдов, егеря и служители зверинца, повара и камердинеры, лейб-медики, команды придворных судов, ламповщики и т.п.;
6) женщины, на содержание которых ежедневно расходовалось 100 динаров[1043]. Точных данных об их количестве нет нигде. Ал-Хваризми утверждает, что у ал-Мутаваккила было в гареме 12 тыс. женщин[1044], более ранние сведения ал-Мас‘уди приводят 4 тыс., а одна рукопись дает даже всего 400[1045]. Около 300/912 г. гаремами заведовали две обер-гофмейстерины (кахрамана) — одна от халифа, а другая от его матери. Надзору первой поручались высокопоставленные государственные пленники, находившиеся под более легким арестом, так, например, в 300/912 г.— везир Ибн ал-Фурат[1046] в 303/915 г.— хамданидский правитель и везир ‘Али ибн ‘Иса[1047]. Безразличие к происхождению жен халифа, чаще всего тюркских и греческих рабынь, порождало среди придворных и высших чинов государственного аппарата постоянный страх и неуверенность. Каждая дама старалась как можно лучше пристроить своих сторонников. Так, уже отец ар-Рашида привлек ко двору своего шурина, который сначала был рабом, затем как вольноотпущенный — смотрителем виноградников и в конце концов был назначен наместником Йемена[1048]. «Брат матери» ал-Муктадира — грек, носивший как раб имя «Редкий» (гариб), имел огромное влияние при дворе, и к нему обращались, называя его эмир — «князь»[1049]. Обер-гофмейстерине, матери халифа, родом из Хашимитов, удалось сделать своего брата предводителем знати Аббасидов и Алидов. Но тут, однако, вся знать возмутилась, и он вынужден был передать эту должность — самую аристократическую при дворе — сыну того, кто занимал ее ранее[1050]. Вообще от матери халифа, зачинщицы большинства распрей, в то время так натерпелись, что следующий халиф был избран главным образом потому, что матери его уже не было в живых[1051].
Полагают, что около 300/912 г. одних только евнухов при дворе насчитывалось 11 тыс.[1052], по другим сведениям — 7 тыс. придворных евнухов и 700 камергеров[1053], в то время как добрый старый источник называет число евнухов и придворных слуг вместе 700 человек[1054].
По образцу древнеперсидского двора еще монархи позднего Рима подбирали себе «друзей императора», разделявших с ним трапезу и вместе с ним бражничавших. Также и халиф ал-Ма’мун после 200/815 г., когда он перебрался в Багдад, велел представить ему список тех лиц, которых он намеревался включить в круг своей застольной компании (нудама)[1055]. В соответствии со вкусами повелителя эта компания состояла из литераторов, ученых, людей куртуазного воспитания или военных. Например, Му‘изз ад-Даула оставил из всех нудама халифа только одного врача Синана ибн Сабита. Застольные беседы халифа ал-Му‘тамида (256—279/869—892) были даже собраны и передавались в письменном виде[1056]. «Сотрапезники» получали жалованье[1057].
Первая встреча «сотрапезников» ар-Ради (322—328/933—940) описана ас-Сули. Они сидели в определенном, твердо установленном порядке: четверо[1058] по правую и пять — по левую руку повелителя. Справа первым сидел престарелый принц Исхак ибн ал-Му‘тамид, затем литератор и шахматист ас-Сули, далее некий филолог, гофмейстер одного принца, и Ибн Хамдун, отпрыск одного древнего рода придворной знати. Слева — три придворных литератора из рода ал-Мунаджжим и два ал-Йазиди[1059] из высокопоставленной чиновничьей семьи, «они обучали общество искусству каллиграфии». Сначала читали различные хвалебные стихи, затем ар-Ради сетовал по поводу тяжкого бремени, которое возложило на него его новое звание в эти мрачные времена, и разрешал утешать себя тем, что ведь не искал трона по собственному желанию и поэтому надеется, что ему поможет Аллах. Вслед за этим он рассказывал о постоянном страхе, в котором он жил при своем предшественнике. Тот относился к нему не так, как это надлежит дяде по отношению к сыну брата. Ас-Сули утешал его примером пророка, которому также пришлось многое выстрадать от своего дяди Абу Лахаба, так что Аллах даже ниспослал об этом суру. «В ту ночь мы просидели у него три часа; мы пили, а он не пил, ибо он совершенно отказался от вина»[1060]. «Сотрапезники», сидевшие во время этого первого собрания справа и слева, составляли каждый дежурную смену, которой в обычные вечера надлежало являться поочередно[1061]. Ас-Сули особо превозносит ар-Ради за то, что позднее, когда он и сам стал пить вино, он всегда приглашал нескольких человек, в то время как предшествующие халифы предавались питью только вдвоем и попеременно приглашали для этого своих сотрапезников одного за другим[1062]. Перед гостями ставились кубки, полные вина, и чаши с водой, так что каждый, как дома, мог сам брать что ему угодно, в то время как раньше вином потчевали кравчие. Ас-Сули рассказывает также и о состязаниях в питье вина, причем победитель показывал халифу опорожненный кубок. В конце концов халифу это надоело, и он сравнил эти кубки с сосудами для мочи, которые показывают врачу[1063].
Некоторые государи, как рассказывают, устанавливали особый знак, по которому их друзья узнавали, что они желают прекратить беседу. Йездигерд, например, говорил: «Вот и ночь минула», Шапур — «Хватит, о человек!», ‘Омар — «Настало время молитвы!», ‘Абд ал-Малик — «Если вам угодно!», ар-Рашид — «Субхан Аллах!», а ал-Васик поглаживал виски[1064].
Содержание двора поглощало огромные суммы. Для кухни и пекарен ежемесячно отпускалось 10 тыс. динаров. На один только мускус кухня халифа ежемесячно записывала около 300 динаров, несмотря на то, что халиф терпеть не мог его присутствия в пище, в крайнем случае совсем немного в печенье[1065]. К этому еще 120 динаров в месяц на водоносов, 200 динаров на свечи и ламповое масло, 30 динаров на лекарства для дворцовой аптеки, 3 тыс. динаров на благовония и бани, на содержание кладовых с одеждой, оружием, шорными изделиями и коврами[1066]. Передают, что в гареме ал-Хумаравайхи довольствие было настолько обильным, что повара даже продавали кое-что на сторону. «Тот, к кому приходил гость, шел к воротам гарема и мог там дешево купить самую изысканную пищу, какую нигде не готовили так хорошо»[1067]. Когда халиф ал-Кахир собрался всерьез экономить, он приказал, чтобы ему самому к столу подавали фруктов только на один динар — а до этого на фрукты ежедневно расходовалось 30 динаров — и только двенадцать перемен, и вместо 30 сладких блюд лишь столько, сколько ему было потребно[1068]. В то время уже наступили более скудные времена. В 325/937 г. число камергеров было уменьшено с 500 до 60[1069]. В 334/945 г. Му‘изз ад-Даула отобрал у халифа все финансовые дела и посадил его на дневное довольствие в 2 тыс. дирхемов[1070], иными словами, больше чем наполовину меньше того, что ему требовалось до тех пор[1071]. А два года спустя он вместо содержания выделил халифу поместья (главным образом близ Басры), которые вместе с принадлежавшими ему лично приносили около 200 тыс. динаров дохода ежегодно. Однако с годами эти доходы снизились до 50 тыс. в год[1072]. Ко всему этому с 334/945 г. появился обычай при смерти или смещении халифа грабить дворец, пока в нем ничего не оставалось[1073]. В 381/991 г. при смещении ат-Та’и‘ народ впервые по всем правилам штурмовал дворец, да так, что был сорван мрамор, свинец, облицовка из тикового дерева, были выломаны двери и оконные решетки (шабабик)[1074]. Подобную же вольность, как известно, позволял себе римский народ при смерти папы. Это примечательная аналогия, ибо как раз в то время халиф все более становился папой, т.е. главой всей мусульманской церкви. Разрядка ситуации, вызванная крушением последних остатков вавилонского церковного государства, необычайно увеличила его духовное значение как духовного главы. Когда в 423/1032 г. султан вместе с тремя придворными въехал на корабле в парк при дворце халифа и, расположившись под деревом, угощался вином, велев флейтисту играть ему, и об этом узнал халиф, то он послал двух кади и двух камергеров и велел указать ему, что вино и игра на флейте неприличны в этом месте. И султан извинился[1075]. По сравнению с императором Византии, которого приветствовали в цирке как второго Давида, как второго апостола Павла, которого прославляли как верховного священнослужителя, день которого, как об этом свидетельствует книга «De Caerimoniis»[1076], проходил среди церквей, алтарей и икон,— по сравнению с ним халиф, даже в эти более поздние времена, производит впечатление очень простое и отнюдь не церковное.
Арабы говорили: аш-шараф насаб — «благородство заложено в крови». Знатный человек должен был прежде всего быть отважным и великодушным. Благоразумие считалось для знатного ненужным — «знатный должен быть умен, но разыгрывать из себя человека неосмотрительного»[1077]. Голова у него должна быть большая[1078], ибо хитрец, например писарь, должен иметь маленькую[1079]. Спереди над лбом у знатного должны быть густые волосы, нос должен выдаваться, губы должны быть полными[1080], а лицо — не круглым, грудь и плечи широкими, предплечья и пальцы рук длинными[1081]. Признаком отсутствия знатности является фатовство в одежде и жеманство в походке. Говорили: «Сайид повязывает чалму так, как ему к лицу»[1082]. Передают, что во времена Аббасидов один придворный разделил людей на четыре класса:
«1) цари (мулук), которых их права поставили первыми;
2) везиры, которые отличаются смышленостью и разумом;
3) высокопоставленные (‘илйа), которых возвысило богатство (йасар);
4) среднее сословие (аусат), которые приравнены к ним благодаря полученному образованию (та’аддуб).
Весь же прочий люд — грязная пена, заболоченный ручей и низкие твари. Каждый думает лишь о еде и сне»[1083].
Значит, знатным в те времена делали деньги и политические успехи — две крайне вульгарные вещи. Пренебрежение к крови, а особенно к крови матери, заходило так далеко, что все халифы III/IX и IV/X веков были сыновьями тюркских или греческих рабынь, а в начале III/IX в. на халифский престол даже чуть было не взошел чернокожий[1084]. И все же ислам создал также и знать по крови и сохранил ее вплоть до наших дней — это прежде всего родственники пророка, Бану Хашим, «люди дома пророка», или просто «люди из Дома». Как родственники пророка они получали от правительства денежное довольствие, все они вместе с членами своих семей были освобождены от уплаты налога в пользу бедных (садака)[1085] и имели свою собственную юрисдикцию[1086]. Их главным судьей был старейшина (накиб), назначавшийся над ними халифом. Не в одном только Багдаде, но и в каждом большом городе управлял ими один из таких накибов. Источники называют имена накибов Алидов в Васите, Куфе, Басре и Ахвазе[1087], а умерший около 351/961 г. поэт Ибн Табатаба был накибом египетских Алидов[1088]. И при Фатимидах накиб Алидов относился к числу высокопоставленных лиц двора[1089]. Сохранилась грамота о назначении на должность багдадского накиба Талибидов от 354/965 г., из которой явствует, что даже жалобы простых мусульман на Талибидов должны были подаваться на имя накиба[1090].
Вплоть до IV/X в. оба враждующих стана семьи пророка — и добившиеся власти Аббасиды и обойденные Талибиды — находились под одним и тем же накибом[1091]. Но в конце столетия каждый имел своего собственного главу, пожалуй, оттого, что Аббасиды настолько низко опустились, насколько возвысились те, другие, и Аббасиды больше не могли их опекать. Уже в этом заложены были в то время отношения, существующие в наши дни.
Представителей обоих лагерей — как Алидов, так и Аббасидов — именовали тарифами[1092]. Алиды, как это следует из исторической хроники[1093], не имели никакого особого отличительного знака. Зеленая чалма как их признак была установлена лишь много позже — в VIII/XIV в.[1094]
Проживавшим в Багдаде потомкам пророка (другим, как передают, ничего не доставалось) при ал-Му‘тамиде (256—279/870—892) ежемесячно выдавали по одному динару, но при его преемнике эта сумма была снижена до четверти динара в месяц. Сообщают, что в Багдаде в то время было 4 тыс. таких имевших право на пособие, и, таким образом, эта статья бюджета составляла ровно 1000 динаров в месяц[1095]. В 209/824 г., как утверждают, насчитывалось 33 тыс. Аббасидов[1096], в то время как ал-Джахиз в это же время исчисляет количество Алидов в 2300 чел.[1097] Главы Хашимитов (маша’их) получали особое почетное содержание, которое, поставленное в бюджете вместе с жалованьем проповедников Багдада, с ним вместе составляло 600 динаров в месяц[1098]. Принцы дома Аббасидов (аулад ал-хулафа) также получали особую, не очень-то роскошную пенсию: ал-Му‘тадид (279—289/892—902) выдавал детям своего деда, наследникам и наследницам специальную прибавку, составлявшую в общем 1000 динаров; своему родному брату и сестре вместе — 500 динаров в месяц; все более отдаленные наследники получали в целом только 500 динаров в месяц[1099]. Все это приводило к тому, что среди них не было недостатка в недовольных авантюристах. Их сборным пунктом была Бухара, наряду с Багдадом — единственный значительный нешиитский двор. В восьмидесятых годах там собралось сразу три отпрыска: один — халифа ал-Махди, другой — ал-Ма’муна и третий — ал-Васика[1100]. Потомок ал-Васика был ранее проповедником в г. Нисибине, был там снят с этой должности из-за всяких махинаций и доставлен в Багдад. Затем он отправился в Хорасан, где тщетно ожидал назначения на должность начальника почты или светского судьи в провинции. Разочаровавшись в своих надеждах, он перешел к тюркам, выдал себя там за наследника багдадского престола и занялся тем, что стремился изгнать Саманидов, чтобы самому захватить власть в Бухаре, так что халиф в конце концов направил из-за него на север специальную буллу[1101]. После крушения своих планов он некоторое время вновь тайно жил в Багдаде, вынужденный скрываться от преследований халифа, затем снова переметнулся к тюркам, скитался по всему Востоку, пока не угодил в конце концов к Махмуду Газневидскому, который заточил его в крепость, где он и умер[1102].
Что же касается отпрыска ал-Ма’муна (он был поэтом), то он в 382/992 г. вместе с отрядами Саманидов пытался захватить Багдад и стать халифом. Однако вскоре он умер, не достигнув и сорока лет[1103].
Воспользовавшись неизменно действенной верой в Махди, один из сыновей свергнутого в 334/945 г. халифа ал-Мустакфи пытался в 50-х годах захватить в свои руки империю. Его посланцы проповедовали о том, «кто заповедует право и возбраняет бесправие», кто поразит врагов верующих и обновит веру. В эти трудные времена их речи находили большое число приверженцев, вплоть до высших сфер Багдада. Суннитам говорилось, что грядущий халиф — Аббасид, а шиитам — что он Алид. Даже военачальник Сабуктегин поддался на эти речи, но когда он, будучи шиитом, услыхал, что речь идет об Аббасиде, то отошел от этого заговора и позаботился о его подавлении. Кончилось все это тем, что претенденту на престол и его брату халиф отрезал носы[1104].
Наряду с пособием на почетные должности, из которых при наличии отъявленной беззастенчивости можно было извлекать доходы, предпочитали назначать хашимитов. Так, должности всех предстоятелей на молитвах (имамов) предоставлялись халифом чаще всего кому-нибудь из хашимитов[1105]. Имам первой мечети империи — мечети Мансура в Багдаде — был некий хашимит[1106], который умер в 350/961 г.; примерно в то же время хашимитом был и имам мечети ‘Амра в Старом Каире[1107], а также и назначенные в 363/974 и 394/1004 гг. верховные кади[1108]. В конце столетия один из аббасидских эмиров был проповедником в г. Нисибине[1109], а весьма доходный пост начальника ежегодного большого паломничества неизменно находился в руках кого-нибудь из хашимитов. Талибит впервые за всю историю ислама был назначен на эту должность в 204/819 г., когда ал-Ма’муну понадобились Алиды против его брата. Он пробыл на этом посту в течение трех лет, а затем должность вновь вернулась к хашимитам и оставалась за ними вплоть до времени списка под 336/947 г., приведенного ал-Мас‘уди[1110], а начиная с этих пор она перешла в руки Алидов, которые в свою очередь назначали в качестве заместителей и помощников опять-таки Алидов[1111]. При всех благочестивых даяниях в первую очередь принимали во внимание родственников пророка. Во времена Ахмада ибн Тулуна египтянин Ибн ад-Дайа ежегодно выдавал одному Талибиту по 200 динаров, и другие вельможи поступали равным же образом[1112]. Действовавший в начале IV/X в. везир ‘Али ибн ‘Иса ежегодно выдавал 40 тыс. динаров Алидам, Аббасидам, потомкам ансаров и мухаджиров и на оба священных города[1113]. Мать халифа ал-Мути‘ подарила в один только день Аббасидам и Алидам свыше 30 тыс. динаров[1114]. Поэт Абу-л-‘Ала в одном из своих писем приносит извинения за то, что он так мало послал какому-то Алиду[1115]. Выражение «Алид, который принимает, но сам не дает» стало тогда поговоркой[1116]. Как об этом позволяет догадываться низкое месячное пособие в размере всего лишь четверти динара были Алиды и Аббасиды, влачившие свое существование в страшной нужде. Некий хашимит был мелким шпионом. Во время большой дороговизны 334/945 г. вынуждены были казнить и хашимитов, так как и они ели детей[1117]. При везире ас-Сахибе в северной Персии объявился некий Алид — бродячий рассказчик диковинных историй[1118]; поэт Ибн ал-Хаджжадж (ум. 391/1001) рассказывает об одной певице из хашимитов, пользовавшейся дурной славой[1119]. Во время одного выезда наместника Египта Кафура кто-то из его свиты грубо оттолкнул нищенку. Утверждают, будто бы Кафур велел за это отрубить виновному руку, но женщина стала просить за своего обидчика. Удивленный наместник спросил, как ее зовут,— она, должно быть, благородного рода? Когда же выяснилось, что та из Алидов, Кафур ужаснулся: «Это дьявол заставил нас позабыть об этих людях!». С этого времени он назначил женщинам из рода Алидов щедрое пособие[1120]. В 350/961 г. в Багдаде возникли беспорядки из-за того, что какой-то пьяный Аббасид, затеяв ссору с Алидом, тоже пьяным, убил его[1121]. «Дяди пророка» принадлежали к самым задиристым слоям населения столицы. Когда в 306/918 г. задержали выплату им пособия, толпа хашимитов напала на выходившего из канцелярии везира, осыпала его бранью, разорвала на нем одежды и стащила с коня. Освободить его удалось только при помощи подоспевших офицеров. Халиф распорядился отхлестать некоторых из этих злодеев плетьми и отправить всех в оковах в закрытой барже в Басру. Там их посадили на ослов, связав им руки, возили по улицам города, а затем поместили в доме неподалеку от тюрьмы. Губернатор обходился с ними хорошо и тайком давал им деньги. Впрочем, уже через 10 дней пришел приказ выпустить их на свободу[1122]. С усилением шиитов в Багдаде росло волнение среди Аббасидов, и прежде всего среди тех, которые жили в квартале ворот Басры[1123]. Энергичный везир ал-Мухаллаби (ок. 350/961) вынужден был держать под стражей в небольших городах Вавилонии некоторое количество мятежных Аббасидов, и освободились они лишь после его смерти[1124]. Чтобы положить конец вечной вражде в Багдаде между шиитами и суннитами, в которой с обеих сторон были буйные головы — подстрекатели и из Алидов и из Аббасидов, направленный туда в 392/1002 г. для наведения порядка военачальник приказал связать вместе по одному Алиду и Аббасиду и утопить их в Тигре[1125].
Настало наконец время, которого так долго с нетерпением ждали Алиды: значение их повсюду стало расти, а Аббасиды сходили на нет. В Хорасане, например, ал-Мукаддаси встречает много богатых Алидов, но не находит ни одного Хашимита из местных жителей[1126]. IV/X век создал и здесь нынешнее положение, ибо род Мухаммада представляли почти исключительно потомки ‘Али. Отныне все должны были служить их интересам — и карматы и Фатимиды. Они основали в горах Персии алидскую империю, во второй половине столетия захватили Мекку, сделали ее вместо Медины столицей священной области, сумев хитро использовать в своих целях ожесточенный спор Багдада и Каира из-за этого центра ислама[1127]. Новые властители на Западе и на Востоке — Хамданиды и Бунды — были шиитами. Растущее почитание пророка озаряло и его потомков более ярким сиянием. Когда у Кафура в один прекрасный день во время выезда выпала из руки плеть и ее подал ему один тариф, он сказал: «Теперь я охотно умру, ибо какая у меня в жизни еще может быть цель, после того как один из сыновей посланника Аллаха подал мне мою плеть». И он действительно вскоре после этого умер[1128].
Не только в шиитской Тивериаде <Табарийа> было в начале IV/X в. такое положение, когда без тамошнего главы Алидов не существовало «ни да, ни нет»[1129], но даже и свободный от каких бы то ни было предрассудков властитель Египта Ихшид всегда имел при себе двух таких господ: Хасанида ‘Абдаллаха ибн Табатаба и Хусайнида ал-Хасана ибн Тахира, «которые никогда его не покидали и были между собой злейшими врагами»[1130]. Последний обеспечил ему мир с Сайф ад-Даула[1131] и спас его посредством переговоров в 327/939 г. от наседавших на него вавилонцев[1132]. В том же году другой Алид благодаря своему влиянию у карматов освобождает уже десять лет закрытую дорогу паломников[1133].
В домах шиитских правителей Бундов и Хамданидов Алиды были наиболее подходящими посредниками в семейных распрях. В этом весьма прибыльном промежуточном положении им было крайне неудобно, когда багдадское правительство в конце концов принудило их раскрыть свои карты в отношении Фатимидов и стряхнуть тех как фальшивых отпрысков с родословного древа ‘Али. В 403/1012 г. вышел приказ багдадского правителя ко всем чиновникам, в котором им в весьма категорической форме предписывалось проявлять заботу об Алидах,— ничего подобного ранее не случалось[1134]. Одновременно предводитель алидской знати награждался черными официальными одеждами Аббасидов, которые до сего времени не носил ни один Алид[1135]. Тем самым бывший некогда более могущественным аббасидский кузен признал себя побежденным.
Потомки первых трех халифов не играли никакой роли. Когда группа «чтецов» пожаловалась Харуну на кади Египта ал-‘Омари, он приказал проверить диван: нет ли еще какого-нибудь потомка ‘Омара I среди его чиновников. Когда никого не нашлось, он отказал жалобщикам[1136]. Его преемник ал-Бакри, поставленный ал-Амином, пришел в Египет нищим и был столь несчастлив со своим земельным наделом, что не в состоянии был платить земельный налог, так что налоговый чиновник воскликнул: «Сын сподвижника нашего пророка и его потомков преследуется за это! Его долг — это мой долг, и я буду ему выплачивать его каждый год!»[1137].
В современном Египте, напротив, наряду с потомками пророка знать составляют потомки Абу Бакра и ‘Омара. Так, Бакри или Сиддики с начала XIX в. завладели наиболее доходными духовными должностями[1138]. Некий Османид, потомок халифа ‘Османа, около 400/1009 г. шлялся как прихлебатель «по всем улицам Нисибина» и делал не так уж много чести своему благочестивому родоначальнику; но и его также называли шарифом[1139].
Таковы основные черты мусульманской знати[1140].
Доисламская знать упорнее всего держалась в феодальных областях, в лесах, на горах и в замках Фарса. Там чтили древние роды, и они наследовали друг от друга правительственные должности с древнейших времен вплоть до сего дня[1141]. Восхваляют их рыцарское поведение: «чистоту от низменных привычек речи, отсутствие открытых связей с блудницами, стремление к высшей красоте в доме, одежде и столе»[1142].
Из числа омейядских вельмож сумели сохранить свои позиции одни только мухаллабиты — потомки ал-Мухаллаба ибн Абу Суфры. Резиденцией их была Басра, где они жили в роскошных домах[1143]. Один из них играл некоторую роль в большом восстании рабов III/IX в., вероятно потому, что надеялся на падение Аббасидов[1144]. Другой приблизительно в середине IV/X в. был везиром ‘Адуд ад-Даула. Род кади из Бану Абу-ш-Шавариб утверждал, что они родственники Омейядов[1145], а следовательно, и родственники повелителей Кордовы и Мултана[1146].
Вольная аббасидская военная знать, абна ад-даула (ед.ч. банави) — роды, пришедшие вместе с династией из Хорасана,— процветала уже в III/IX в. и выделялась своими великолепными боевыми доспехами и конями[1147]. В IV/X в. эта знать была вытеснена несвободными или вольноотпущенными всадниками, тюрками и персами.
Последние отпрыски дома Тахиридов, который в III/IX в. был первым в империи после династии Багдада, в конце IV/X в. также влачили жалкое существование при дворе в Бухаре. Не совсем пропало у них только поэтическое дарование[1148]. На всем Севере, вплоть до областей, занятых тюрками, этих господ именовали римско-византийским словом «патриции» (арабск. батарика)[1149].
Немного сплетен о знатных семьях того времени отложилось у Ибн Руста (конец III/IX в.). Так, он утверждает, что род ал-Аш‘ас происходил от какого-то персидского сапожника, а богатство пришло к ним от одного бездетного иудея, за которого вышла замуж тетка сапожника. Родоначальник мухаллабитов — персидский ткач; дом Халида ибн Сафвана восходит к крестьянке из Хиры, которая, будучи беременной, попала в руки арабов. Род ал-Джахм — от беглого раба, который ложно приписал себе знатное происхождение от курайшитов. Богатый владетельный княжеский дом Абу Дулафа в Кередже на Севере — от банкира-христианина из Хиры; верховный военачальник ар-Раби‘, основатель влиятельного чиновничьего рода, как говорят, был непутевым внебрачным сыном распутной рабыни[1150].
Рабов держали все: и мусульмане, и христиане, и иудеи. Только христианская церковь терзалась при этом время от времени угрызениями совести и говорила о том, что во Христе нет ни рабов, ни свободных[1151]. По крайней мере за торговлю рабами церковь устанавливала отлучение от общины[1152]. Мусульман же поражало главным образом то, что рабыни в христианских и иудейских домах не были в распоряжении хозяина дома так же, как и наложницы[1153]. Происходило это по той причине, что законы христианства на Востоке рассматривали связь мужчины со своей рабыней как разврат, который он должен был искупить церковным покаянием. Супруга же должна была продать рабыню и удалить ее из дома. Если же рабыня принесет своему хозяину-христианину ребенка, то его следует воспитывать как раба, «дабы осрамить его распутного отца»[1154]. Халиф ал-Мансур однажды послал врачу Георгиосу трех прекрасных греческих рабынь и 3 тыс. золотых. «Врач принял деньги, а девушек вернул обратно, сказав повелителю: „Я не могу жить с ними в одном доме, ибо нам, христианам, разрешено иметь только одну жену, а у меня есть жена в Билафете“. Халиф похвалил его и полюбил за это»[1155].
Напротив, ребенок, рожденный от внебрачного сожительства мусульманина со своей рабыней, считался свободным[1156]; мать уже нельзя было после этого продать, и после смерти хозяина она также становилась свободной. Даже больше того — несколько господ могли сообща иметь одну рабыню и сожительствовать с ней[1157].
В то время как в Византийской империи инаковерующим запрещалось держать рабов-христиан[1158] и христианская церковь в мусульманской империи запрещала также христианам под страхом отлучения продавать рабов-христиан нехристианам[1159], мусульманское право разрешало христианам и иудеям иметь также и рабов-мусульман[1160].
В IV/X в. главными рынками чернокожих рабов были Египет, Южная Аравия и Северная Африка, караваны которых доставляли с юга золото и рабов. Около середины II/VIII в. стоимость одного раба в среднем равнялась 200 дирхемам[1161]. Сообщают, что абиссинец Кафур, впоследствии ставший правителем Египта, был куплен в 312/924 г. за 18 динаров[1162]; это очень незначительная цена, так как он был обрезан. В Омане за хорошего раба-негра платили 25-30 динаров[1163]. «Красивая и обольстительная девушка» стоила в 300/912 г. около 150 динаров[1164]. Неслыханно высокой ценой считали, когда везир ас-Сахиб приобрел раба-нубийца за 400 динаров[1165], в то время как даже красивая нубийская девушка, ценившаяся как наложница выше всех цветных, стоила примерно 300 динаров[1166]. Относительное бесплодие негритянок в северных областях помогало уберечь мусульманский мир от заполнения ввозимыми чернокожими и смешанными детьми от них[1167]. Чернокожий домашний раб использовался, как и в наше время, главным образом в качестве привратника[1168].
В обществе, где хороший стих и красивая музыка ставились превыше всего, дороже всего ценились художественно одаренные и обученные девушки и юноши. В эпоху ар-Рашида один знаменитый певец держал по временам до восьмидесяти рабынь, которых обучал своему искусству[1169]. За них ему платили по 1-2 тыс. динаров[1170]. Менее обеспеченные артисты давали уроки у крупных рабовладельцев[1171]. Среди профессиональных певиц, числившихся в 306/918 г. в столице, лишь очень немногие были свободными[1172]. На знаменитых артистов и артисток, как и у нас, тратили фантастически большие суммы. Так, около 300/912 г. одна певица продавалась в аристократических кругах за 13 тыс. динаров, посредник получал при этом 1000 динаров[1173]. В 326/937 г. правитель Вавилонии Ибн Ра’ик купил певицу за 14 тыс. динаров, что считалось совершенно неслыханным[1174].
По совершенно иной цене шли рабы-«аристократы» — белые. Красивая белая рабыня, совершенно ничему не обученная, стоила 1000 динаров и выше[1175]. Ал-Хваризми предлагали за одну рабыню 10 тыс. дирхемов[1176]. Особенно поднялась цена на белокожих в IV/X в., когда вследствие поражений на западной границе почти совсем иссяк важный источник получения белых рабов — Византия и Армения[1177]. Следует иметь в виду, что граждане империи ислама, так же как и покровительствуемые, никак не могли стать рабами по закону, т.е. прежде всего не могли стать ими из-за долгов, как это было в других странах. Родители-мусульмане так же не могли продавать своих детей, как, например, отец-иудей свою несовершеннолетнюю дочь[1178]. Даже когда в III/IX в. египетские христиане были взяты в плен во время открыто поднятого ими восстания и проданы затем как рабы в Дамаск, это событие привлекло чрезвычайное внимание, ибо было воспринято как явное беззаконие[1179]. Напротив, для сект, которые рассматривали ислам как нечто существующее только для них одних, все прочие мусульмане стояли вне закона. Это было крайне важно в эпоху карматов, так как позволяло им обращать в рабов двуногую военную добычу. Иной мирный житель Аравии, Сирии или Вавилонии вдруг оказывался лишенным личной свободы: так, в 312/924 г. во время нападения на караван паломников около 2000 мужчин и 500 женщин были уведены в столицу карматов. Среди них находился также и филолог ал-Азхари (ум. 370/980), который, попав в плен к бедуинам, два года скитался вместе с ними по пустыне на положении раба и таким образом смог собрать столь ценный материал для своего словаря[1180]. В остальной части империи категория белых рабов ограничивалась тюрками и представителями того неистощимого племени, которое дало в Европе название этому сословию, т.е. славянами. Они ценились выше тюрков. «Если нет славянина, то берут в услужение тюрка»,— говорил ал-Хваризми[1181]. Гораздо большей статьей ввоза из Булгара — главного города волжских булгар — были рабы, которые оттуда доставлялись на Амударью[1182]. Крупнейшим невольничьим рынком был Самарканд, город, который славился тем, что поставлял самых лучших белых рабов, а также производством воспитателей наподобие Женевы или Лозанны[1183]. Второй путь ввоза рабов-славян шел через Германию в Испанию, а также в провансальские и итальянские портовые города Средиземного моря[1184]. В Европе работорговцами были почти исключительно евреи. Товар поступал главным образом с Востока, иными словами, существовали те же условия, что и в современной торговле девушками[1185]. С торговлей рабами связано, по-видимому, расселение евреев в восточносаксонских городах Магдебурге и Мерзебурге[1186]. Во время транспортировки рабов этих работорговцев добросовестно обирали, по крайней мере немцы; так, например, таможенное уложение г. Кобленца требовало с каждой головы раба по 4 динара[1187], а епископ Хура[1188] взимал на таможенной заставе в Валленштадте по 2 динара[1189].
Наконец третий путь шел из западных стран работорговли, которые в то время из-за войн с немцами изобиловали живым товаром, непосредственно на Восток, т.е. по маршруту, проделанному рабби Петахья: в VI/XII в.: Прага — Польша — Россия. Пунктом отправки была Прага, являвшаяся в IV/X в. средоточием работорговли. Святой Адальберт сложил с себя в 989 г. н.э. сан епископа Праги из-за того, что не в состоянии был выкупить всех христиан, закупленных одним еврейским купцом[1190].
В городах существовали невольничьи рынки (сук ар-ракик), которыми заведовал особый чиновник. Нам известно детальное описание невольничьего рынка, построенного в III/IX в. в Самарре: он представлял собой четырехугольник, пересеченный улочками, в домах были комнаты, мансарды и лавки для рабов[1191]. Однако быть проданным на рынке, а не в частном доме или при посредничестве крупного торговца считалось для хорошего раба позорным для него наказанием[1192]. Работорговцы, пользовались репутацией конских барышников наших дней: так, одного египетского наместника поносили с минбара, называя его «изолгавшимся работорговцем»[1193]. «О, как много смуглых девушек с нечистой кожей было продано за золотистых блондинок, как много сухощавых — за пышнобедрых, а пузатых — за стройных! Они подкрашивают голубые глаза под черные, румянят желтые щеки, делают сухие лица жирными, удаляют растительность со щек, превращают пегие волосы в черные как смоль, прямые волосы делают вьющимися, худые руки — полными, выводят оспенные рубцы, бородавки, пятна на коже и чесоточные струпья. Особенно не следует покупать рабов в дни праздников, а также и на ярмарках: как часто приобретали там вместо девушки мальчика! Мы слыхали, как один работорговец говаривал: „Четверть дирхема на хну делает девушку на сто дирхемов дороже“.
Волосы девушкам делают длиннее, привязывая к их кончикам волосы того же цвета. Дурной запах из носа устраняется втягиванием в ноздри благовонных масел; зубы отбеливают при помощи едкого калия с сахаром или древесного угля с толченой солью. Должна быть также подрезана и кожа вокруг ногтей. Торговец советовал девушкам быть, податливее со стариками и людьми робкими и тем самым располагать, их к себе, а с юношами, напротив, быть недоступными, чтобы завоевать их сердца. Белой девушке они красят кончики пальцев красным, чернокожей — золотисто-желтым и красным, желтокожей — черным. Соответственно они одевают белых девушек в легкие темные и розовые одежды, а чернокожих — в красные или желтые, подражая тем самым природе, которая при сочетании оттенков цветов тоже воздействует своими контрастами!» Эти слова взяты из наставления о покупке хорошего раба известного врача-христианина Ибн Бутлана (первая половина V/XI в.)[1194]. Наряду с теорией в этой книжечке звучит также и добрая доля солидного опыта в торговле людьми: «Индийские женщины послушны, но быстро увядают. Хорошо носят детей. Они имеют одно преимущество перед остальными женщинами: говорят, что разведенные снова становятся девственницами». Мужчины индийцы годятся к использованию их в качестве домоправителей, они способны к тонкому ремеслу, но рано гибнут от апоплексического удара. Обычно их вывозят для продажи из Кандахара. Женщины Синда знамениты своей тонкой талией и длинными волосами. Уроженка Медины сочетает в себе приятную речь и прелесть тела с кокетством и живостью ума. Она не ревнива, не злобна, не криклива, годится в певицы. Мекканка изнежена, имеет хрупкие суставы и томные глаза. Жительница Та’ифа — золотисто-смуглая и стройная, легкомысленна, способна к играм и шуткам, но никак не мать: «не склонна к зачатию и умирает в родах». Берберийка же, напротив, хорошо рожает, самая послушная, искусна во всякой работе. Маклер Абу ‘Усман объяснял, что идеал рабыни, если девочка-берберийка, вывезенная с родины в 9 лет, три года пробудет в Медине и три года в Мекке, затем в 16 лет будет отправлена в Вавилонию и там будет обучена изящным искусствам. Если ее купить в 25 лет, то она сочетает в себе хорошую породу с кокетством мединки, нежностью мекканки и образованностью вавилонянки. Негритянок поставляют на рынок много. Чем они чернее, тем они безобразнее и тем острее их зубы. Они мало к чему пригодны, легко становятся небрежными и вообще ни о чем не заботятся. Их натура —это танец и отбивание такта. Говорят: если негр падает с неба на землю, то и падает он в такт[1195]. Зубы у них очень, чистые, потому что обильно выделяется слюна. Но это обилие слюны нарушает пищеварение. Неприятен у них запах, исходящий из подмышек, и шершавая кожа. У женщин из Абиссинии, напротив, мягкое и хилое тело, часто они страдают чахоткой. К пению и танцу они непригодны, а также не приспособлены к жизни в чужой стране. Они надежны, обладают сильным характером в слабом теле. Женщины из буджа (между Абиссинией и Нубией) золотистого оттенка, у них красивое лицо и приятная кожа, но некрасивое тело. Их следует вывозить совсем юными, до того как над ними совершено обрезание, ибо обрезание производится зачастую настолько грубо, что выступает наружу кость. Мужчины этого народа отважны, но разбойники, а потому им нельзя доверять деньги и делать их домоправителями. Из всех чернокожих наиболее покорна и жизнерадостна нубийка. Египет ей полезен, потому что и на родине своей она пьет воду Нила, в других местах она погибает от болезней крови.
Тюрчанки сочетают в себе красоту, мягкость и белую кожу, глаза, у них маленькие, но приятные[1196], рост небольшой, вплоть до низкого; высоких среди них мало. Они — неиссякаемый источник в смысле деторождения, дети от них редко бывают уродливыми и, как правило, не бывают плохими наездниками. Они опрятны, хорошо готовят, но расточительны и ненадежны.
Гречанка — румяно-белая, волосы гладкие, глаза голубые, послушная, уступчивая, дружелюбная, верная и на нее можно положиться. Мужчин греков следует использовать домоправителями по причине их любви к порядку и слабой склонности к расточительности. Нередко они сведущи в тонких ремеслах.
Армяне самые плохие рабы из белых, так же как и негры (зинджи) самые плохие из чернокожих. Они изящно сложены, но имеют безобразные ноги, стыдливость у них отсутствует, воровство очень распространено, жадность не обнаруживается. Их натура и их язык грубы. Если ты оставишь раба-армянина хоть на час без работы, то его натура тотчас толкнет его на зло. Он работает хорошо только из-под палки и из страха. Если ты видишь, что он ленится, то лишь потому, что это ему доставляет удовольствие, а вовсе не от слабости. Тогда следует взять палку, вздуть его и заставить делать то, что ты хочешь.
Уже в раннюю эпоху вошел в употребление обычай не называть раба «слугой», а «мальчиком», а рабыню — не «служанкой», а «девушкой». Обычай этот, как, впрочем, все и всегда, выдавался за заповедь пророка. Телесные наказания раба запрещались и рыцарскими и благочестивыми правилами. «Самый плохой тот человек, кто ест один, ездит верхом без чепрака и бьет своего раба» — это изречение старой знати передается Абу-л-Лайсом ас-Самарканди (ум. 387/997) как изречение Мухаммада[1197]. Так же и словами из Корана: «Все верующие — братья», попрекали в IV/X в. того, кто бьет своих рабов. «Будь другом рабу твоему и рабом другу твоему»,—говорилось в рифму[1198]. Еще около 500/1106 г. при описании одного идеального йеменского главы упоминается: «Он никогда не бил раба!»[1199]. Уже при первых Омейядах некий египетский кади освободил рабыню, которой ее госпожа нанесла телесные повреждения, и ввел ее в состав одной правоверной семьи, члены которой были за нее ответственны и должны были ее воспитывать[1200]. Тем, кто прямо или посредством отказа в средствах к существованию принуждал своих рабынь к проституции, христианская церковь на Востоке грозила отлучением[1201]. Мусульманские публичные дома пользовались обычно рабынями, как об этом свидетельствуют многочисленные рассказы, но мусульманское право ничего не говорит об этом, ибо оно предполагает полную недопустимость проституции. Церковь же, напротив, сохранила от античности некоторую непредубежденность в этом отношении. Коран советует только лишь выдавать замуж сирот и праведных рабынь и женить праведных рабов[1202]. Весьма благотворно сказалось в дальнейшем положение, что раб может выкупиться на свободу с выплатой в рассрочку, особенно в том случае, когда раб или рабыня могут самостоятельно вести какое-нибудь дело. Ал-Mac‘уди, например, рассказывает об одном рабе, который был портным и обязан был ежедневно отдавать своему хозяину два дирхема, а остальную часть дохода мог оставлять себе[1203]. Существовал, впрочем, еще и добрый обычай и благочестивое дело — давать в завещании волю части рабов. Так, в III/IX в. халиф ал-Му‘тасим, умирая, даровал свободу восьми тысячам рабов[1204]. Этот же повелитель во время кровавого штурма одной армянской крепости позаботился о том, чтобы не разлучали семьи, уводимые в рабство[1205].
Одна рабыня, фаворитка знатного купца, сумела добиться очень многого: она имела право показываться на людях, окруженная своими собственными служанками, которые обмахивали ее опахалами[1206]. Известный проповедник Ибн Сам‘ун говорил как-то в ночь на 15 рамадана о сладостях, причем среди присутствовавших была также и рабыня одного богатого купца. На следующий день вечером раб принес ему 500 штук печений (хушкнанак), и в каждом было по золотой монете. Проповедник понес деньги купцу обратно, но тот сказал, что этот подарок сделан с его согласия[1207].
Однако и мужчина-раб, принимая во внимание ту радость, которую испытывает житель Востока от пригожего и умного человека, легко мог завоевать сердце своего господина. Мы располагаем хвалебными стихами поэта Са‘ида ал-Халиди, посвященными одному из его рабов[1208]:
Он не раб, а дитя, которым верный Аллах меня одарил.
На щеках его розы и анемоны, яблоки и гранаты
Образуют вечноцветущие сады, исполненные красоты, где дрожит вода очарования.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изящен, весел, остроумен, неподражаем (он], прекрасный драгоценный камень, лучи которого искрятся.
Он как хранитель всех драгоценностей в моем доме и верный страж: у меня никогда ничего не пропадает,
Он выдает [деньги], но протестует, когда я транжирю, и всегда придерживается золотой середины.
Он знает искусство поэзии, как я, но стремится познать его еще лучше —
Меняла стихов, который тщательно пробует [на зуб] содержание [в них] тонких выражений.
Он так заботится о моих книгах, что все они в прекрасном виде, он так складывает мои одежды, что все они как новые.
Среди всех людей он больше всех сведущ в приготовлении пищи,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он пускает по кругу чашу с вином, когда я с ним наедине,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда я улыбаюсь — он сияет, когда я недоволен — он трепещет.
Благодаря таким стихам этот отличный раб стал притчей во языцех в литературных кругах[1209].
Мы располагаем также трогательным некрологом алеппского поэта ал-Кушаджима (ум. 330/941), посвященным им своему рабу Бишру: Кто будет теперь так заботиться о его чернильнице, книгах и кубке? Кто будет складывать и склеивать листы бумаги (читай: тавамир)? Кто при приготовлении пищи тощее сделает жирным? «Он желал добра, когда никто его не желал, он оставался верным, когда изменял доверенный»[1210].
В одном из своих писем ал-Ма‘арри не упускает возможности передать привет рабу адресата Мукбилу: «Хотя его кожа и черна, но мы ведь ценим его больше, чем иного везира, любви которого нельзя доверять»[1211].
На высшей ступени стоял оруженосец, который носил в ранце не только маршальский жезл (Мунис, Джаухар), но и скипетр (Кафур в Египте, Сабуктегин в Афганистане). Уже в начале эпохи Аббасидов один тюркский раб стал наместником Египта (162—164/779—781), и ал-Мансур имел обыкновение говорить о нем: «Это человек, который меня боится, а Аллаха не боится»[1212], умалчивая о прямых гомосексуальных связях. Существовавшие здесь взгляды были такие же, как и в государстве франков, где вольноотпущенники достигали высочайших ступеней почета и им повиновались люди свободные. Военачальники, наместники, королевские опекуны были там преимущественно бывшие рабы[1213]. Только на Востоке рабу редко удавалось, как это случалось среди европейской чиновной знати, на длительное время подняться над свободными людьми, так как продолжавшее существовать рабство никогда не давало зарасти травой разнице между свободным и рабом[1214].
В целом же мнение о рабах было неблагоприятным. «Когда раб голоден — он спит, а когда сыт — предается блуду» — учила пословица, а ал-Мутанабби пел: «Не ожидай ничего доброго от человека, над головой которого прошлась рука работорговца»[1215]. Точно так же думал и Гомер:
Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим
К делу его, за работу он не возьмется охотой:
Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,
Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет[1216].
И все же, несмотря на всю доброжелательность судьбы, правовые гарантии и благоприятное положение современного домашнего раба на Востоке, не следует представлять положение мусульманских рабов средневековья в слишком уж розовых тонах. На деле в IV/X в. все провинции кишели беглыми рабами, и одно из самых первоочередных предписаний наместникам было хватать беглых рабов, сажать их под замок и по возможности возвращать обратно хозяевам[1217]. Раб, выброшенный на улицу начальником полиции Назуком, заставил пролить слезу умиления своего хозяина и одного катиба тем, что пожелал вернуться к нему обратно. Катиб, правда, прослезился еще и потому, «что он дал мне динар»[1218]. Чаще всего беглыми становились рабы, занятые в сельском хозяйстве. Войско единственного грозного восстания рабов того времени (III/IX в.) также состояло из негров, «которые вычерпывали лопатами солончаки (сибха) близ Басры до тех пор, пока не натыкались на плодородную землю. Могилы негров высятся там, как горы. Десятки тысяч были заняты этим делом на каналах Басры»[1219].
12. Ученые[1220]
III/IX век продолжил повышение уровня образования рыцарски и куртуазно воспитанного человека (адиб) и сделал из него литератора — чуть ли не разновидность журналиста наших дней, который берется рассуждать обо всем на свете. Вследствие этого ученый совершенно самопроизвольно еще глубже замкнулся в область специальных знаний: «Кто хочет стать ученым (‘алим), должен изучить отдельные отрасли» знаний (фанн), а кто хочет стать литератором — лишь распространяться о науках»[1221].
Из старой художественной литературы (адаб) выделяется целый ряд светских наук. До этого только богословие и философия имели научный метод и научный стиль, теперь же и филология, и история, а также и география приобретают свой собственный стиль и метод. Отныне ученые уже не желают больше развлекать, сводить воедино возможно большее и самое различное, они начинают специализироваться, систематизируют свои знания и делают выводы. А какими краткими становятся предисловия к книгам! Характерным тому примером может служить предисловие к Фихристу, написанное в 377/987 г.: «О Аллах, пособи мне милостью твоей! Души жаждут выводов, а не предпосылок, они стремятся к цели, и не нужны им предваряющие долгие объяснения. А поэтому в предисловии к этой книге мы ограничимся лишь этими словами, ибо она сама — если это будет угодно Аллаху — покажет, чего мы хотели, сочиняя ее. Мы просим у Аллаха помощи и благословения его!».
Дальнейшие изменения были вызваны тем, что законоведение отделилось от богословия и отныне мир ученых разделился на два враждебных лагеря: юристы (фукаха) и собственно ученые (‘улама). Вокруг первых группировалось огромное количество учившихся ради куска хлеба, ибо только при помощи тех, кто обучал праву и обрядам, можно было получить место судьи или проповедника. В хорошо известном отрывке ал-Джахиз говорит: «Мы убеждаемся на опыте, что если кто-нибудь на протяжении пятидесяти лет изучает хадисы и занимается толкованием Корана, то он не может все же быть причислен к юристам и не может добиться должности судьи. Достичь этого он может только в том случае, если он изучит труды Абу Ханифы и ему подобных, выучит наизусть практические судебные формулы, а справиться с этим он может в один-два года. И спустя немного времени такого человека могут назначить судьей города или даже целой провинции»[1222].
Расцвет богословия и новые мысли этой новой эпохи, ставшие возможными благодаря освобождению от юридического балласта, вознесли идеалы ученого на достойную уважения высоту. «Наука открывает свое лицо лишь тому, кто целиком посвящает себя ей с чистым разумом и ясным пониманием и, вымолив себе помощь Аллаха, собирает воедино все силы своего рассудка, кто, засучив рукава, бодрствует ночи напролет, утомленный рвением, кто добивается своей цели, шаг за шагом подымаясь к вершинам знаний, кто не насилует науку бесцельными отступлениями и безрассудными атаками, кто не блуждает в науке наугад, как слепой верблюд в потемках. Он не имеет права разрешать себе дурные привычки и давать совратить себя своей натуре, должен избегать общества, отказаться от споров и не быть задирой, не отвращать взора от глубин истины, отличать сомнительное от достоверного, подлинное от поддельного и постоянно пребывать в здравом рассудке». Так писал ал-Мутаххар в 355/966 г.[1223]
Носителем светских знаний был «секретарь» (катиб), уже одеждой резко отличавшийся от богослова, который носил покрывало, спускающееся на затылок (тайласан) и — по крайней мере на Востоке — повязку, охватывающую подбородок. Оплотом секретарей был Фарс, светская провинция, и в ее столице Ширазе секретарь пользовался большим почетом, нежели богослов[1224].
Раем для ученых был, напротив, Восток, где еще и сегодня богословы пользуются неизменным уважением, подобного которому нет во всем мире[1225]. Когда в V/XI в. один великий богослов совершал поездку по Персии, то повсюду жители выходили ему навстречу вместе с женами и детьми, касались рукавов его одежды, чтобы обрести благодать, и уносили пыль с его сандалий как лекарство. Купцы и ремесленники разбрасывали в сопровождавшей его толпе сласти, фрукты, одежды, меха — и даже сапожники не отставали, так что туфли падали людям на головы. А женщины-суфии бросали ему венки из роз, чтобы он коснулся их и они от этого обрели благодать[1226].
Пожалуй, каждая более или менее значительная мечеть имела библиотеку, ибо существовал обычай завещать свои книги мечетям[1227]. Говорят, что начало библиотеке мечети в Мерве положили книги, привезенные еще Йездигердом III[1228]. Теперь и власть имущие считали для себя величайшей гордостью собирать книги. Так, в конце IV/X в. каждый из трех великих повелителей ислама — в Кордове, Каире и в Багдаде — был книголюбом. Ал-Хакам в Испании имел на всем Востоке своих агентов, которые скупали для него первые списки; каталог его библиотеки состоял из 44 тетрадей по 20 листов каждая, в которые были занесены только заглавия книг. Как-то в присутствии халифа ал-‘Азиза (ум. 386/996) шла речь о Китаб ал-‘айн ал-Халила ибн Ахмада; он велел доставить ее ему, и тогда библиотеки представили ему свыше тридцати рукописей, среди которых автограф. Один человек предложил ему рукопись истории ат-Табари, которую он приобрел за 100 динаров; однако у халифа в библиотеке было уже свыше двадцати рукописей этого сочинения и среди них также автограф. У него было 100 списков Джамхары Ибн Дурайда[1229]. Более поздние поколения хотели также знать объемы книжных фондов его библиотеки, однако они колеблются (в печатном издании ал-Макризи) между 160 и 120 тыс. томов[1230]. По Ибн ат-Тувайру, библиотека имела отделы, разделенные на секции, причем каждая секция запиралась дверью, снабженной петлями и замком; там находилось свыше 200 тыс. книг[1231]. Приведем для сравнению данные о наличии книг в западных библиотеках в то же самое время: соборная библиотека в Констанце имела в IX в. 356 томов, в Бенедиктбеурене[1232] в 1032 г.— немногим больше 100, а соборная библиотека в Бамберге в 1130 г.— лишь 96[1233]. Ал-Мукаддаси ходил как-то по библиотеке ‘Адуд ад-Даула с его камергером (ра’ис ал-фаррашин): «Библиотека помещалась в специальном здании, ведали ею управляющий (вакил), библиотекарь (хазин) и инспектор (мушриф). ‘Адуд ад-Даула собрал там все книги, которые только были сочинены до него по всем отраслям знаний. Библиотека состояла из большого вестибюля и длинного сводчатого зала, к которому со всех сторон были пристроены боковые помещения. Вдоль всех стен как самого зала, так и боковых помещений, он, разместил шкафы из накладного дерева высотой и шириной в три локтя, с дверцами, опускавшимися сверху вниз. Книги помещались рядами на полках. Каждая отрасль знания имела свой шкаф и каталог, в который были занесены названия книг. Допуск в библиотеку имели только именитые граждане[1234].
Три самых страстных книголюба III/IX в.— это часто упоминаемый ал-Джахиз, ал-Фатх ибн Хакан, вельможа двора и кади Исма‘ил ибн Исхак. Любую книгу, попавшую в руки ал-Джахиза, какова бы она ни была, он не выпускал до тех пор, пока не прочитывал до конца. В конце концов он взял в аренду лавки книготорговцев, чтобы там — стало быть, заимообразно — читать книги. Более поздний источник даже приписывает ему и смерть библиофила: он имел обыкновение раскладывать вокруг себя целые горы книг, и вот однажды такая стена книг обрушилась и убила его[1235].
Ибн Хакан, даже когда он за чем-нибудь выходил из-за стола халифа, извлекал из рукава или из туфли книгу и читал ее до тех пор, пока не возвращался опять к столу, даже и в уборной, «а кади Исма‘ила ибн Исхака встречал я неизменно читающим книгу или роющимся в них»[1236].
Умерший в 275/888 г. ас-Сиджистани велел сделать ему один рукав широким, а другой — узким: первый для книг, а другой был ему не нужен[1237].
Примерно в середине III/IX в. придворный ‘Али ибн Йахйа ал-Мунаджжим выстроил у себя в имении прекрасное книгохранилище, которое назвал хизанат ал-хикма, т.е. «сокровищница мудрости». Со всех сторон к нему стекались люди, чтобы заниматься там, причем содержались они за счет хозяина. Так попал к нему и астроном Абу Ма‘шар <ал-Балхи> из Хорасана; прибыв туда вместе с караваном паломников, он посетил эту библиотеку, застрял в ней, и «покончено было с хаджем и с исламом»[1238].
Рассказывают, что некий исфаганский богослов и землевладелец, скончавшийся в 272/885 г., израсходовал на свои книги 300 тыс. дирхемов[1239]. Даже один высокопоставленный придворный в Багдаде, умерший в 312/924 г., оставил после себя книг на сумму более 2 тыс. динаров[1240]. В 357/967 г. у одного мятежного сына правителя Багдада конфисковали, между прочим, 17 тыс. переплетенных книг[1241].
В 355/965 г. проходившие мимо «борцы за веру» так основательно разграбили дом везира Абу-л-Фадла ибн ал-‘Амида в Рее, что у него не осталось ничего, на что можно было бы сесть, ни одной чаши, чтобы напиться воды. Историк Ибн Мискавайхи был в то время у него библиотекарем; он так продолжает свое описание: «Алид Ибн Хамза послал ему ковры и утварь. Однако сердце везира тревожила судьба его книг, ибо не было для него ничего милее их. А было их много, по всем наукам и всем отраслям философии и литературы, больше ста верблюжьих вьюков. Едва увидав меня, он спросил об их участи, а когда я ответил, что они целы и ни одна рука их не коснулась, он обрадовался и сказал: „Ты счастливчик! Все остальное может быть возмещено, но их не возместить“. И я увидал, как его лицо просветлело, и он обратился ко мне: „Доставь их завтра в такое-то место“. Я исполнил его распоряжение, и из всего его имущества спасены были только одни книги»[1242].
Ас-Сахиб (ум. 385/994) отклонил предложение саманидского правителя стать у него везиром и среди прочих причин сослался на трудность переезда, так как одних только книг по богословию было у него 400 верблюжьих вьюков. Каталог его библиотеки занимал десять томов. При шахе Махмуде из Газны, который не был меценатом ни по отношению к Фирдауси, ни к ал-Бируни, эта библиотека целиком сгорела[1243].
Кади Абу-л-Митриф в Кордове (ум. 402/1011), великий коллекционер книг, держал шесть переписчиков, которые постоянно для него работали. Как только он узнавал о существовании хорошей книги, он пытался ее купить, предлагая непомерно высокие цены. Он никогда не давал книг в пользование, а куда охотнее заставлял переписать книгу и, отдав копию, уже больше о ней не заботился. После его смерти в течение целого года продавали его книги в его мечети, выручив в общем сумму 40 тыс. динаров[1244].
Багдадскому ученому ал-Байкани (ум. 425/1033) понадобилось для перевозки его книг при переезде 63 корзины и 2 ящика[1245]. Ал-Казвини (ум. 488/1095) въехал в Багдад с десятью верблюдами, груженными книгами[1246].
Уже манихеи украшали книги с большой роскошью. В 311/923 г. у «общественных ворот» багдадского дворца было сожжено изображение Мани вместе с четырнадцатью мешками еретических книг, и из костра текло расплавленное золото и серебро[1247]. Приверженцы казненного в 309/921 г. еретика ал-Халладжа следовали христианам и в этом отношении. Их рукописи были написаны золотом на китайской бумаге, переплетены в дорогую кожу, парчу и шелк[1248]. Государственные грамоты византийской канцелярии каждый раз выписывались как произведение искусства: в 326/937 г. к халифу пришло послание византийского императора, в котором греческий текст был написан золотом, а арабский перевод — серебром[1249]. Несколько позднее послание к халифу в Кордове было начертано золотыми буквами на коже небесно-голубого цвета и помещалось оно в цилиндре из покрытого чеканкой серебра, на крышке которого был портрет императора, выполненный из цветного стекла. Все это произведение искусства было завернуто в парчу[1250]. Стихи халифа ал-Му‘тамида также были написаны золотом[1251]. Грамоту о назначении верховного кади ‘Абд ал-Джаббара на должность составил сам везир Ибн ‘Аббад и сам же переписал ее, роскошно оформив: она состояла из 700 строк, причем каждая была написана на одном листе самаркандской бумаги, все это помещалось в футляре из слоновой кости, «напоминающем массивную колонну»[1252]. В V/XI в. это произведение было преподнесено в дар везиру Низам ал-Мулку вместе с другой библиографической редкостью — Кораном, где разночтения были вписаны между строк красным, толкование редких выражений — синим, а различные места, наиболее приличествующие для практического их применения, выписаны золотом[1253].
Однако на арабский вкус самой изысканной библиофильской роскошью оставались все же рукописи, выходившие из-под пера знаменитых переписчиков (асл мансуб).
Между тем наряду с библиотеками возникла новая форма научных учреждений, в которой хранение книг сочеталось с обучением или, во всяком случае, с оплатой выполненной в их стенах работы. Поэт и ученый Ибн Хамдан (ум. 323/935), принадлежавший к мосульской знати, учредил в Мосуле «дом науки» (дар ал-‘илм) с библиотекой, где имелись книги по любой отрасли знания. Доступ к ним был открыт всякому, кто стремился к знаниям, а неимущим даже выдавалась бумага. Сам учредитель сидел там, читал свои и чужие стихи и диктовал сведения по истории и праву[1254].
Кади Ибн Хиббан (ум. 354/965) завещал городу Нишапуру дом с библиотекой и жилыми помещениями для приезжих ученых и стипендии на их содержание. Выдавать книги на дом не разрешалось[1255]. Один из приближенных 'Адуд ад-Даула (ум. 372/982) построил в Рамхормозе на Персидском заливе, а также в Басре библиотеки, где читатели и те, кто переписывал тексты, получали пособие. В Рамхормозе некий ученый богослов постоянно читал лекции по догматике в му‘тазилитском духе[1256]. В 383/994 г. везир Бундов Ардашир ибн Сабур (ум. 415/1024) основал «дом науки» (дар ал-‘илм) в западной части Багдада. Библиотека была великолепная — в ней хранилось 100 экземпляров одного только Корана, переписанных лучшими каллиграфами, и 10 400 других книг, главным образом автографов или экземпляров, принадлежавших ранее знаменитым людям. Заведование ею было возложено на двух Алидов и одного кади[1257]. Умерший в 406/1015 г. поэт и глава алидской знати <накиб> ар-Ради также основал такой «дом знаний» для студентов (талабат ал-‘илм), в котором он обеспечил им содержание[1258].
Эта перемена нашла свое отражение в названиях учреждений: прежние учреждения, являвшиеся только библиотеками, именовались «сокровищницами мудрости» (хизанат ал-хикма), а новые — «дом науки» (дар ал-‘илм), где библиотека (хизана) являлась лишь особой частью.
В Египте также учреждались подобные академии; так, ал-‘Азиз купил в 378/988 г. дом по соседству с мечетью ал-Азхар и устроил в нем на благотворительных началах заведение для тридцати пяти богословов, которые каждую пятницу, между полуденной и послеполуденной молитвами, собирались в мечети на ученые диспуты. Так же в IV/X в. выросла школа ученых ислама, еще и сегодня самая значительная.
Везир Ибн Киллис держал свою частную академию, причем говорят, что он ежемесячно расходовал на содержание ученых, переписчиков и переплетчиков 1000 динаров[1259]. Позднее, в 395/1004 г., халиф ал-Хаким основал в Каире дар ал-‘илм, где собрал все книги из дворцовых библиотек; доступ к ним был свободный для всех, а заведовал «домом науки» библиотекарь (хаззан) и два прислужника (бавваб), кроме того, там работали еще учителя, которые преподавали; правда, немного времени спустя он отправил этих учителей на тот свет[1260]. Чернильницы, тростник для письма (калам) и бумагу предоставляли там бесплатно. До нас дошла смета расходов этого учреждения. Содержание его обходилось ежегодно в 257 динаров, в том числе:
• бумага — 90 динаров
• жалованье библиотекарю — 48 динаров
• жалованье прислужникам — 15 динаров
• ведавшему бумагой, чернилами и тростником — 12 динаров
• ремонт — 12 динаров
• питьевая вода — 12 динаров
• аббаданские циновки — 10 динаров
• войлочные ковры для зимы — 5 динаров
• одеяла на зиму — 4 динара
• починка дверных занавесей — 1 динар
Позднее ал-Афдал ликвидировал эту библиотеку, ибо она, мол, очаг религиозных смут и сектантства[1261].
Однако преподавание богословия и правовых наук все еще происходило большей частью в стенах мечетей, где слушатели рассаживались в кружок перед учителем, который, если только предоставлялась возможность, выбирал себе место спиной к колонне. Если же кто-нибудь, располагался вблизи такого кружка (халка), то ему кричали: «Повернитесь лицом к собранию!»[1262]. В главной мечети Каира ал-Мукаддаси насчитывал к вечеру до 120 таких кружков[1263].
Учебным заведением, пользовавшимся в империи наибольшей популярностью, была в то время старейшая соборная мечеть Багдада — мечеть ал-Мансура. Передают, что Хатиб ал-Багдади сделал во время хаджа три глотка из ключа Замзам и на каждый глоток загадал: что он напишет историю Багдада, что ему дозволено будет диктовать хадисы в мечети ал-Мансура, что после смерти он будет похоронен рядом с могилой Бишра ал-Хафи[1264]. В этой мечети сидел, например, в течение пятидесяти лет у одной и той же колонны ан-Нафтавайхи (ум. 323/935) — глава захиритской правовой школы[1265].
Естественно, что в области богословия больше всего слушателей имели преподаватели канонического права, дающего средства к существованию. И все же если сравнить с сегодняшним днем, то число слушателей выражается в относительно малых цифрах, что позволяет сделать вывод: предложение в области преподавания было очень велико. Так, знаменитейший законовед столетия Абу Хамид ал-Исфара’ини (ум. 406/1015), которого называли вторым аш-Шафи‘и, читал в мечети Ибн ал-Мубарака в Багдаде всего лишь перед 300-700 слушателей[1266]. Известнейший преподаватель права в Нишапуре, в этом центре ученых всего Востока, собрал в пятницу 23 мухаррама 387/997 г. свыше 500[1267], а некий преемник «несравненного» ал-Джувайни (ум. 478/1085) — ежедневно по 300 слушателей[1268], в то время как в наши дни, например, в позабытом богом Кашгаре (Восточный Туркестан) первейший профессор тоже читает порой перед пятьюстами слушателей[1269].
Число учеников определяли по количеству чернильниц, которые они ставили перед собой и которые являлись основным орудием студенческого снаряжения[1270]. Чернильницами же забрасывали возмущенные слушатели знаменитого ат-Табари, когда он читал что-нибудь неугодное им[1271]. Если учитель умирал, то студенты ломали каламы, разбивали чернильницы и, оглашая воздух воплями и жалобами, бродили по городу. Когда умер упомянутый выше ал-Джувайни, который одновременно был и знаменитым проповедником, его минбар был разрушен и весь Нишапур принимал участие в академическом трауре: «Двери в городе были закрыты, головы вместо повязок накрывали полотенцами»[1272].
Книги приносили с собой на занятия в сумке, которую со свойственным студентам юмором именовали «бутылкой» (карура)[1273].
Раньше диктование (имла) считалось высшей ступенью преподавания[1274], и особенно в III/IX в. богословы и филологи диктовали чрезвычайно много. Сообщают, что му‘тазилит ал-Джубба’и продиктовал 150 тыс. листов, и это несмотря на то, что никогда и никто не видал, чтобы он сам заглянул в книгу, за исключением одного раза, когда он открыл календарь ал-Хваризми[1275]. Абу ‘Али ал-Кали надиктовал пять томов[1276]. В верху листа слушатель записывал: «Лекция; продиктовано нашим шейхом таким-то. Там-то, в такой-то день».
Однако в IV/X в. филологи отказались от богословской манеры чтения лекций, отказались, от диктования и ограничились толкованием (тадрис) произведения, которое читал вслух один из слушателей, «как поясняют компендиумы (мухтасарат)»[1277]. Последним, еще диктовавшим лексикологию был, вероятно, Абу-л-Касим аз-Заджжаджи (ум. 339/950)[1278]. Что же касается богословов, то у них, как об этом определенно говорит ас-Суйути, диктование еще продолжалось. Когда тщеславный везир Ибн ‘Аббад (ум. 385/995) диктовал хадисы, то естественно, что перед ним сидела кучка угодников, которые записывали за ним, а «около каждого записывавшего лепилось шестеро других, каждый из коих передавал следующему диктуемые слова»[1279]. Но и богословы также резко сокращали диктование, и только отдельные ученые еще много диктовали за счет тадриса[1280]. Как из такого диктования получалась книга, показывает история создания Китаб ал-йакут ал-Мутарриза (ум. 345/956): «Он диктовал эту книгу с 24 мухаррама 326/937 г. в мечети ал-Мансура, прямо из головы, без книги или тетради, одно занятие за другим, пока она не была готова. Затем он продиктовал еще столько же дополнений к ней. Потом Абу Исхак ат-Табари прочитал ему эту книгу в присутствии слушателей, и тогда он еще раз сделал к ней дополнения. После этого Абу-л-Фатх читал ему книгу с зу-л-ка‘да 329/941 до раби‘ II 331/942 г., причем сличались все записи лучших учеников, и опять были сделаны дополнения. Затем он прочитал новые главы и дополнения, которые записал Абу-л-Мухаммад Вахб. После этого Абу-л-Исхак ат-Табари должен был еще раз прочитать ему всю книгу, и только тогда она приобрела свою окончательную редакцию, и он обещал больше не делать дополнений»[1281].
Видоизмененный метод преподавания создал в свою очередь новые типы учебных заведений, и благодаря преобладанию тадриса (толкования) в это время возникают медресе. Основной причиной их возникновения послужил, кажется, тот факт, что с тадрисом были тесно связаны ставшие с той поры общепринятыми диспуты (муназара), а мечеть не была подходящим для них местом. Значит, и в этом отношении IV/X в. создал форму, продолжающую существовать и до нашего времени. Все данные источников указывают на Нишапур, бывший в то время главным средоточием учености Востока, как на родину учебных заведений этого типа. Самый надежный источник — автор истории ученых Нишапура ал-Хаким (ум. 406/1015)[1282] говорит, что первое медресе было построено там для его современника ал-Исфара’ини (ум. 418/1027)[1283]. Лишь немногим моложе следует считать медресе Ибн Фурака (ум. 406/1015)[1284]. Как ал-Исфара’ини, так и Ибн Фурак были восторженными последователями ал-Аш‘ари, а потому они отдавали предпочтение догматическому толкованию, т.е. тадрису, перед заимствованной простой устной передачей[1285]. Третьим уроженцем Нишапура (ум. 429/1037), построившим ученым медресе против ворот своего дома, был некий главный толкователь (мударрис) и диспутант (муназир)[1286].
В больших школах на возвышении сидел помощник учителя (мустамли), который следил за тем, чтобы было тихо, и передавал слова учителя сидящим далеко. У богословов учитель начинал занятие словами «хвала Аллаху» и славословиями в честь пророка. Затем заставлял какого-нибудь ученика, обладающего хорошим голосом, прочитать несколько стихов из Корана, а когда ученик заканчивал чтение, учитель молился о благоденствии города и учеников[1287]. Помощник учителя приказывал соблюдать тишину, произносил «во имя Аллаха» и хвалу пророку, а затем спрашивал учителя: «Да будет милостив к тебе Аллах, кого ты цитировал?»,— и всякий раз, как встречалось имя пророка или какого-нибудь святого, он произносил вслед за его упоминанием предписываемые формулы благословения[1288].
Около 300/912 г. учитель начинал с чтения Корана и «разночтений», затем переходил к изречениям пророка, «и если встречалась какая-нибудь необычная форма или неупотребительное выражение, он объяснял их, растолковывал и спрашивал своих слушателей об их значении»[1289]. Ученики имели также право вставать во время занятий и задавать вопросы, как об этом свидетельствует история одного филолога (ум. 415/1024). У него на занятии встал сначала один ученик и спросил: «О Абу ‘Убайда, что это?» Затем встал другой, а за ним и третий. Но так как все трое задавали дурацкие вопросы, Абу ‘Убайда подхватил свои сандалии, помчался в мечеть и возопил: «Откуда это согнали сегодня ко мне этих скотов?»[1290].
Благочестивая робость перед передачей хадисов, существовавшая ранее[1291], в то время еще не совсем исчезла. Ал-Биркани (ум. 425/1034) рассказывает, что его учитель неохотно преподавал хадисы. Когда он с кем-нибудь разговаривал, его ученики обычно рассаживались в сторонке, чтобы без его ведома собирать хадисы, которые он вплетал в свою речь[1292]. Другой учитель отказывался преподавать хадисы, пока ему не исполнилось 70 лет[1293]. Происходило это потому, что чтение хадисов все еще являлось своего рода богослужением, требовавшим определенного благолепия. «Рекомендуется, чтобы преподаватель хадисов, прежде чем приступить к преподаванию, совершил омовение, окурил бы себя и расчесал бороду. А сидеть он должен прямо, в благопристойной позе. Если кто-нибудь из слушателей повысит голос, он должен поставить его на место со всей строгостью. И принимать каждого он должен вежливо»[1294].
До нас дошли известия эпохи II/VIII и III/IX вв. о том, что в круг слушателей, сидевших перед почитаемым богословом, бросали порой записки, в которых просили помолиться о больном или каком-нибудь страждущем и нуждающемся. Учитель подбирал эти записки, произносил молитву, ученики хором произносили в заключение «Аминь!», а затем занятия продолжались[1295].
От IV/X в. дошла следующая история: «Когда ас-Сахиб ибн ‘Аббад вознамерился как-то во время своего везирства диктовать хадисы, он появился в покрывале с подвязанным подбородком, как это обычно делали богословы, и сказал: „Вам известно мое рвение на поприще богословия“. Слушатели подтвердили. Тогда он продолжал: „Я всегда предавался этому делу, и все, что я издержал на него, с детских лет и до сего времени, шло из денег моего отца и деда, и, невзирая на все это, я не был свободен от заблуждений. Аллах и вы все будьте моими свидетелями в том, что я приношу покаяние перед Аллахом за все содеянные мною когда-либо прегрешения“. Затем он удалился в дом, названный им домом покаяния, пробыл там несколько недель; потом, велев преподавателям права засвидетельствовать в письменном виде подлинность его покаяния, отправился к своим слушателям и сел диктовать хадисы. Народу собралось там много. Около каждого записывавшего сидело по шесть человек, и каждый передавал другому все, что диктовалось»[1296].
Ал-Даракутни (ум. 385/906) молился про себя, когда ученик читал перед ним вслух, и обращал внимание слушателей на ошибки словами: «Сохрани боже!» (субхан Аллах). В качестве примера его остроумия рассказывается, как он однажды исправил ошибку изречением из Корана[1297].
Некий богослов, умерший в 406/1015 г., имел обыкновение сначала читать Коран, а затем уже диктовать хадисы, причем в течение всего этого времени сидел совершенно неподвижно до тех пор, пока не приходил в полное изнеможение[1298]. Что же касается ал-Бахили, то он, проводя занятия раз в неделю, всегда сидел за занавесом, ибо в противном случае ученики смотрели бы на него и на толпу теми же самыми глазами. «Из-за усиленной занятости Аллахом он стал как неистовый или безумный, он никогда не знал, на чем остановился с нами, пока мы ему не напоминали»[1299].
Завершалось преподавание богословия опять-таки молитвой, предваряемой словом куму — «встаньте»[1300].
Спорили, разумеется, также и о возрасте, когда следует приступать к учению. Одни рекомендовали обращаться к изучению хадисов лишь в 30 лет, другие — в 20 лет. В VI в.х. ‘Ийад, кади из Кордовы (ум. 544/1149), установил, что, согласно мнению специалистов, низшим возрастом для изучения хадисов является пять лет, в подтверждение чего можно принять во внимание и хадис у ал-Бухари (‘Илм, гл. 18) и то, что ан-Навави (ум. 476/1083) считает это за правило для своего времени. Передают, что знаменитого ал-Хумайди на занятия приносил на плечах его отец[1301]. Такая точка зрения привела к тому, что жизнеописания ученых очень охотно приводят возраст, в котором ученый приступил к занятиям. Иногда, но редко, это случалось уже в шесть лет — к таким относится знаменитый кади ат-Танухи (ум. 384/994)[1302]; с восьми лет начал занятия Абу Ну‘айм из Исфагана, величайший традиционалист своего времени[1303], но чаще всего начинали в 11 лет. Одиннадцати лет начали учебу знаменитый ал-Хатиб и трое из его учителей[1304], а также Ибн ал-Джаузи[1305]. И все же были учителя, которые не терпели безбородых на своих занятиях, вероятно, из-за боязни всяких любовных историй. Поэтому один усердный юный ученик вынужден был наклеивать себе фальшивую бороду[1306].
Единое мнение отсутствовало и в вопросе о том, в каком возрасте следует приступать к преподаванию богословия. Ан-Навави считает, что в любом, когда у тебя будут слушатели. Прекратить же преподавание старик учитель должен, когда у него появятся опасения, что он из-за старческой слабости или по слепоте может перепутать хадисы[1307].
Ал-Исфара’ини — крупнейший шафи‘итский учитель законоведения IV/X в., будучи бедным студентом, работал к тому же привратником[1308]. Другие экономили во время курса обучения тем, что спали на минарете той мечети, где они слушали лекции[1309]. О везире Ибн ал-Фурате рассказывают: во время своего везирства он имел обыкновение ежегодно выдавать поэтам 20 тыс. дирхемов в качестве постоянной субсидии независимо от того, что он им дарил в других случаях или когда они его славили. В годы своего последнего везирства он вспомнил и о студентах (туллаб ал-хадис) и сказал как-то: «Быть может, кто из них и скопит грош (даник) или того меньше, чтобы купить себе бумаги и чернил, но я обязан заботиться о них и помогать им». И он пожертвовал им из своей казны 20 тыс. дирхемов[1310]. Эта история отнюдь не должна наводить на мысль, будто пожертвования в пользу студентов были тогда обычным явлением. Между прочим, и из этих денег значительная часть уплыла, как об этом обстоятельно рассказывается, по другому руслу[1311].
Если студент не становился юристом и не получал должности, то такому ученому без средств к существованию приходилось жить перепиской книг, как, например, христианину Йахйе ибн ‘Ади (ум. 364/974), одному из ведущих философов IV в., который дважды переписал весь комментарий к Корану ат-Табари и умудрялся переписывать в сутки до ста листов[1312]. Абу Хатим, бывший 50 лет подряд переписчиком книг (варрак) в Нишапуре, рассказывает: «Изготовление копий — занятие жалкое и проклятое, оно не дает ни куска хлеба для жизни, ни савана для смерти»[1313]. Ад-Даккаку (ум. 489/1096), который должен был содержать перепиской мать, жену и дочь и в течение одного года переписал Сахих Муслима, приснился однажды сон, будто он получил отпущение грехов во время Страшного суда, «и когда я прошел врата рая, я бросился на землю на спину, растянулся во всю длину, закинул ногу на ногу и вскричал: „Ах! Вот теперь-то, клянусь Аллахом, я избавился от переписывания!“»[1314].
«Предательство переписчиков» (хийанат ал-варракин) рассматривалось как несчастье для науки[1315]; истинно добросовестные ученые по возможности сами переписывали себе свои библиотеки[1316].
Преподавание также давало не очень много. Существовало широкое течение среди ученых, как, например, вся школа ханифитского толка, Ахмад ибн Ханбал, Суфйан ас-Саури и другие, которые объявляли: вообще недопустимым брать плату за обучение Корану и хадисам[1317]. Другие полагали, что брать деньги разрешается, однако ставили превыше всего того преподавателя хадисов, который поучал только «ради небесной награды». Еще ан-Навави в VIII/XIII в. отказывается принимать жалованье, назначенное ему за его должность преподавателя при Ашрафиййе.
По окончании такого бесплатного занятия ученик говорил приблизительно так: «Да вознаградит тебя Аллах!», на что учитель отвечая ему: «Да сделает Аллах тебе это на пользу»[1318].
В 346/957 г. умер один знаменитый хорасанский учитель, который с тридцатого года своей жизни настолько оглох, что не слышал даже крика осла. Когда он намеревался однажды пройти в мечеть на занятия, то обнаружил, что она битком набита слушателями, они подняли его на плечи и так на плечах доставили до его места. Он не брал денег за преподавание, а жил переписыванием[1319]. Ал-Джаузаки (ум. 388/998) говорил: «Я израсходовал на хадисы 100 тыс. дирхемов и не заработал на них ни единого дирхема»[1320]. Некий Алид, желая подарить знаменитому ал-Хатибу ал-Багдади в мечети Тира 300 динаров, положил их ему на молитвенный коврик. Однако ал-Хатиб, побагровев от гнева, забрал свой коврик и покинул мечеть, а Алид должен был выковыривать свои золотые из щелей матов[1321].
Но и стать школьным учителем (му‘аллим ас-сибйан, или му‘аллим ал-куттаб), каким был, например, ставший позднее знаменитым Абу Зайд ал-Балхи (ум. 322/933)[1322], означало «прокисший хлеб и презренное ремесло». Ал-Джахиз написал целую книгу о школьных учителях, пересыпанную забавными анекдотами, в которых изображается их беспомощность и глупость. А выражение «глупее, чем школьный учитель» прочно вошло в обиход[1323]. Во многом в этом отношении была повинна греческая комедия, в которой школьный учитель (схоластикус) был непременной комической фигурой.
Но помимо этого со всей серьезностью считалось: к принесению клятвы не допускаются люди, отдающие напрокат животных, ткачи и моряки; лишь половину законной силы имеет клятва носильщика (пожалуй, так следует читать!) и школьного учителя[1324]. Ибн Хабиб (ум. 245/859) советовал: «Если ты спрашиваешь кого-нибудь о его ремесле и он ответит: школьный учитель! — бей его!»[1325]. Ибн Хаукал сообщает: «Ежедневное поедание лука сделало сицилийцев слабоумными, и поэтому они видят вещи не такими, каковы они на самом деле. К этому относится и то, что они считают своих школьных учителей — а их там свыше трехсот — самыми благородными и самыми важными мужами и выбирают их судебными заседателями и доверенными лицами. А ведь хорошо известно, сколь ограничены разумом школьные учителя, сколь легковесен их мозг, что они прибегли к своему ремеслу только из страха перед войной и из трусости перед сражением»[1326].
Платили учителю также и натурой: «пироги учителя» стало поговоркой для обозначения всевозможнейших, сваленных в одну кучу вещей. Потому что пироги учителя были и большими и маленькими, хорошими и плохими — в зависимости от состояния и щедрости родителей учеников. Ал-Джахиз говорил об одном учителе: «Разный хлеб и тощие- пироги — это проклятый хлеб и проклятая служба»[1327].
В лучшем положении были домашние учителя в зажиточных домах: «Средний учитель (му’аддиб) учит мальчиков за 60 дирхемов, а выдающийся — не менее чем за 1000»[1328]. Один такой домашний учитель в доме военачальника ‘Абдаллаха ибн Тахира получал в III/IX в. 70 дирхемов в месяц, но постоянно находился под наблюдением своего наставника, порекомендовавшего его, который время от времени проверял знания мальчиков и имел право уволить домашнего учителя[1329]. Блестящее положение занимали учителя наследников престола, в качестве которых охотно приглашали видных филологов. Мухаммад ибн ‘Абдаллах ибн Тахир, правда, один из самых щедрых вельмож своего времени, предоставил грамматику Са‘лабу, домашнему учителю своего сына, дом около своего дворца, где учитель жил с его сыном, и отпускал им ежедневно семь порций черного хлеба, одну белого, семь фунтов мяса, фуража на одну лошадь и ежемесячно 1000 дирхемов[1330]. В 300/912 г. сын везира устроил в Багдаде праздник с приглашением гостей по случаю поступления своего сына в школу, на котором присутствовали 30 гостей — офицеры и высшие чиновники. А домашний учитель получил в подарок 1000 динаров[1331].
В школе для наследников престола рядом с маленьким ал-Ма’муном стоял раб его домашнего учителя, который брал у него из рук доску, когда нужно было ее стереть, стирал написанное и клал ее ему вновь на колени[1332].
Ученые, пользовавшиеся расположением при дворе, получали пособие, для чего велись две графы расходов: 1) юристы (фукаха), 2) богословы (‘улама). Третьей и, пожалуй, выше всего оплачиваемой была категория сотрапезника (надим) его величества (т.е. халифа). Можно было также получать все три рода пособий вместе, что составляло в таком случае 300 динаров в месяц и давало еще и бесплатную квартиру[1333].
Когда филолог Ибн Дурайд (ум. 321/933) прибыл без всяких средств в Багдад, он ежемесячно получал от ал-Муктадира по 50 динаров[1334]. А тюркский философ ал-Фараби (ум. 339/950) получал от Сайф ад-Даула, правителя Алеппо, по одному дирхему в день и довольствовался этим[1335].
Редко где можно встретить указание о том, чтобы в то время кто-нибудь из ученых занимался еще и каким-нибудь другим делом или ремеслом. Ас-Сибги (ум. 344/955) продавал краски; в его лавке собирались все традиционалисты[1336]. Впоследствии он завещал этот свой «дом закона» (дар ас-сунна) одному ученому под школу (медресе) вместе с пожертвованиями[1337]. Ученым и одновременно богатым купцом был ад-Ди‘лидж (ум. 351/962), оставивший после себя 300 тыс. динаров. Однажды он послал одному коллеге свою книгу, вложив между каждыми двумя листами по золотой монете. Он имел обыкновение говорить: «Нет ничего на свете равного Багдаду, в Багдаде нет ничего равного Кати‘а, а в Кати‘а нет ничего равного Дарб Абу Халаф, а в Дарб Абу Халаф нет ничего равного моему дому»[1338]. Другой ученый, живший в Старом Каире, существовал ремеслом портного. Он шил одну рубаху (камис) в неделю за один дирхем и два данника, питался и одевался на эти деньги, не принимая ни от кого в виде воспомоществования даже и глотка воды[1339]. Другой каирский ученый (ум. 494/1101) жил тем, что продавал богатым людям роскошные одежды (хал‘)[1340]. Но один из крупнейших филологов своего времени ал-Мутарриз (ум, 345/956) всю свою жизнь терпел нужду, ибо научные занятия мешали ему зарабатывать на пропитание[1341]. А знаменитый филолог Ибн Фарис (ум. 369/979) называет дирхем лучшим врачом своего недуга и желает себе 1000 динаров, чтобы глупцы служили ему[1342].
В конце рассматриваемой эпохи мусульманские ученые получили наконец право удостаиваться высших почетных титулов. Так, молодой ал-Исфара’ини (ум. 418/1027) был первым среди ученых Нишапура, получившим титул рукн ад-дин, т.е. «столп религии»[1343]. Тогда же возник, сначала также как почетное прозвание, ставший позднее столь важным титул шайх ал-ислам, причем сразу же в двойном издании, ибо как аш‘ариты, так и консерваторы Персии присваивали этот почетный титул своим ведущим богословам[1344].
Существовали также и ученые, напоминающие персонажи профессоров из юмористических листков. Грамматики Са‘лаб и ал-Мубаррад обычно так отделывали друг друга, что их слушатели в восторге спешили с лекции одного на лекцию другого[1345].
Некий ученый как-то похвастался: «Я еще ни разу ничего не забывал» — и тут же крикнул: «Раб, подай мне мои туфли!» На что тот отвечал ему: «Они ведь у тебя на ногах!»[1346].
Знаменитый филолог Ибн ал-Халавайхи был ученый хам: однажды в присутствии эмира Сайф ад-Даула он так ударил поэта ал-Мутанабби по лицу ключом от дома, что у того кровь полилась[1347]. А ан-Нафтавайхи был равно знаменит как ученостью, так и своей нечистоплотностью и дурным запахом.
Лексикологу ал-Джаухари (ум. ок. 390/1006) его работа вскружила голову. Продиктовав свой словарь до буквы «дад», он отправился в старую мечеть Нишапура, взобрался на крышу и закричал: «Эй вы, люди! Я сделал в своей жизни нечто такое, чего не удавалось еще ни одному человеку, а теперь я намереваюсь сделать и для потусторонней жизни нечто такое, чего еще никто не сделал!» Он привязал створки дверей веревкой себе к рукам, поднялся на самый высокий выступ мечети и вознамерился совершить полет, но упал на землю и разбился насмерть[1348].
В IV/X в. мусульманское богословие пережило событие исключительной важности: оно освободилось от правоведения, служанкой которого было до сего времени[1349]. Еще в III/IX в. все признанные церковью богословские сочинения носили канонический отпечаток. Заслуга в этом повороте принадлежит в первую очередь му‘тазилитам, которые уже на протяжении всего III/IX в. ставили чисто теологические вопросы и теперь призвали к ответу своих противников. Вообще они явились первой мусульманской партией, лишенной каких бы то ни было юридических тенденций; уже в IV/X в. из всех пяти больших групп, на которые распадался в то время ислам,— сунна, му‘тазила, мурджи’а, ши‘а и хариджиты[1350]— она была единственной чисто догматической (каламийа)[1351]. Му‘тазилиты предоставили полную свободу частным судебным определениям (фуру‘) и учили, что в этом деле каждый компетентный ученый юрист (муджтахид) может иметь собственное мнение[1352]. Таким образом, в рядах каждой юридической школы, даже и в среде «традиционалистов» (асхаб ал-хадис), имелись му‘тазилиты, которых привыкли рассматривать как прирожденных противников схоластов[1353]. С другой стороны, ярыми противниками всего юридического были суфии. Свое презрение к правоведению (‘илм ад-дунйа), которое они считали светской наукой, они даже не в состоянии были достаточно резко выразить. Ал-Макки (ум. 386/996), например, использует против правоведения приписываемое Христу суждение: «Плохие ученые подобны камню, упавшему в устье оросительного канала. Сам он не может впитывать воду, но и не пускает ее на поле. Таковы и светские ученые: они сидят на дороге к потусторонней жизни, не могут сами туда пройти и не пускают рабов пройти к богу. Или они как побеленные надгробия: снаружи украшены, а внутри полны мертвых костей»[1354]. И здесь суфии одержали победу: уже в следующем веке ал-Газали, родоначальник позднейшего мусульманского правоверия, квалифицирует правоведение как нечто светское, чуждое богословию[1355]. Разумеется, и среди суфиев имелись также течения, запрещавшие под страхом кары вообще всякую науку. Ибн Хафиф (ум. 371/981) вынужден был прятать от братьев чернильницу в нагрудном кармане, а бумагу — в поясе штанов[1356].
И опять-таки существовало противопоставление гностики, внутреннего познания, знанию и богословию. «О чудо, как может тот, кто ничего не знает о волосах на своем собственном теле, как они растут, черны ли они или белы, как может он познать творца всех вещей?» Так глумился над наукой ал-Халладж (ум. 309/922)[1357]. В другом месте он рассказывает: «Я видел одну суфийскую птицу с двумя крылами, и, пока она летела, она не познала моего дела. И спросила она меня о чистоте (сафа). Тогда я сказал ей: „Обрежь свои крылья ножницами самоуничтожения, иначе ты не сможешь мне следовать“. Она же возразила: „Они нужны мне, чтобы летать“. Однажды она упала в море рассудка и утонула в нем»[1358].
Напротив, другие, как, например, ал-Джунайд (ум. 298/910), категорически ставили богословие (илм) выше гносиса (ма‘рифа)[1359], и на деле в списках ученых, например шафи‘итских, можно обнаружить большое количество суфиев. Суфийская теология являлась даже наиболее важной и преуспевающей, ибо она таила в себе самые мощные религиозные силы в науке того времени. В III/IX в. и IV/X в. она дала исламу и запечатлела в нем те три учения, которые и в наши дни еще являются самыми важными и самыми действенными в религиозной жизни ислама: стойкое упование на Аллаха, святых и почитание Мухаммада[1360]. Занятия Кораном и хадисами, издавна налагаемые как религиозный долг на каждого верующего, мужчину и женщину[1361], продолжали развиваться, но и в этом IV/X век также выработал новую практику, выражавшуюся в том, что теперь были предприняты первые попытки сделать способность к передаче хадисов независимой от личного общения и даже от специального письменного на то разрешения[1362]. В результате на место устарелых разъездов по отдельным хранителям хадисов было поставлено изучение книг. Так, Ибн Йунус ас-Садафи (ум. 347/958) смог стать главой традиционалистов Египта, несмотря на то что он никуда не ездил для собирания хадисов и никого не слышал за пределами Египта[1363]. И все же прошло еще немало времени, прежде чем наряду с купцом и чиновником все реже стал скитаться по дорогам, и заезжать на. постоялые дворы ученый — охотник за хадисами. В 395/1005 г. умер Ибн Манда, «завершающий из раххалин» <хаттам ар-раххалин>, т.е. знаменитейший среди тех, которые странствовали по империи, чтобы услышать хадисы. Он собрал 1700 хадисов и привез домой 40 верблюжьих вьюков книг[1364]. Абу Хатим из Самарканда (ум. 354/965) прослушал около тысячи учителей от Ташкента до Александрии[1365], а один афганский ученый (ум. 429/1037) — свыше 1200[1366]. И тем не менее знаменитый ал-Газали — важнейший богослов для грядущих веков — совершил очень мало путешествий для своего образования. За пределами своего родного города Туса он слушал учителей на Севере, в Джурджане, затем учился в Нишапуре, этом крупном университетском городе своей страны. И это было все[1367].
Насколько неустойчивым были еще в IV/X в. воззрения в этом вопросе, убедительнее всего показывает ас-Самарканди в своем Бустан ал-‘арифин (стр. 18 и сл.). Отражением этой борьбы является также и тот факт, что и ан-Наубахти называл величайшим лжецом известного Абу-л-Фараджа ал-Исфахани (ум. 356/967), автора Китаб ал-агани, у которого слушал хадисы также и знаменитый ад-Даракутни, «потому что он имел обыкновение ходить на рынок книготорговцев, где царило оживление и было полно книг; там он покупал добрую охапку рукописей, уносил их домой и из них-то и заимствовал все свои цитаты»[1368].
Но все же традиционалисты были самыми важными среди ученых: их причисляли к наиболее значительным мужам империи, наряду с небольшим числом избранных особ хроники неизменно сообщают даты их смерти, а о силе их памяти рассказываются фантастические истории. ‘Абдаллах ибн Сулайман (ум. 316/928), который был столь знаменит в Багдаде, что даже читал лекции в доме везира ‘Али ибн ‘Исы и правительство учредило ему кафедру (минбар), отправился как-то из Багдада в Сиджистан. Книги он с собой не взял, но продиктовал на память 30 тыс. хадисов. Багдадцы посчитали, что он дурачит слушателей, и послали курьера (файдж), которого они наняли за шесть динаров. Тот записал продиктованное ‘Абдаллахом, вернулся назад, и выяснилось, что возразить можно лишь против шести хадисов и только три из них оказались неверными[1369]. Ибн ‘Уква (ум. 332/943) хвастался, что держит в памяти 52 тыс. хадисов вместе с цепью их передатчиков[1370]. Сообщают, что кади Мосула, умерший в 355/966 г., знал наизусть 200 тыс. хадисов[1371]. А в Египте в 401/1010 г. умер один ученый, у которого был свиток длиной в 87 локтей, с обеих сторон исписанный первыми словами хадисов, которые он знал на память[1372]. Богословы с гордостью рассказывают историю, случившуюся с поэтом ал-Хамадани (ум. 398/1007), который был весьма высокого мнения о своей способности после однократного прослушивания произнести наизусть сто стихов. Он с презрением отзывался о том благоговении, с которым относятся к «запоминанию» (хифз) хадисов. Тогда кто-то послал ему однажды главу из сборника хадисов и дал неделю сроку, чтобы выучить их наизусть. По прошествии недели поэт отослал ему тетрадь обратно: «Кто в состоянии удержать это в памяти? Мухаммад сын такого-то и Джа‘фар сын такого-то согласно такому-то, а затем опять разные имена и выражения»[1373].
Доказательством проворства, которого достигла передача хадисов, может служить тот факт, что ал-Хатиб прослушал в Мекке весь длинный Сахих ал-Бухари за пять дней, правда у одной дамы[1374].
Двумя величайшими представителями науки о хадисах в этом веке были Абу-л-Хасан ‘Али ад-Даракутни (ум. 385/995) и ал-Хаким из Нишапура (ум. 405/1014), которых затем в следующем столетии сменил ал-Хатиб ал-Багдади (ум. 463/1071). Их тематика была передана им через завершенные в III/IX в. сборники хадисов со всеми их подразделениями и противоречиями. Теперь они трудились над составлением новых сборников; так, ад-Даракутни писал книгу сунны и за большие деньги помогал египетскому везиру Джа‘фару ибн ал-Фадлу, одержимому богословским тщеславием, составлять муснад[1375]; или корпели над «дополнениями» (истидрак и мустадрак), как, например, дополнения ад-Даракутни и ал-Хакима, которые оба придерживались той точки зрения, что ранние классики упустили очень много хорошего материала. Или над составлением параллельных сведений по данным других надежных лиц (мухаррадж или мустахрадж), что делал почти каждый мало-мальски опытный традиционалист IV/X в.[1376] Особая литература, возникшая в этом веке, занималась только вызванными недостаточным пониманием текста разночтениями (тасхифат), и об этом также писали как ад-Даракутни, так и ал-Хатиб[1377].
Критическая работа над хадисами с самого начала была посвящена отдельным авторитетам (ма‘рифат риджал ал-хадис), установлению их имен и их оценке с точки зрения того, «надежны» (сикат) они или «слабы» (ду‘афа), затем теории подобной оценки, т.е. установлению тех необходимых свойств, которыми должен отличаться полноценный передатчик хадисов (ма‘рифат ал-джарх ва-т-та‘дил). Передают, что первое сочинение подобного рода написал Йахйа ибн ал-Каттан (ум. 198/914)[1378]. После сопоставления классических трудов пристальному исследованию подвергались теперь главным образом названные в них авторитеты и писались книги о передатчиках обоих Сахихов и т.п. Требование непрерывной цепочки передатчиков[1379] позднее привело от составления биографий и оценки каждого из этих свидетелей в отдельности к написанию их общей истории. Так возникли «хроники» (таварих) III/IX в.— такие, как хроника ал-Бухари (ум. 256/870), составленная по принципу времени и места «Большая книга поколений» Ибн Са‘да (ум. 230/845) и так называемые «истории городов» III/IX в. и IV/X в., которые увенчались «Историей Нишапура» ал-Хакима (ум. 406/1015),— полагают, что в ней были собраны еще более подробные жизнеописания, чем у ал-Хатиба[1380],— Та’рих Исфахан Абу Ну‘айма (ум. 430/1038) и Та’рих Багдад ал-Хатиба (ум. 463/1071). До каких тонкостей дошла в них критическая техника, показывают сочинения ал-Хатиба: «Об отцах, которые передавали хадисы по словам их сыновей» и «Книга сподвижников пророка, которые передавали хадисы по словам последующего поколения»[1381]. Эти биографические познания пользовались в то время весьма высокой оценкой. Кади Абу Хамид из Мерва (ум. 362/972), знаменитый как учитель великого писателя Абу Хаййана ат-Таухиди, считал биографии «морем решений и сокровищницей кади»; он утверждал также, что находчивость юриста <т.е. искусство применения аналогии> определяется степенью его знакомства с этими биографиями[1382]. Больше всего поражало у ал-Хатиба, как точно он мог доказать поддельность документа, исходя из анахронизмов в подписях[1383].
В IV/X в. ал-Карабизи (ум. 378/988) написал ту самую книгу об именах и прозвищах передатчиков, которая во все времена считалась лучшей[1384].
Раньше исторические исследования пользовались у богословов такой дурной славой, что Ибн Исхак (ум. 151/767), как передают, язвительно спрашивал одного ученика, занимавшегося изучением истории: «А кто же, собственно говоря, был у Голиафа знаменосцем?»[1385]. Теперь же аз-Зинджи, называя лекции по изучению хадисов, которые он слушал в начале IV/X в., говорит исключительно о таких исторических предметах, как история ал-Мубаййида «носящих белое», смерть Хаджара (Ибн ‘Ади), предводителя шиитов, книга о битве при Сиффине, книга о «верблюжьей битве»[1386]. Позднее, однако, направление ветра переменилось, и ан-Навави упрекает Ибн ‘Абд ал-Барр (ум. 463/1071) в том, что он, мол, испортил свою книгу тем, что отвел в ней место для сообщений историков[1387].
Успешно совершенствовалась в IV/X в. и теория критики хадисов; начиная с этого времени она получила свою собственную терминологию. Так, Ибн Абу Хатим ар-Рази (ум. 327/939) построил целую шкалу оценок для передатчиков: сика — «надежный», муткин — «точный», сабт — «солидный», худжжа — «авторитет», ‘адл хафиз — «хорошая память», дабит — «достоверный», садук — «правдивый», махаллуху ас-сидк — «склонный к правдивости», ла ба’с бихи — «не внушающий опасения»[1388]. Говорят, что первым установил три основных класса передачи ал-Хаттаби (ум. 388/998): «совершенный» (сахих), «хороший» (хасан) и «слабый» (да‘иф); ад-Даракутни (ум. 385/995). определил та‘лик, а ал-Хаким (ум. 405/1015) поставил на ноги как самостоятельную науку «Основы науки о предании» (усул ал-хадис) в том виде, как она существует и по сей день, так что и в этой области последующие столетия также смогли добавить к трудам IV/X в. лишь второстепенное. Даже и внешнюю форму изложения — деление на множество «видов» (анва‘) — сохранили со времен ал-Хакима[1389], от него же исходит и обычай переписчиков ставить точку в середине кружочка, заключающего хадис, лишь после сравнения текста[1390].
Второстепенную роль в богословском мире играли чтецы Корана (мукри’ун). Ал-Мукаддаси, описывая провинции, никогда не упускает случая указать, какая школа чтецов преобладает в ней, но самих чтецов он явно не очень-то жалует. Он отмечает, что их главными отличительными признаками являются: корыстолюбие, гомосексуализм и отсутствие дисциплины[1391]. И в эту область около 300/912 г. Ибн Муджахидом был внесен раздор[1392]. Поэтому приблизительно в его время вокруг истинного текста Корана велись ожесточенные бои. Правительство даже создало своими действиями своего рода мучеников. Так, Ибн Шанабуз (ум. 328/939) был бит плетьми по распоряжению везира Ибн Мукла и должен был отречься от шести различных вариантов чтения Корана такими словами: «Мухаммад ибн Ахмад ибн Аййуб говорит: „Я читал те буквы, которые противоречат возводимой к ‘Осману книге и чтению, принятому сподвижниками посланника Аллаха. Теперь же мне стало ясно, что это было заблуждение. А посему я, каюсь в этом и отрекаюсь от такого чтения, ибо книга ‘Османа есть сама истина, которой нельзя ни противоречить, ни искажать ее“»[1393]. И, несмотря на это, он оставил после себя учеников, одного из которых назвали аш-Шанабузи, и умер он лишь в 387/997 г. почитаемым «чтецом»[1394]. До нас дошли как его варианты разночтений, так и варианты других: они носят в высшей степени безобидный характер. Однако в этом вопросе надо было ко всему относиться крайне серьезно: обязывала догматика слова Аллаха. Умерший в 354/965 г. богослов ал-‘Аттар защищал в одном из своих толкований некоторые чтения, расходившиеся с официальной редакцией, придерживаясь только начертаний согласных; он утверждал, что в огласовке разрешается все, что дает смысл в классическом арабском языке. На него донесли, он был вызван на суд юристов и «чтецов» и принес покаяние, причем отречение его было изложено в письменном виде и подписано всеми присутствовавшими. Передают, что, невзирая на это, он все же сохранил свои собственные варианты чтения до самой своей смерти и даже преподал их своим ученикам[1395].
В 398/1008 г. еще раз неожиданно появился Коран, расходившийся с официальной редакцией и выдававшийся за экземпляр знаменитого отщепенца Ибн Мас‘уда. Коран этот был сожжен кадиями, а около полуночи появился человек и проклял тех, кто сжег его. Его убили[1396].
Как четыре правовые школы, в IV/X в. семь канонических школ чтения Корана вытеснили большую часть разночтений[1397]. Выделение восьми школ чтения Корана также явилось делом этого века[1398].
Что Коран можно толковать, отнюдь не воспринималось в IV/X в. как нечто само собой разумеющееся. Ат-Табари рассказывает, что в старые времена некий благочестивый человек, проходя как-то мимо места, где толковали Коран, крикнул учителю: «Для тебя было бы лучше, если бы по твоему заду стали лупить, как по тамбурину, чем сидеть тебе здесь»[1399]. А согласно сведениям ас-Самарканди, Омар, увидав у одного человека Коран, в котором рядом с каждым стихом было приписано толкование, потребовал ножницы и порезал Коран на кусочки[1400]. Говорят, что филолог ал-Асма‘и, например, из благочестивой робости никогда не объяснял ничего ни в Коране, ни в хадисе, даже такие слова и выражения, которые имели аналогию и этимологию и в Коране и в хадисах[1401]. Правда, ат-Табари умеет привести примеры, доказывающие, что даже и «сподвижники пророка», и особенно Ибн ‘Аббас, уже занимались толкованием Корана[1402], однако его полемика показывает, что партия, категорически отвергавшая толкования, была очень сильна. Изречение пророка «Тот, кто толкует Коран по собственному усмотрению, попадает в ад» внесло в конце концов компромиссное решение: всякое толкование Корана следует возводить к пророку и не следует произносить свое собственное суждение. Допускались еще только лингвистические комментарии[1403]. Впрочем, доказательством того, что, несмотря на все эти ограничения в отношении толкования Корана, можно было при некоторой изворотливости сказать многое, чему собственно, пожалуй, там и не место, является комментарий самого ат-Табари[1404], восхваляемый именно из-за сочетания в нем традиций с собственными рассуждениями автора[1405].
Обычно крайне либеральный ас-Самарканди ведет в данном вопросе весьма недвусмысленные речи: он, будучи сам ханифитом, также отвергает какое бы то ни было научное объяснение (ра’й). В толковании разрешается приводить в лучшем случае поясняющие хадисы, иными словами, это как раз та форма, по которой составлена глава «Толкование Корана» у ал-Бухари и у ал-Муслима, форма, обычно применявшаяся комментаторами второго класса, о которых говорит ас-Суйути[1406].Затем ас-Самарканди допускает еще и философские объяснения и юридическую трактовку для того, чтобы вывести из них законы и предписания[1407].
Новым в толковании Корана как в этом столетии, так и в предшествовавшем, явилось усердное и крайне независимое сотрудничество му‘тазилитов. По адресу их главы ал-Джубба’и сетует его зять, одновременно его ученик и его противник, ал-Аш‘ари: почему он не привел в своем комментарии ни единой буквы из старых толкователей, а опирался лишь на то, что ему подсказывало сердце и нашептывал его демон[1408]. Однако ортодоксально настроенные ученые отказывались следовать тому же самому ал-Аш‘ари в его глубокомысленном истолковании, настаивая в трактовке «сомнительных» мест на дословном объяснении[1409]. Му‘тазилитский филолог ‘Али ибн ‘Иса ар-Руммани (ум. 385/995) написал такой комментарий на Коран, что Сахиб ибн ‘Аббад на вопрос, написал ли также и он комментарий к Корану, отвечал: ‘Али ибн ‘Иса ничего нам больше не оставил[1410].
Комментарий в 12 тыс. листов сочинил умерший в 351/962 г. в Багдаде му‘тазилит ан-Наккаш[1411], который «врал в хадисах»[1412]. Стодвадцатитомный комментарий написал Абу Бакр (ум. 388/998) из Эдфу в Верхнем Египте[1413]. Этот рекорд был побит лишь в следующем столетии му‘тазилитом ‘Абд ас-Саламом ал-Казвини (ум. 483/1090), давшем толкование Корана в 300 томах, семь из которых трактуют одну только фатиху[1414]. Представление о методе этой школы дает тот факт, что му‘тазилит ‘Убайдаллах ал-Азди (ум. 387/997) собрал в своем комментарии к Корану 120 разных мнений о значении слов: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного»[1415].
Так как вплоть до этого времени ни одна мусульманская секта не принимала Коран близко к сердцу, а скорее рассматривала его как главный арсенал, обязанный поставлять им оружие для их доводов, то ему суждено было, как, впрочем, и всем священным книгам, перенести немало испытаний в трактовке. Суфии и шииты, пользовавшиеся дурной славой как асхаб та’вилат, работали испытанным методом аллегории[1416]. Так, шииты повсюду находили намеки на определенные личности: под коровой, которую Аллах велел зарезать иудеям[1417], по их мнению, подразумевалась ‘Айша; идолы Джибт и Тагут[1418]— Му‘авия и ‘Амр ибн ал-‘Ас[1419]. Во враждебном стане находились научно образованные мужи — такие, как Абу Зайд ал-Балхи (ум. 322/934), который изучал у ал-Кинди в Багдаде философию, астрономию, медицину и естественные науки и в своем послании о композиции Корана (назм ал-Кур’ан) принимал во внимание лишь буквальное значение слов[1420]. В своем исследовании об аллегориях он дошел до столь отрицательных заключений, что некий высокопоставленный кармат лишил его выплачиваемого им до той поры пособия[1421]. Также и филология требовала большей чистоты. Частично она достигла уже к тому времени такого положения, что выработала специальный церковный язык, отличный от обиходного[1422], и вся школа захиритов выдвигала основным пунктом своей программы буквальное толкование источников права, т.е. в первую очередь Корана. Но никто из них так и не написал комментария к Корану, причем из самых добрых побуждений: буквальное истолкование этой книги представлялось мусульманину того времени, так же как и нам сейчас, делом очень уж мало заманчивым.
Наиболее жестокие бои велись вокруг древнеарабских, иудейских и христианских легенд в Коране и хадисах. Это была та область богословия, где оно стало лицом к лицу с чудесами; подлинными чудотворцами оно признало только доисламских пророков. Получилось так, что самым важным трудом наиболее выдающегося корановеда своего времени[1423], умершего в 427/1036 г. Ахмада ас-Салаби, оказались «Легенды о пророках». Для одного чудесные деяния его веры были милее всего: «Он охотнее слушал истории о верблюде, который летал, чем о верблюде, который бредет по земле, и более интересовался вымышленным образом, чем точно установленным фактом»[1424], другой прямо отрицал все эти истории; третий же превращал их в произвольные аллегории[1425].
С другой стороны, знаменитый врач ар-Рази (ок. 300/912) написал книгу об «Обманах пророков», содержание которой ал-Мутаххар не рискует даже упоминать, ибо, сделав это, «он сокрушит свое сердце, отойдет от благочестия и передаст по наследству ненависть к пророкам»[1426].
Связь Корана с «разумом» породила такой же забавный мезальянс, как и у экзегетов протестантского рационализма. Один считал себя обязанным ради имени божьего взяться за перо, если его тревожило, что во время всемирного потопа утонули также и невинные дети. Он утверждал, что еще за пятнадцать лет до потопа бог запечатал лоно каждой женщины, так что неумолимый рок карал лишь грешные души[1427]. Другой считал Ноев ковчег лишь символом своей веры, а 950 лет жизни, которые Коран дарует этому пророку,— сроком жизни его проповеди[1428]! Еще один утверждал, что чудесная верблюдица, явившаяся из горы пророку Салиху, есть лишь образ особо веского доказательства; третий глубокомысленно мудрствует: пророк, вероятно, держал верблюда спрятанным у подножия горы, а затем просто вызвал его; наконец, четвертый находит также очень излюбленный выход из положения: «верблюдица», мол, всего лишь аллегорическое изображение мужчины и женщины[1429]. Иные утверждали, что Авраам, согласно Корану оставшийся целым и невредимым в пылающем очаге, просто умастился огнеустойчивым маслом, и даже указывали на подобные фокусы у индусов[1430]. Из истории птиц Абабил, которые отогнали наступавших на Мекку абиссинцев, бросая в них камни, было создано распространенное толкование — выступавшие погибли от плодов земли Йемена, его вод и воздуха[1431]. Источник из расплавленной меди, который бог заставил бить для Соломона[1432], указывает, мол, что Соломон занимался горным делом; знаменитый удод, которого Соломон хватился во время смотра войскам[1433], есть имя одного мужа; говорящие муравьи[1434]— это боязливые, а покорные Соломону демоны — гордые, сильные и умные мужи[1435].
Единственными внекораническими чудесными деяниями, являвшимися объектом занятий богословия, были чудеса, сотворенные Мухаммадом, которые Коран категорически отрицает, а сборники хадисов III/IX в. уже насчитывают около двухсот. Рассказы об этих чудесах, разумеется, также толковались рационалистами. Так, враги, окружавшие дом пророка, были ослеплены не в буквальном смысле слова, а лишь яростью и ненавистью, и потому-то не заметили его бегства; и вовсе не сам дьявол собственной персоной выступил против пророка на собрании в Мекке, а лишь человек с дьявольским характером[1436]. В образованных кругах даже и добрые мусульмане, открыто признававшие эти чудесные деяния пророка, ощущали при этом угрызения совести. Из-за этого ал-Мутаххар ал-Макдиси написал в 355/966 г. свою «Книгу творения и истории» <Китаб ал-бад’ ва-т-та’рих>, собственно именно для того, чтобы оборонить ислам и от слишком легковерных рассказчиков легенд и от неверующих скептиков. Он неустанно объясняет, что для него откровение и точно переданный хадис совершенно обязательные вещи. И все же легко заметить радость, когда он может оправдать одно из таких чудесных деяний перед разумом — «матерью всех наук». Тем, кто считает невозможным вознесение на небо Еноха, как об этом рассказывает хадис, он отвечает, что существует ведь еще много чудесного, например плывущее по небу облако и земля, которая держится на небе, несмотря на свою тяжесть[1437]. Тем, кто в истории с Ионой отрицает возможность существования живого существа во чреве животного, он приводит неоспоримость того, что зародыш во чреве матери живет и дышит[1438],— все это хорошо нам знакомая мудрость апологета. Но в одном месте он все же выдает свою затаенную склонность к рационалистическому истолкованию и лишению противоестественного чудесных деяний пророка — это когда он со всем рвением поддерживает учение о том, что одно и то же явление в одну эпоху может быть чудом, а в другую — нет, являться для одного народа чудесным, а для другого — нет и т.д.[1439] В качестве примера такого относительного чуда он совершенно недвусмысленно приводит Коран, допуская тем самым, что в иные времена нечто подобное будет вполне достижимо и для человека, и касаясь тем самым утверждения, которое верующий мусульманин с ужасом воспринимает как гнуснейшую ересь.
Считается, что пророк обещал: «К началу каждого столетия Аллах будет посылать человека из дома моего, который будет разъяснять вам вашу веру». Ученые последующих эпох составили список этих «обновителей» (муджаддидун), каждый из которых должен родиться в начале своего века[1440]. Приблизительно в 400/1009 г. выбор лежал между тремя такими кандидатами, являвшимися в равной степени личностями незначительными; в 300/912 г. серьезным претендентом был только ал-Аш‘ари (ум. 324/936)[1441]. Это указывает на нищету богословия официальной церкви, а сильные духом повсюду стояли в то время в рядах му‘тазилитов, откуда и исходили все насущные проблемы. Они, также как и ши‘а того времени, не противопоставляли себя сунне как секта; противопоставление это возникло лишь в V/XI в.[1442] В IV/X в. оппозиция му‘тазилитов по отношению к большинству верующих была еще чисто богословской, так же как и оппозиция суфиев[1443]. В области обрядовой они придерживались чаще всего ортодоксальных школ, но все же существовали как шиитские му‘тазилиты, так и зайдиты, а кроме них также и алидский толк, как, например, ад-Да‘и Абу ‘Абдаллах — ученик Абу ‘Абдаллаха ал-Басри[1444]; к числу знаменитых шиитских му‘тазилитов относятся также ар-Раванди и филолог ар-Руммани (ум. 384/994)[1445]. Их учителями были почти сплошь персы, эмигрировавшие в Вавилонию (Месопотамию), или из числа обосновавшихся в Исфагане. Ал-Джубба’и (ум. 303/915) даже комментарий к Корану написал на персидском языке[1446]. Центральной темой, занимавшей их умы, было богословие в узком смысле слова, вначале главным образом отношение Аллаха к добру и злу во Вселенной, т.е. учение о предопределении, которое представляло чрезвычайно большой интерес для их умов, затронутых влиянием зороастризма. Передают, что ведущий деятель му‘тазилитов эпохи ал-Ма’муна, Ибн ал-Хузайл ал-‘Аллаф праздновал свои крупнейшие диалектические победы как раз над магами[1447]. А в конце III/IX в. му‘тазилиты выдвинули крупнейшего поборника дуалистических воззрений — Ибн ар-Раванди, который затем был жестоко разбит представителями его же толка, которые в конце концов донесли на него правительству[1448].
В IV/X в., по крайней мере в Исфагане[1449], ни му‘тазилитам, ни суфиям не удалось избежать своей участи: им приписывалось основание культа ‘Али[1450]. Ал-Хваризми даже называет отца церкви Хасана из Басры, признаваемого и суфиями, тем человеком, к которому суфии привержены с таким же поклонением, как шииты — ‘Али, зайдиты — Зайду, а имамиты — Махди[1451].
Повсюду рассеяны были и эрратические глыбы спекулятивных учений гностиков, например учение о первом творении и о слове творца (Logos demiurges)[1452]. В IV/X в. «лишь немногие занимались предопределением и грехом, основной считалась проблема единства Аллаха и его атрибутов»[1453]. Это расширение области исследования произошло, пожалуй, не без влияния греческой философии, которая в III/IX в. уже была стимулирующим ферментом но следует все же отметить, что определенное влияние она оказывала только на верхний слой мутакаллимун <богословов>, например на ан-Наззама и ал-Джахиза[1454], не обошлось также и без влияния христианского богословия, которое на протяжении всего этого времени занималось очищением концепции божественного[1455]. Му‘тазилиты сделали последний вопрос центральной темой дискуссии и этим превратили его не только в основную догму сегодняшней мусульманской теологии, но и придали арабской философии то своеобразное направление, которое своими умозрительными исследованиями о существе и атрибутах, бога оказало влияние на учение Спинозы, а через него — и на нас. «Му‘тазилиты изобрели термин „атрибуты“ (сифат)»,— говорит Ибн Хазм; более раннее обозначение гласило — «описания» (ну‘ут)[1456]. Ал-Мукаддаси считал[1457], что характерными для му‘тазилитов являются мелочность, знание, бесчестность и страсть к иронии. То, что этот толк считался особо склонным к полемике[1458], объяснялось всей их системой, целиком базирующейся на диалектике[1459]. «Му‘тазилиты говорят: Когда спорят ученые, то правы обе стороны»[1460]. Но, несмотря на это, они были так сплочены, что в IV в. бытовала поговорка: «Держатся друг друга, как му‘тазилиты»[1461]. Эти схоласты вовлекали в орбиту своих умозрительных исследований все что угодно — «они хотели все знать»[1462]. Так называемые философы пренебрежительно взирали на них с высоты своего величия, примерно как «психолог эмпирик на метафизика»[1463]. А вместе с тем эти философы были куда более ограниченными людьми и подозревали схоластов в нечестивом образе мыслей, даже и в совершенном скепсисе[1464]. Если же принять во внимание, что эти схоласты отрицали не только всякое волшебство и астрологию, но и чудесные деяния святых, то, несмотря на их теологические мудрствования, их все же можно рассматривать как просветителей.
«Три великих схоласта были в мире; ал-Джахиз, ‘Али ибн ‘Убайда ал-Лутфи и Абу Зайд ал-Балхи»[1465]. Из них два — первый и третий (второй мне неизвестен) — являются свободными мыслителями ценнейшего типа. «У одного больше красноречия, чем содержания, а у другого и того и другого поровну»[1466].
Ал-Джахиз — Вольтер, а ал-Балхи (ум. 322/933, в возрасте свыше 80 лет), более вдумчивый и более солидный,— Александр Гумбольдт (1769—1859) этой школы. Кроме философии он занимался астрономией, медициной, географией, естествознанием, писал сочинение о Коране, в котором принимал во внимание лишь истинные значения слов, без всяких спекулятивных умозаключений. Его книга об аллегориях стоила ему почетного жалованья одного карматского вельможи, а сочинение о жертвоприношениях и заклании жертвенных животных принесло ему прозвище «дуалист»[1467].
Как воспринимали ал-Джахиза его противники, находим мы у Ибн Кутайбы: «Из всех схоластов ал-Джахиз сильнее всех в умении сделать малое великим, а великое малым; он может привести обо всем также и противоположное: то он доказывает преимущество черных перед белыми, то сражается против ши‘и, защищая партию ‘Османа, то против сторонников ‘Османа и суннитов на стороне ши‘и, то превозносит ‘Али, то принижает его; а потом пишет книгу, в которой приводит доводы, выдвигаемые христианами против мусульман, а когда доходит до того места, где должен был бы их опровергнуть, вдруг перестает приводить доказательства, так что создается впечатление, будто он хотел всего лишь натолкнуть мусульман на то, чего они не знают, а слабых в вере — довести до сомнений. В своих трудах он пускается в шутки и балагурит, чтобы снискать расположение молодежи и пьяниц. Он издевается над хадисами, что, впрочем, известно всем ученым, когда он рассказывает о печени кита (который несет на себе землю), о роге дьявола или же когда сообщает, что черный камень был-де когда-то белым, но язычники сделали его черным, и верующие должны были бы сделать его белым, если бы они верили. В том же тоне упоминает он о свитке, на котором было начертано откровение о кормлении грудью, что лежал под кроватью ‘Айши и который сжевала овца, и о других преданиях христиан и иудеев, как, например, о том, что петух и ворон вместе пили, что удод похоронил свою мать в собственной голове; издевается он и рассказывая историю о похвале лягушке, об ожерелье голубки и т.п.»[1468]. И много еще говорили о нем такого, что каждого мусульманина повергало в ужас.
Глава этих схоластов Сумама увидел как-то в пятницу людей, бегущих наперегонки в мечеть, чтобы не опоздать на молитву. «Смотрите,— вскричал он,— вот скоты, вот ослы!» — И, обратившись к одному из своих друзей, произнес: «Вот что сделал этот араб из людей!»[1469].
В III/IX в. церковные круги относились к ним лишь с ненавистью и презрением; но вот в 300/912 г. му‘тазилит ал-Аш‘ари переметнулся на сторону врага и начал борьбу против му‘тазилитов, используя их же оружие. Так в IV/X в. возникла официальная научная догматика ислама. Как и каждая официальная теология, она также была построена на компромиссе и даже сама именовала себя «средним направлением» (мазхаб аусат)[1470]. Ал-Аш‘ари льстил себя надеждой сочетать самое ортодоксальное течение с разумом и, считая себя ханбалитом, писал в своем исповедании веры: «Мы учим тому, чему учил Ахмад ибн Ханбал, и отвращаемся от того, что противоречит его учению. Ибо он превосходный имам и совершенный наставник, через которого Аллах открыл истину, когда победило заблуждение» и т.д.[1471] Но, несмотря на это, ханбалитская школа тотчас же ополчилась против него[1472]; «он всегда оставался му‘тазилитом»,— совершенно справедливо говорит о нем Ибн ал-Джаузи[1473]. Впоследствии его учение постигла участь, обычная для всех компромиссных теологий: наиболее выдающиеся его ученики дали сильный крен влево, особенно ал-Бакиллани (ум. 403/1012), который ввел в догматику понятия об атомах, о пустом пространстве и других чужеземных гостей[1474]. Один из них, начав как сторонник ал-Аш‘ари, перешел в стан врагов, к му‘тазилитам, и стал у них знаменитейшим мужем и вождем: это был умерший в 415/1024 г. кади г. Рея ‘Абд ал- Джаббар[1475]. Сделав себе карьеру при помощи ас-Сахиба Ибн ‘Аббада, он тем не менее отказал ему после смерти в церковном благословении, ибо он умер, мол, без покаяния. Ибн ал-Асир[1476], крайне возмущенный этим поступком, считал, что с того времени этот кади стал известен как образец вероломства. Мы же видим из всего этого, сколь мало оснований называть всех му‘тазилитов, вместе взятых, «свободомыслящими».
На протяжении IV/X в. приверженцы старого боролись в Багдаде с заносчивым шиизмом, в провинции же они старались отравить существование теологам му‘тазилитского толка. Однако, хотя они и умели подстрекать народ, удавалось это им только в умеренной степени; до нас дошли сведения лишь о незначительном числе подобных преследований[1477]. Учение ал-Аш‘ари еще не настолько окрепло, чтобы его можно было считать врагом; лишь начиная с 380/990 г. оно стало приобретать вес в Вавилонии[1478] и в результате вынуждено было нести последствие этого. Ханбалиты вознамерились запретить ал-Хатибу ал-Багдади посещение главной мечети Багдада за его аш‘аритские склонности[1479]; при Тогрул-беке подверглись преследованию и были сосланы самые уважаемые учителя аш‘аритов того времени, а к концу столетия влиятельный аш‘арит ал-Кушайри (ум. 514/1120) вынужден был покинуть Багдад из-за поднятых ханбалитами уличных беспорядков[1480]. Только после этого события Ибн ‘Асакир датирует начало полного разрыва между обеими партиями[1481].
Эта новая теология, которой суждено было стать теологией ислама, чрезвычайно медленно распространялась по халифату. На крайнем Востоке она тотчас же получила конкурента в лице схожих с ней устремлений ал-Матуриди и должна была вести бой не только с ханбалитами, предводитель которых, как передают, в 400/1010 г. торжественно предал проклятию ал-Аш‘ари[1482], но еще и с каррамитами, которые как раз в это время донесли правительству, что аш‘ариты, мол, утверждали, будто пророк мертв[1483]. На Западе это течение совершало свой путь только от одного культурного центра к другому и достигло Сицилии, Кайравана и Испании, где ко времени Ибн Хазма его позиции, «хвала господу миров», вновь стали неустойчивыми[1484]. В Северной Африке оно было совершенно неизвестно и введено было лишь Ибн Тумартом около 500/1107 г.[1485]
К началу V/XI в. идеологическая борьба в теологии получила в известном смысле официальное завершение. В 408/1017 г., халиф ал-Кадир издал рескрипт, направленный против му‘тазилитов. Он приказал им отказаться от их учения и прекратить споры обо всех учениях, отклоняющихся от ислама; в противном случае они будут наказаны. Из числа правителей областей особенно ревностно выполнил приказание халифа только что взошедшая на востоке звезда — султан Махмуд из Газны. Он преследовал еретиков, казнил и высылал их, приказывал предавать их проклятию с минбаров мечетей. «В тот год это стало обычаем в исламе»[1486].
В Багдаде же пришлось еще раз обнародовать буллу аналогичного содержания. В 433/1041 г. тот же халиф издал символ веры, который был торжественно обнародован в Багдаде и подписан богословами, «дабы ведать можно было, кто же неверующий». Это был первый документ такого рода, имевший официальное значение. Его издание обозначило завершение эпохи становления теологии. Человек сведущий видит за каждым словом этого документа рубцы от ран, полученных в ходе вековой борьбы.
«Человеку необходимо знать: Аллах един, нет у него товарищей, не породил он никого и никем не порожден, нет равного ему, он не брал себе ни товарища, ни дитяти и нет у него соправителей в царстве его. Он первый, который извечно был, и он последний, который никогда не избудет. Он властен над всем и ни в чем не нуждается. Пожелает он что-либо, он говорит: Будь! — и это станет. Нет божества кроме него, вечно живого; ни сон его не одолевает, ни дремота; он дарует пищу, но сам в ней не нуждается. Он один, но не чувствует себя одиноким и нет у него друзей. Годы и время не старят его. Да и как могут они его изменить, когда он сам сотворил и годы и время, и день и ночь, и свет и тьму, небо и землю, и всех родов тварей, что на ней; сушу и воды, и все, что в них, и всякую вещь — живую, мертвую и постоянную! Он единственный в своем роде и нет при нем ничего, он существует вне пространства, он создал все посредством своей силы. Он создал престол, хотя он ему и не нужен, и он восседает на нем, как пожелает, но не для того, чтобы предаться покою, как существа человеческие. Он правит небом и землею и правит тем, что на них есть, и тем, что живет на суше и в воде, и нет правителя кроме него, и нет иного защитника кроме него. Он содержит людей, делает их больными и исцеляет их, заставляет их умирать и дарует им жизнь. Но слабы его создания — ангелы, и посланники, и пророки, и все прочие твари. Он всемогущ своею силою и всеведущ знанием своим. Вечен он и непостижим. Он внимающий, который слушает, и он взирающий, который видит; из свойств его познаваемы лишь эти два, но ни одно из созданий его не может их достичь. Он говорит словами, но не при помощи сотворенного органа, подобного органу речи творений его. Ему приписываются лишь те свойства, которые он сам себе приписал, или те, что приписал ему пророк его, и всякое свойство, что он сам себе приписал,— есть свойство его существа, преступать которое нельзя.
Следует также знать: Слово Аллаха не сотворено. Он произнес его и открыл его посланнику своему через Гавриила, Гавриил, услышав его от него, повторил его Мухаммаду, Мухаммад — сподвижникам своим, а они — общине. И повторение слова существами человеческими не есть сотворенное, ибо это само слово, произнесенное Аллахом, а оно не было сотворено. И так остается во всех случаях: будет ли оно повторено или сохранено в памяти, будет ли написано или услышано. Тот же, кто утверждает, что оно было сотворено в каком бы то ни было состоянии, тот неверующий, кровь которого разрешается пролить, после того как он будет приведен к покаянию.
Следует также знать: вера — это слово, дело и разум. Слово — посредством языка, дело — посредством <опор> аркан и членов (джаварих). Вера может становиться и больше и меньше, больше — путем повиновения, а меньше — путем ослушания. Вера имеет различные ступени и отделы. Высшая ступень есть признание: Нет божества кроме Аллаха! Воздержание есть один из отделов веры, но терпение есть в вере то же, что голова на теле. Человек не ведает о том, что записано у Аллаха и что лежит ему у него под печатью, а посему говорим мы: Он верующий, если пожелает Аллах; или: Я надеюсь, что я верующий. Нет иного пути к спасению, кроме надежды: пусть не сомневается он в этом и не проявляет недоверия, ибо ею достигнет он того, что скрыто от него в будущем, в судьбе и во всем, что ведет к Аллаху. С чистым намерением должен он покорно исполнять законы и обязанности и в избытке совершать добрые дела, ибо все это принадлежит к вере. И нет конца вере, ибо никогда не имеют предела избыточные добрые деяния.
Следует любить всех сподвижников пророка, ибо они лучшие из созданий после посланника Аллаха. А самый лучший из всех и благороднейший после посланника Аллаха — Абу Бакр ас-Сиддик, за ним ‘Омар ибн ал-Хаттаб, затем ‘Осман ибн ‘Аффан, потом — ‘Али ибн Абу Талиб. Аллах да благословит их, да общается с ними в раю и да будет милостив к душам сподвижников посланника своего! Кто поносит ‘Айшу — нет тому доли и в исламе, а о Му‘авии следует говорить только хорошее и не пускаться в споры из-за них обоих, обо всех нужно молить милости у Аллаха. Аллах сказал: „Те, которые пришли после них, говорят: Господи наш! Прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере! Не утверждай в сердцах наших злобы к тем, которые уверовали. Господи наш! Ведь ты — кроткий, милостивый!“[1487]. И он сказал о них: „И изъяли Мы злобу, что в их груди; братьями они на седалищах обращены друг к другу“[1488].
Не следует обвинять в неверии кого-нибудь, если он упустил что-либо из законных установлений веры, исключая, конечно, предписанную молитву. Ибо тот, кто без причины не совершает молитвы, тот неверующий, даже если он не отрицает обязательность молитвы, согласно следующим словам пророка: К неверию относится неисполнение молитвы — кто в этом совершает упущение — тот неверующий и остается неверующим, пока не покается и не станет молиться. А если он умрет до того, как покается, и даже будет умолять Аллаха о помощи словами или молчанием, то не будет он принят, но восстанет в день Страшного Суда вместе с фараоном, Хаманом и Каруном. Упущение прочих дел не делает неверующим, если даже быть столь дерзким, что не признавать обязательности их совершения. Такова вера верующих по старине (ахл ас-сунна) и общины. Кто придерживается этой веры, тот стоит у истоков чистой истины, под правильным руководством и на правом пути. В отношении его можно питать надежду, что он будет спасен от адского пламени и войдет в рай — если Аллаху будет угодно.
Как-то спросили пророка: „По отношению к кому следует быть исполненным добрых намерений?“ Он ответил: „По отношению к Аллаху и слову его, к посланнику его и всем верующим“. И он сказал: „Если приходит к человеку предостережение Аллаха через религию его, то это благодеяние Аллаха. Внемлет он ему, значит, он благодарен, если же нет, то это свидетельство против него. Он умножает этим свои прегрешения и навлекает на себя гнев Аллаха“. Да сделает нас Аллах благодарными за доброту его и да даст нам помнить благодения его, да сделает он нас защитниками благочестивых обычаев и да простит он нас и всех верующих»[1489].
Неслыханная для средневековья веротерпимость в совместной жизни с христианами и иудеями принесла мусульманской теологии отнюдь не средневековый придаток — сравнительное богословие. Вышла эта наука не из среды богословов: ан-Наубахти, написавший на эту тему первую значительную книгу, принадлежал к тем ученым, которые переводили сочинения греческих авторов на арабский язык[1490]. Весьма далекий теологии ал-Мас‘уди написал две книги о разных религиях[1491]. Далее, правительственный чиновник ал-Мусаббихи (ум. 420/1029), написавший в присущей ему пространной манере на 3500 листах «Изложение религий и культов»[1492], также был литератором, причем с сугубо светскими интересами. Эта история религии — единственная его работа, касающаяся вопросов богословия, и происхождением своим она обязана безусловно сабейским интересам автора, род которого происходил из Харрана[1493]. Затем этими вопросами стали заниматься также и более любознательные богословские умы, как об этом свидетельствует книга Абу Мансура ал-Багдади (ум. 422/1031) — «Секты и чужие религии» (Китаб ал-милал ва-н-нихал — заглавие, которое отныне становится модным)[1494]. Испанец Ибн Хазм (ум. 456/1064) в своей книге под таким же заглавием как набожный мусульманин вступает в ожесточенную дискуссию со всевозможными вероучениями, в то время как в начале V/XI в. ал-Бируни (ум. 440/1048) с беспристрастностью ученого написал свою «Историю Индии» главным образом как описание религии индийцев, «не для опровержения, а лишь для изображения фактов»[1495]. «Достойно внимания, что историки религии чаще всего отнюдь не были стоявшими вне всякого сомнения правоверными; даже аш-Шахрастани неоднократно порицали за его склонность к еретическим сектам. Сообщается, что в своих проповедях он никогда не приводил текстов из Корана»[1496].
Мусульманская история права установила в IV/X в. свой важнейший пограничный столб. Считают, что в это время неограниченное самостоятельное правотворчество, т.е. предоставленное единоличному знанию толкование Корана и хадисов (иджтихад мутлак) прекратило свое существование[1497]. Закончилась эпоха творчества, и старые авторитеты были канонизированы как непогрешимые. Только в мелочах юрист еще имел право составлять свое личное суждение. Иными словами, раввины последовали за книжниками.
Однако это лишь точка зрения самих мусульманских ученых, на деле же обнаруживается то же, что и в других областях знания: главным событием эпохи явилось введение доисламских правовых понятий, возрождение античных греко-римских учений. Эти идеи были представлены юристами (фукаха), которым противостояли сторонники старого — «передатчики» (асхаб ал-хадис), для которых мерилом жизни было слово Аллаха и пророка. Старая школа отнюдь не собиралась добровольно сдать свои позиции. Она еще господствовала в двух таких важных провинциях, как Фарс и Сирия, да, кроме того, в Синде, а также и в Мидии у нее было много сторонников[1498]. Самыми значительными среди них были ханбалиты, ауза‘иты и сауриты[1499]. Ханбалиты в то время еще не были признаны как юристы, что и было основным различием с более поздней эпохой. В 306/918 г. в качестве правовых школ называют шафи‘итов, маликитов, школу Суфйана ас-Саури, ханифитов и да’удитов[1500], а к концу века — ханифитов, маликитов, шафи‘итов и да’удитов[1501]. В обоих случаях отсутствуют ханбалиты. Во время похорон ат-Табари (ум. 310/923) произошли осложнения только из-за того, что он в своей книге о разногласиях среди юристов совершенно не упомянул Ахмада ибн Ханбала, так как считал, что тот вовсе не юрист, а «передатчик»[1502]. Ханбалитам удалось добиться признания их юристами лишь много позже[1503]. Другие школы традиционалистов не смогли удержаться. Так, уже в III/IX в. маликиты вытеснили в Испании ауза‘итов[1504]. Ауза‘итом еще был умерший в 347/958 г. кади Дамаска[1505], и в большой мечети Дамаска ауза‘иты имели свою школу[1506]. Однако успехом они уже не пользовались, и ал-Мукаддаси полагает, что произошло это только потому, что область их влияния была в стороне; «если бы она лежала на пути паломников, то под их влияние подпали бы и Восток и Запад»[1507].
Толк Суфйана ас-Саури, господствовавший в свое время, например, в Исфагане, ал-Мукаддаси также причисляет к вымирающим[1508]. Последний юрист, который в мечети ал-Мансура в Багдаде выносил заключения в соответствии с положениями этого толка, умер в 405/1014 г.[1509]
Впрочем, все находилось еще в стадии брожения, хотя, если верить легенде, уже в начале III/IX в. исчезло 500 правовых школ[1510]. Да’уд из Исфагана (ум. 270/883) основал важное захиритское направление, которое в IV/X в. получило на Востоке крайне широкое распространение. В Иране, например, в его рядах числились весьма знатные фамилии[1511], а в Фарсе к нему примкнули даже кади и другие чиновники-юристы, так как сам правитель ‘Адуд ад-Даула был сторонником этой школы[1512]. Непримиримее всего это направление выступало против найденного шафи‘итами компромисса между старой, традиционной казуистикой и новой[1513]. Как и всякая другая крайность, это направление сыграло очистительную роль. Однако принцип захиритов — точно придерживаться предания — был строго научным, и они очень скоро поняли, что юриспруденция не является наукой. Их строгая методика оказала куда большее влияние в области историко-филологической. Согласно ал-Мукаддаси, основными качествами захиритов были гордость, резкость, находчивость и зажиточность[1514].
Историк ат-Табари (ум. 310/923) также основал свою собственную школу права[1515], почему много месяцев после его смерти благочестивые люди посещали его дом, чтобы помолиться на его могиле[1516]. Друг ат-Табари — Ибн Шаджара (ум. 350/961 в возрасте 90 лет) также стремился найти свой путь и поэтому не признавал никакого авторитета. И, несмотря на это, он смог стать кади, что является характерным для отношений на Востоке, еще не закрепившихся окончательно[1517]. Выносил решения по собственному правосознанию также и причисляемый к шафи‘итам кади Старого Каира Ибн Харбавайхи (ум. 319/931 в возрасте за 100 лет) — «если бы так поступал кто иной, то никто бы об этом не молчал, на него же никто не был за это в обиде»[1518].
В основном уже в то время четыре главные школы определили те сферы своего влияния, которыми, за исключением стран, ставших шиитскими, они владеют и по сей день. Только теперь, т.е. в IV/X в., влияние ханбалитов перешагнуло границы Вавилонии[1519]. Прежде всего, однако, ставшая отныне наиболее значительной школа шафи‘итов завоевала свою область. Штаб-квартирой этой школы считалась область Мекки и Медины[1520]. «Со времени возникновения школы шафи‘итов и до сих пор должности судьи, проповедника и имама в священной области находятся в руках шафи‘итов. Вот уже 563 года произносят они проповеди в мечети посланника Аллаха согласно тому, как это делал его двоюродный брат Мухаммад ибн Идрис (аш-Шафи‘и), и он — пророк — присутствует при этом, видит и слышит это, и в этом — самое ясное доказательство того, что направление это является правым у Аллаха»[1521]. В Вавилонии у них было мало сторонников — там юристы и кади были чаще всего ханифитами[1522], хотя уже в 338/949 г. один шафи‘ит был назначен верховным кади Вавилонии[1523]. С большим успехом притесняли они ханифитов на Востоке[1524]. В Сирии и Египте они добились исключительно прочного положения. Абу Зур‘а (ум. 302/914) был первым шафи‘итским кади как в Дамаске, так и в египетской столице, и его преемники в Сирии оставались верными его школе[1525]. Их противниками в Египте были маликиты, которые с середины II/VIII в. взяли там верх. В 326/938 г. шафи‘иты и маликиты имели в главной мечети Фустата по пятнадцать «кружков» (слушателей), а ханифиты — лишь три[1526]. Во времена ал-Мукаддаси в мечети Ибн Тулуна в первый раз исполнял должность имама один шафи‘ит, до него имамами были исключительно маликиты. Однако большая часть юристов еще принадлежала к течению маликитов[1527]. Круг слушателей, собиравшихся вокруг маликитского имама ан-На‘‘али (ум. 380/990), охватывал семнадцать колонн мечети[1528]. Вот поэтому-то фатимидское правительство и принимало такие крутые меры против маликитов. Так, например, в 381/989 г. в Каире один человек был бит плетьми, а затем его на позор водили по улицам города только за то, что у него была обнаружена ал-Муватта Малика[1529]. После падения Фатимидов Айюбиды — сами курды-шафи‘иты — завершили победу этой школы тем, что оказывали предпочтение юристам из шафи‘итов, в то время как и в наши дни весь Нижний Египет в основном остался маликитским. Дальше на запад пропаганда шафи‘итов не проникла. Магриб делили между собой маликиты и ханифиты, причем последние были более любезны фатимидскому правительству, чем первые, так как отличались меньшей строгостью. Когда же в 440/1048 г. от Фатимидов отпала Северная Африка, то от этого пострадало не только их собственное шиитское направление, но также и находившийся под их покровительством суннитский толк ханифитов: вся провинция перешла в маликитский толк, к которому она принадлежит и сегодня[1530]. В Испании маликиты господствовали неограниченно[1531].
В самом Багдаде среди ортодоксальных течений больше всего доставляли хлопот правительству ханбалиты, так как они со всей страстностью вели борьбу с шиитами. Когда они строили мечеть, то она становилась «источником шума и смут»[1532]. Ютившиеся в мечетях слепые обычно держались их: так, например, в 323/935 г. они избивали проходивших мимо шафи‘итов[1533]. В общем же они приберегали весь яд своего бешенства для шиитов и своих теологических противников. В среде юристов шафи‘иты решительно — также и согласно характеристике ал-Мукаддаси[1534] — были склочниками. В этом отношении многие были введены в заблуждение, так как значительную часть сведений об этих движениях мы черпаем из шафи‘итских источников. Однако там, где возникали юридические распри, шафи‘иты были всегда тут как тут, противники же менялись и более или менее договаривались друг с другом. В целом в IV/X столетии различные школы еще хорошо ладили между собой. Образованные люди, как, например, ал-Мукаддаси[1535], постоянно призывали к единодушию.
В это время переход из одного направления в другое осуществлялся еще легко; Ахмад ибн Фарис (ум. 369/980), крупнейший филолог, перешел от шафи‘итов к маликитам исключительно из негодования, вызванного тем, что в Рее, где он поселился, не было ни одного сторонника этого глубоко почитаемого направления[1536]. В Каире имамом мечети Тулунидов на должность, постоянно занимаемую до того времени маликитами, без определенных оснований избирается шафи‘ит: не было никого лучше[1537]. Даже ал-Мукаддаси в ответ на недоуменный вопрос, почему он — сириец — придерживается учения ханифитов, в то время как жители его страны — ханбалиты, а юристы — шафи‘иты, перечисляет просто-напросто чисто личные основания, по которым он считает это учение более хорошим[1538]. И лишь в следующем веке, когда были искоренены мелкие школы и крупные оказались наедине друг против друга, их соперничество приобретает более энергичные формы и они призывают себе на помощь в этой борьбе, особенно на Востоке, и сторонние силы[1539].
Ислам так же мало задумывался над вопросом принципиального отделения судебной власти от власти исполнительной, как и христианская эпоха до новейшего времени. Как пророк, так и халифы считались верховными судьями над верующими, а в провинции это право осуществляли их наместники. Однако их разносторонние обязанности вызывали потребность в судьях-помощниках, как рассказывают, например, об ал-Мухтаре: «Вначале судил он сам, с великим рвением и искусством, когда же ему стало не под силу, он вынужден был назначить судей (кади)»[1540]. Вот поэтому-то никогда четко не разграничивались компетенции кади от компетенций правительственной власти и представители последней с самого начала оставляли за собой «то, для чего кади был слишком слаб» (ал-Маварди). Если же правители не признавали решений кади, то ему не оставалось ничего другого, как уйти в отставку или по меньшей мере прекратить отправление своих функций[1541]. Однако проявление столь глубокого неуважения встречалось не часто. Ал-Кинди в своей истории египетских кади записал только два случая за первые два столетия, когда правитель кассировал решение кади в гражданском деле, причем один из этих случаев касался дела, исключительно важного принципиально: одна женщина вышла замуж за неравного ей по происхождению, ее родичи потребовали от кади расторжения этого брака, на что тот, однако, не пошел, не подчинившись даже и прямому приказу правителя. Тогда правитель сам развел их[1542]. В данном случае столкнулись два мировоззрения: рыцарское мировоззрение старого арабского мира и демократическое — ислама, судившее не по крови, а по благочестию.
К дефеодализации, проводимой Аббасидами, относился и тот факт, что кади был выведен из-под власти наместника и непосредственно назначался халифом или, по меньшей мере, халиф утверждал его в этой должности[1543]. Первым халифом, назначавшим судей так же и в главные города провинций, был ал-Мансур[1544]. В годы правления ал-Ма’муна (198—218/813—833) кади Фустата, столицы Египта, смог удалить из суда чиновника официальной службы шпионажа, ибо это, мол, присутствие повелителя правоверных[1545]. Право назначать судей оставалось за халифом даже и в трудные времена, как последняя важная его обязанность. Когда избранный в 383/994 г. халиф при вступлении в должность стал проверять и сменять судей столицы, то народ с насмешкой выражал свое мнение: «С тем и конец его правлению»[1546]. Назначенный Ихшидом в 324/935 г. кади Египта подвергся издевательствам в стихах как противозаконный кади из-за того, что он был определен на эту должность не халифом[1547]. В 394/1004 г. всемогущий правитель Баха ад-Даула хотел сделать накиба Алидов также и верховным кади, однако когда халиф не утвердил его в этой должности, кандидат вынужден был отказаться от этого поста[1548]. Еще и в наши дни в Египте назначение верховного кади относится к немногим прерогативам верховной власти халифа[1549].
Именно с этого времени — эпохи первых Аббасидов — пост верховного кади приобрел необычайно большой вес. Если до сих пор существовал обычай, что кади являлся на аудиенции правителя, то теперь, назначенный в 177/793 г. Харуном кади так грубо и оскорбительно ответил на приглашение эмира, «что с той поры обычай этот был отменен»[1550]. Сообщается, что в III/IX в., наоборот, эмиры каждое утро своим посещением свидетельствовали кади свое почтение[1551] и так продолжалось до тех пор, пока умерший в 329/941 г. кади ал-Харбавайхи не оказался слишком гордым, чтобы подняться перед эмиром, после чего эмиры прекратили свои визиты[1552]. Этот кади был аристократом от правосудия. Он никогда не удостаивал правителя звания «эмир», а всегда называл его запросто по имени. Он же позволил себе в ходе слушания, одного дела потребовать от всемогущего военачальника Муниса свидетельство халифа, что он действительно отпущен им на свободу и больше не является рабом. Этот кади столь высоко чтил свой высокий сан, что никто и никогда не видел, чтобы он ел, пил, одевался, мыл руки, сморкался, плевал или хотя бы провел рукой по лицу,— он все делал скрытно. Судил он по собственному толкованию права и по собственному усмотрению, не примыкая ни к одной юридической школе, за что, разумеется, кого-нибудь другого осуждали бы. Однако его познания были неоспоримы, его имя было чисто от подозрения во взяточничестве[1553]. Однажды, когда во время судебного разбирательства один человек рассмеялся, кади закричал на него таким голосом, что заполнил им весь дом: «Над чем смеешься ты на заседании суда Аллаха, где разбирается твое дело! Ты смеешься, в то время как твой кади стоит между раем и адом!» Человек этот после этого три месяца пролежал в постели — так напугал его голос кади[1554].
Кади Багдада ал-Исфара’ини (ум. 406/1015) мог сказать халифу ал-Кадиру, чтобы тот не осмелился сместить его, ибо в противном случае ему самому, т.е. кади, достаточно только написать в Хорасан, чтобы потрясти устои халифского престола[1555]. И действительно, свидетельством глубокого почтения перед должностью кади служит также и тот факт, что в то время, когда часто можно было видеть, как эмиры и везиры отправлялись в тюрьму, лишь о немногих судьях рассказывается нечто подобное. Говорят, что только один-единственный кади умер в тюрьме. Этот единственный, Абу Умаййа, вообще был исключением. Он нигде не учился, а торговал батистом. В период немилости у него скрывался Ибн ал-Фурат и пообещал ему правительственный пост в случае, если он станет везиром. Когда это произошло, Абу Умаййа сам должен был выбрать себе доходное место. Но так как у него не было необходимых знаний для сборщика податей, наместника, военачальника, секретаря или начальника полиции, то веселый везир сделал его кади больших городов — Басры, Васита и Ахваза; сделал он это, пожалуй, еще и для того, чтобы позлить юристов. Новый кади был прост, но честен, и эти качества искупали его невежество. К правителю он относился прохладно, никогда не свидетельствовал ему своего почтения, так что тот тотчас же посадил его под замок, как только в Басру пришла голубиная почта с известием о падении везира[1556].
В теории мир юристов весьма отрицательно относился к судейской должности. Еще в IV/X в. ас-Самарканди (ум. 375/985) учил: «В вопросе о принятии судейской должности нет единого мнения; одни утверждают, что эту должность принимать не следует, другие же говорят, что она не вредит, при условии, однако, чтобы не добиваться этой должности»[1557]. Рассказывали о страшных угрозах пророка даже по отношению к праведным судьям. Некий человек, которого ‘Омар I хотел назначить кади Египта, отказался от этого, сказав: «Не для того спасает Аллах кого-нибудь от язычества и погибели, чтобы тот когда-либо вновь туда вернулся»[1558]. Когда в 70/689 г. один человек был назначен кади Египта, то отец его, услыхав об этом, сказал: «Да поможет нам Аллах! Пропал человек!»[1559]. Мне неизвестно, как относилось к этому вопросу древнее христианство, но ислам твердо придерживался наставления из нагорной проповеди «Не судите!». Рассказывают о том, как набожные мусульманские староверы бежали из Вавилонии через Сирию в Аравию, чтобы уклониться от грозящего им назначения на должность кади; о том, что Суфйан ас-Саури из-за этого умер, скрываясь в убежище, а Абу Ханифа, несмотря на побои, не пожелал стать кади[1560]. Согласно свидетельству ат-Табари, хадисы, которые преподавал Абу Йусуф, считались подозрительными лишь потому, что он был другом кади[1561]. Во времена ал-Махди кади Медины принудили принять эту должность только после того, как публично выпороли его[1562]. Когда в то же самое время кади аш-Шурайк возбудил преследование против банкира, у которого он получал свое жалованье, из-за того что монеты были неполновесными, тот сказал ему: «Ты ведь не батист продал за эти деньги!», на что кади отвечал: «Я продал за них нечто большее, чем батист,— я продал за них мою веру!»[1563]. Говорят, что один ученый даже прикинулся сумасшедшим, только чтобы избежать этого сана[1564]. Особенно энергично выступали против кади как «представителей мирских знаний» (‘илм ад-дунйа) суфии: «истинные ученые будут воскрешены вместе с пророками, а кади — с земными властителями». Исма‘ил ибн Исхак был дружен с суфием Абу-л-Хасаном ибн Абу-л-Вардом, но когда Исма‘ил стал кади, Абу-л-Хасан отрекся от него. Будучи однажды вызванным к нему в качестве свидетеля, он положил ему руку на плечо и воскликнул: «О Исма‘ил! Знания, что привели тебя на эту должность, хуже невежества». Тогда Исма‘ил прикрыл лицо плащом и так плакал, что плащ его промок насквозь[1565].
Первыми, кто вообще, а также и в данном случае подчинились требованиям жизни, были ханифиты. Во всяком случае, шафи‘ит Ибн ал-Хайран (ум. 310/922) бросает упрек одному коллеге, назначенному на должность кади: «Так поступают только ханифиты!» Сам упрекавший Ибн ал-Хайран наотрез отказался от предложенной ему должности кади Багдада, за что везир выставил перед его домом стражу, которая держала его под арестом[1566].
Надо, однако, сказать, что даже глава школы ханифитов ар-Рази (ум. 370/980) также дважды отказывался от должности верховного кади[1567]. Еще в конце IV/X в. обычай требовал соглашаться на должность кади, только немного помедлив. Во время смены судей в 399/1009 г. поэт сказал:
Один говорит: заставили нас, другой же: теперь мы свободно вздохнем,
Но оба лгут, кто из нас поверит этому?[1568]
Очень серьезно обсуждался вопрос, имеет ли право кади получать жалованье. Передают, что ‘Омар I запретил это[1569], а юрист ханифитского толка ал-Хассаф (ум. 261/874) пытался доказать обратное, цитируя изречения пророка и примеры из старых времен[1570]. Ибн Худжайра, назначенный в 70/689 г. кади Египта, получал жалованье 200 динаров в год как судья, но притом он был также еще и утвержденным правительством проповедником и казначеем. Эти должности также давали ему по 200 динаров. К тому же он получал еще 200 динаров жалованья и 200 динаров почетного содержания, так что его доход составлял в год 1000 динаров[1571]. В 131/748 г. судья столицы Египта также получал 20 динаров в месяц[1572]. Однако для содержания своих служащих и на прочие обязанности по должности этих денег, очевидно, едва хватало. У упомянутого выше Ибн Худжайры еще до конца года уже ничего не оставалось из его 1000 динаров[1573]. Некий человек, случайно зайдя во время обеда к кади Фустата, назначенного в 90/709 г., увидал, что обед его состоит из старой чечевицы на камышовом блюде, сухарей и воды; «хлеба он не может себе позволить на этой службе»,— объяснил ему кади[1574]. Кади Фустата, назначенный в 120/738 г., наряду со своей должностью еще торговал растительным маслом. Когда его юный друг с удивлением спросил его об этом, кади, хлопнув его рукой по плечу, сказал: «Погоди, придет время, и тебе придется голодать из-за чужих желудков!» Молодой человек понял эти слова только тогда, когда ему тоже пришлось «испытать, что такое дети»[1575]. Назначенный в 144/761 г. кади Египта крайне бережливо тратил свое жалованье. «Когда он стирал свою одежду, отправлялся на похороны или вообще занимался личными делами, он высчитывал это время из своего жалованья. Вместе с тем он был еще мастером по изготовлению уздечек и ежедневно делал по две уздечки. Деньги, вырученные от продажи одной из них, он расходовал на себя, а выручку от второй он посылал своим друзьям в Александрию, которые сражались там с неверными»[1576].
Аббасиды, обеспечившие кади более высокое и более независимое положение, улучшили также и их материальное положение; так, кади Египта получал теперь 30 динаров в месяц[1577]. Третью часть этой суммы, по крайней мере при ал-Махди, выдавали медом[1578]. В щедрые времена ал-Ма’муна кади Египта получал от наместника высокое жалованье в 168 динаров в месяц: это был первый кади, получавший так много[1579]. Когда же в Египет пришел знаменитый своей щедростью Тахирид и назначил там кади, то он определил ему жалованье 7 динаров в день, «что и до сегодняшнего дня является жалованьем судьи»[1580]. Кади г. Алеппо был до назначения на эту должность бедным человеком, «которого одолевала нищета, но он принимал ее как исходящую от Аллаха и ставил выше богатства. Когда же я встретил его в 309/921 г., уже как кади Алеппо, он превратился в свою противоположность и ставил богатство выше нищеты. Я узнал также, что он одним взмахом ножниц отхватил своей жене 40 отрезов сукна из Тустара (Персия) и других тканей»[1581]. Чтобы воспрепятствовать незаконному обогащению судей, халиф ал-Хаким вдвое увеличил им жалованье при условии, однако, не брать ни дирхема с людей[1582]. В V/XI в. персидский путешественник Насир-и Хусрау рассказывает, что верховный кади Египта получал 2000 динаров в месяц[1583]; свыше 20 тыс. динаров в год называет также и «Приложение к ал-Кинди»[1584]. На Востоке жалованье кади выплачивали тоже из казны[1585]. Однако мы располагаем также сведениями, утверждающими, что кади или не мог существовать на эти деньги, или отказывался от них из побуждений совести. Последнее правдоподобно, ибо Хасан ибн ‘Абдаллах, который 50 лет подряд был кади крупного торгового города Сираф (ум. 369/978), жил на средства, вырученные от продажи своих знаменитых каллиграфических трудов и копий[1586]. При ал-Махди кади Медины отказывался принимать какое бы то ни было жалованье: он не желал обогащаться на этом ненавистном поприще[1587]. Назначенный в 303/915 г. верховный кади Багдада, принадлежавший к маликитскому толку, выговорил себе при вступлении в должность следующее: 1) чтобы он не получал никакого жалованья, 2) чтобы его не принуждали давать противозаконные решения, 3) чтобы ни о ком не ходатайствовали[1588]. ‘Али ибн ал-Мухассин ат-Танухи (ум. 447/1055) кади нескольких округов Вавилонии и надзиратель монетного двора в Багдаде, получал за это сбор в 60 динаров в месяц[1589]. В 334/945 г. в дом бывшего кади Багдада вломились разбойники, но так как он был беден, они почти ничего не нашли и собирались выжать из него деньги побоями. Бедняк бежал от них на крышу, свалился с нее и разбился насмерть[1590]. Назначенный в 352/963 г. верховный судья Багдада вообще не получал жалованья[1591]. Кади Багдада Абу Таййиб (ум. 450/1058) имел вместе со своим братом всего-навсего один тюрбан и одно верхнее платье, и когда один из них выходил, другой вынужден был сидеть дома[1592]. Также и умерший в 488/1095 г. верховный судья жил на то, что сдавал внаем дом; это давало ему полтора динара в месяц. Носил он льняную чалму, халат из грубой шерсти и питался размоченными в воде хлебными крошками[1593]. Один испанский кади также жил только на доходы со своего земельного участка, который он сам возделывал[1594].
В 1852 г. Петерманн сообщает из Дамаска: «Ежегодно из Константинополя присылают нового кади, которого выбирает и отправляет шейх ал-ислам. В случае чьей-либо смерти кади получает определенную сумму с наследства (меня уверяли, что 1/4, но это, пожалуй, слишком много) и 5% с каждого процесса, который он разбирает. Эту сумму должен уплачивать каждый подданный Порты за ведение дела, а европейские подданные уплачивают лишь 2%»[1595].
Говорят, что в нынешнем Марокко кади, считающиеся религиозными чинами, оплачиваются из благочестивых пожертвований, но так как последние бывают крайне редко, они вынуждены пользоваться приношениями тяжущихся сторон[1596].
В 350/961 г. должность верховного судьи в Багдаде продавалась, притом за 200 тыс. дирхемов в год, которые поступали в казну правителя. Первый покупатель «сочетал со своими отвратительными поступками отвратительный облик»[1597], «страсть к мальчикам, похотливость и любовь к вину»,— вот что говорили о нем[1598]. Но дело это, между прочим, протекало негладко: халиф никогда не разрешал этому кади предстать перед ним и добился того, что два года спустя он был смещен, после чего его преемник отменил все его приговоры, ибо тот купил себе судейскую должность[1599].
Уже кади ас-Сауба (ум. 120/738) приложил руку к благочестивым пожертвованиям, которыми ранее управляли сами жертвователи и их наследники; «ко времени его смерти пожертвования стали важной отраслью административного управления»[1600]. К тому же кади был поручен надзор за сиротскими имуществами, которые он начиная с 133/751 г. сдавал под расписку в казначейство[1601]. В 389/999 г. после смерти кади Каира была обнаружена недостача сиротских денег в сумме 36 тыс. динаров; разразился огромный скандал, и один чиновник-христианин по поручению халифа проверил имущество, оставшееся после кади, а также и имущество его заседателей, иными словами, имущества наиболее видных мусульман города. Вернуть, однако, удалось лишь половину этой суммы. С того времени все сиротские деньги поступали в кассу, которая опечатывалась четырьмя заседателями и вскрывалась лишь в присутствии всех четырех[1602].
Только в IV/X в. было окончательно определено право кади решать дела о наследовании[1603]. В конце концов он также осуществлял надзор за тюрьмами своего округа, которые в противоположность полицейской тюрьме (хабс ал-ма‘уна) чаще всего служили для заключения должников. В 402/1011 г. в первую ночь праздника разговения (‘ид ал-фитр) везир произвел инспекцию тюрем кади Багдада; тех, кто был помещен в тюрьму за долг в размере от одного до десяти динаров, выпустили на свободу, тех, кто был должен больше, взял на поруки везир и их выпустили на время праздника, но после праздника они должны были вернуться обратно[1604].
Обычно тяжущиеся стороны обращались в суд при помощи записок (рика‘), на которых стояли имена жалобщика и ответчика, а также соответственно имена их отцов. Судебный писарь собирал эти записки до начала разбора дел; судья должен был, в зависимости от своих сил, разобрать около пятидесяти записок в день[1605]. Судебное разбирательство обязательно должно было происходить в условиях широкой гласности. Когда халиф изъявлял желание назначить слушание дела в его дворце, то кади приказывал открыть настежь ворота, созвать публику и глашатай должен был по запискам оглашать перед всеми присутствующими тяжущиеся стороны[1606]. Вот потому-то первоначально кади заседал в общественном здании мусульманства — в главной мечети, прислонившись к колонне[1607]. Однако споры тяжущихся сторон он мог выслушивать и дома; так, например, назначенный в 120/738 г. кади Египта выслушивал дела в комнате с окнами на улицу, расположенной над входом в его дом, в то время как внизу тяжущиеся стороны вели переговоры[1608].
Возмущенные несправедливостью назначенного в 204/819 г. кади жители Египта выбросили его ковер из мечети на улицу, и с того времени этот кади решал дела дома и никогда более не появлялся в мечети[1609]. А назначенный в 219/834 г. египетский кади сидел зимой в притворе главной мечети, прислонившись к стене, спиной к Мекке. «Он не разрешал чиновникам приближаться к себе, также его писарям и тяжущимся разрешалось занимать места лишь на известном расстоянии. Это был первый кади, установивший такой порядок. Летом же он сидел, во дворе мечети у западной стены[1610].
Около середины III/IX в. ортодоксальная реакция усмотрела в деятельности кади в мечети осквернение дома божьего и запретила ему разбирать там дела[1611]. Запрет этот оказался, однако, бесплодным. В Багдаде, правда, верховный кади судил около 320/932 г. в своем доме[1612], но вот в Египте — то в мечети, то дома[1613]. А в Нишапуре одного кади (ум. 407/1016) тотчас же по зачтении приказа о его назначении: отвели в мечеть на место, отведенное для суда[1614].
Ал-Ма‘арри жалуется: разбойники есть не только в пустыне, но и в мечетях и на базарах; только этих называют судебными заседателями или купцами[1615]. «Бедуинами городов и мечетей» назвал он заседателей в другой раз[1616].
Во времена Фатимидов верховный кади Каира восседал по вторникам и субботам на возвышении, на шелковой подушке, в пристройке к мечети ‘Амра ибн ал-‘Аса: справа, и слева от него — заседатели, соответственно дню их назначения, пять судебных служителей и четыре судебных писаря, которые сидели по два друг против друга. Из дворцовой сокровищницы выставлялась отделанная серебром чернильница[1617].
В старые времена тяжущиеся стороны должны были принимать участие в разборе дела, стоя перед кади. Когда же при Омейядах один принц отказался стоя вести дело, он вынужден был взять свою жалобу обратно[1618]. Позднее установился обычай, что все занимали места перед судьей в один ряд и в одинаковой позе. Когда халиф ал-Махди завел тяжбу со своей матерью, из Египта был доставлен в Багдад кади, который должен был рассудить их. Мать халифа назначила вместо себя доверенного; во время разбора дела кади пригласил халифа занять свое место среди тяжущихся, на это приглашение халиф сошел со своего ковра и уселся перед судьей[1619]. Когда халиф ал-Ма’мун — так по крайней мере повествует один старый источник — явился к кади как истец и уселся на ковер, судья потребовал, чтобы и его противнику дали ковер[1620]. А когда доверенный весьма могущественной Зубайды — жены Харуна ар-Рашида — неуклюже расселся перед египетским кади для разбора дела, судья просто приказал отсчитать ему десять палок[1621].
Теоретики придирались ко всяким мелочам, которые, по их мнению, могут повредить беспристрастности судей. «Должны ли тяжущиеся стороны приветствовать судью?» Если они это делают, то кади не должен, как обычно, в ответ на «Мир тебе!» говорить «И тебе мир!», а только «И тебе!». Произносить слово «Мир!» было бы неуместным предвосхищением[1622]. Столь же ревностно, однако, выступают благочестивые теоретики против какого бы то ни было давления со стороны судьи на тяжущиеся стороны. Он не имеет права на них кричать, также, как и принуждать их к даче определенного ответа.
Все эти теории, а также и трудности, с которыми удается выудить у египтянина деньги, дали пищу народному остроумию, создавшему историю об одном кади, который привязывал к своей шапке два бычьих, рога и бодал ими упрямцев (ан-наттах). Узнав об этом, халиф ал-Хаким стал было упрекать его за это, однако кади предложил халифу присутствовать на судебном заседании, скрывшись за занавесом, и тогда он сам убедится в толстокожести людей. Халиф пришел, пришли и обе тяжущиеся стороны, из которых одна требовала у другой 100 динаров. Обвиняемый признавал долг, но просил уплаты в рассрочку. Сначала кади предложил выплачивать по 10 динаров в месяц; когда же ответчик отказался, он предложил выплачивать по 5 динаров, затем по 2, по 1, по полдинара. В конце концов кади потребовал, чтобы должник сам определил размер взноса. «Я хочу,— сказал тот,— ежегодно выплачивать по четверть динара, однако требую, чтобы истец был заключен в тюрьму, ибо если он будет на свободе, а я не поспею выполнить свои обязательства, то он меня убьет». Тогда ал-Хаким спросил кади, сколько раз он боднул его. Тот ответил: «Один раз».— «Дай-ка ему два раза,— приказал халиф,— или лучше бодни-ка его еще разик, а раз я бодну его сам»[1623].
Кади носил одежды черного цвета, как и все аббасидские чиновники; назначенный в 168/784 г. египетский кади носил только узкую черную повязку вокруг высокой шапки[1624], а кади, исправлявший свою должность с 237/851 г.,— только черный плащ (киса), да и то лишь после того, как ему дали понять, что в противном случае его будут принимать за сторонника Омейядов[1625]. В течение III/IX в. высокая шапка (калансува),— в просторечии называвшаяся «шапка-горшок» (данниййа), точно так же, как англичане называют цилиндр,— стала непременной принадлежностью судейского звания. Ее носили вместе с повязкой, ниспадавшей на затылок (тайласан)[1626]. Когда 85-летний кади Ахмад ат-Танухи уходил в отставку, он сказал, что хочет еще побыть в отпуске между службой и могилой, а не прямо из-под калансувы катить в могилу[1627]. Одного прославленного писца сравнивали с «кади без шапки-горшка»[1628]. В 368/978 г. одна обвиняемая женщина перепугалась судьи, «борода которого была длиной в локоть, лицо длиной в локоть и шапка-горшок тоже длиной в локоть». Чтобы ее успокоить, кади снял шапку, прикрыл бороду рукавом и сказал: «Я снял тебе два локтя, а теперь отвечай на поданную на тебя жалобу»[1629]. Кади Фатимидов носили меч[1630].
Около 300/912 г. персонал одного багдадского кади состоял из:
1) судебного писца (катиб), оклад 300 дирхемов в месяц;
2) судебного служителя (хаджиб), 130 дирхемов в месяц;
3) судьи, разбиравшего мелкие тяжбы (мунсиф) у дверей суда, 100 дирхемов в месяц;
4) управляющего здания суда и полицейских (а‘ван), ежемесячно 600 дирхемов[1631].
К этому следует еще добавить, что начиная с халифа ал-Мансура возник один из самых удивительных институтов этого судопроизводства — постоянные «свидетели». Хороший источник ал-Кинди рассказывает об этом следующее: «До этого принимались во внимание свидетельские показания лиц, которые пользовались хорошей репутацией, показания же других или открыто отклонялись, или, если свидетели были совершенно неизвестны, о них справлялись у соседей. Теперь же, когда столь часто давались ложные показания, справки о свидетелях наводят тайно (т.е. заводят список надежных свидетелей), так что отныне не требуется производить проверку надежности показаний всех свидетелей, так как слово свидетель (шахид) означает одного определенного человека»[1632].
Кади назначал специального чиновника (сахиб ал-маса’ил), который должен был возглавлять собирание этих сведений, о котором люди вполне естественно злословили, что он разрешает себе платить за полномочие на дачу свидетельских показаний[1633]. Официальный список таких свидетелей впервые был заведен со времени назначенного в 185/801 г. кади, «и это так и осталось до настоящего времени»[1634]. Над этим судьей издевались, за то что он числит среди «свидетелей» около 100 египтян неарабов[1635]; за то что он вычеркнул 30 старых свидетелей и заменил их таким же количеством персов[1636]. Таким образом, свидетели превратились в своего рода доверенных лиц судьи (битана), причем каждые шесть месяцев — так определил кади около 200/815 г.— производился сбор новых сведений о них и при случае вычеркивались недостойные[1637]. Сообщают, что один из его преемников настолько серьезно относился к этой стороне своей должности, что, закутав лицо, ночами сновал по улицам, разузнавая о репутации «свидетелей»[1638]. В патенте, выданном кади и приведенном у Кудамы (писан немного позже 316/928 г.), в качестве главной обязанности судье вменялся тщательный отбор «свидетелей»[1639]. Когда у ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982) его главнокомандующий попросил, чтобы он приказал кади принять одного человека в число «свидетелей», то получил такой ответ: «Тебе надлежит говорить о продвижении в чинах солдат, а прием людей в свидетели — дело кади, и здесь ни я, ни ты не можем замолвить слово!»[1640].
Характерным для ал-Хакима является то, что он вмешивался и в это дело и намеревался восстановить старые порядки. В 405/1014 г. он сделал «свидетелями» по их просьбе более 1200 человек. Когда же верховный кади упрекнул его за то, что многие среди них не заслуживают этой чести и являются свидетелями ненадежными, он со свойственным ему непостоянством разрешил ему вычеркнуть их из списка и оставить в нем, кого он хочет[1641]. Эти «свидетели», являясь личными ставленниками кади, должны были все уходить при отстранении его от должности[1642]. Один египетский кади в 321/933 г. требовал, чтобы его «свидетели» сопровождали его во время выездов[1643].
В то время при разборе любого дела вместе с кади обычно заседали четыре «свидетеля»: два по правую руку и два — по левую[1644]. Превращение «свидетелей» — первоначально всех порядочных, способных давать надежные показания мужей судебного округа — в непременных судейских чиновников завершилось в IV/X в.; значит, и в данном случае этот действующий и поныне институт был порожден веком взамен старых исламских порядков. Еще в III/IX в. некий кади в Басре назначил не менее 36 тыс. «свидетелей», однако лишь 16 тысячам удалось воспользоваться этим почетным званием[1645]. Приблизительно в 300/912 г. в Багдаде насчитывалось 1800 таких «свидетелей». В 322/934 г. египетский кади вынужден был дать понять своим «свидетелям», чтобы они являлись лишь в том случае, когда они ему нужны, и что жалованья он им платить не будет[1646]; иными словами, «свидетели» хотели стать чиновниками, а кади еще придерживался старых воззрений. В 383/993 г. число «свидетелей» в Багдаде сократилось до 303, и все же эта цифра воспринималась как непомерно большая[1647]. В конце IV/X в. верховный кади Каира также имел очень мало «свидетелей»[1648].
Эти «свидетели», очевидно, были возрожденными нотариусами доисламской империи. Смышленому деловому человеку предлагалось осмотреться среди этих «свидетелей» и выискать из их среды пользующегося самой лучшей репутацией, чтобы он нотариально заверил его документы. Ведь между ними всегда может пробраться одна паршивая овца, которая впоследствии станет невозможной, и тогда все произведенные им нотариальные операции окажутся недействительными[1649].
Однако в каждом из пяти судов низшей инстанции Каира также и самостоятельно председательствовал такой «свидетель», который занимался разбором мелких дел и действовал от имени кади[1650]. В Каире Лейна (Lane) «свидетели» (шахид) сидят в вестибюле верховного суда. Истец излагает одному из них, которого он находит незанятым, свое дело, шахид записывает его и получает за это один пиастр или больше. Если дело не важное и ответчик признает эту инстанцию, шахид выносит приговор, в противном случае он препровождает стороны к кади.
В грамоте, определяющей на должности верховного кади[1651], которую в 366/976 г. изготовил Ибрахим ас-Саби от имени халифа, халиф советует судье чаще читать Коран, точно отправлять предусмотренные ритуалом молитвы, справедливо обходиться с тяжущимися сторонами. Между прочим, там указывается, что он не должен оказывать мусульманину предпочтение перед христианами и иудеями. А также должен он ходить с достоинством, говорить немного и тихо, поменьше смотреть по сторонам, и жесты его должны быть сдержанны. Он должен взять себе опытного и юридически образованного писца (катиб), неподкупного судебного служителя (хаджиб) и достойного доверия заместителя для разбора дел, которыми он не сможет заниматься сам, и выплачивать всем им достаточное жалованье. Он должен тщательно выбирать «свидетелей» и следить за ними, нести надзор за сиротами и пожертвованиями <вакфами> и спрашивать совета у ученых в отношении тех дел, где он не в состоянии вынести решения на основании Корана и сунны. Если же они согласно придут к противоположному решению и окажется тем самым, что кади вынес неправильный приговор, он обязан отменить свой приговор[1652]. Таким образом, полностью независимая от правительства корпорация ученых являлась высшей инстанцией. В их среде в столь важной области судопроизводства утвердила свои позиции демократия, независимая община верующих.
Всякая должность имела сильную тенденцию переходить от отца к сыну, а в должности судьи это сказывалось наиболее отчетливо. В III и IV вв. одно только семейство Абу-ш-Шавариб дало Багдаду не меньше восьми верховных кади и, кроме того, еще шестнадцать кади[1653]. Затем идет семья ‘Омара ал-Азди, давшая четырех верховных кади. Потомки Абу Бурды примерно с 325/947 г. и на протяжении многих поколений были верховными кади провинции Фарс и примерно с 400/1010 г. в течение столетий — кади Газны[1654]. Точно так же и в фатимидском Египте верховная судебная должность 80 лет подряд передавалась, по наследству в семье ан-Ну‘ман[1655]. Могущество этих династий судей невероятно возросло, потому что в III/IX в. в судейском мире также входит в практику система передачи на откуп, которая была в ходу при замещении правителей областей. В реестровом списке начала IV/X в. предусматривалось, что в Египте есть лишь один кади, что в Хузистане и в провинции Фарс все судебные округа объединены под руководством одного кади[1656]. Верховный кади иранских Бундов, исполняя судебную должность в столице Рей, нес те же обязанности в Хамадане и Кухистане[1657]. В 336/947 г. кади Мекки являлся также и судьей Старого Каира и других округов[1658]. При Фатимидах египетские округа, округа Сирии и стран Запада время от времени объединялись под судебной властью одного-единственного кади[1659]. Грамота о назначении верховного кади Египта от 363/974 г. делает его кади почти всей империи западнее персидских гор. Ему были подчинены судьи низшей инстанции (хуккам), над которыми он осуществлял надзор[1660].
Наряду с судом, возглавляемым кади, существовал и светский суд (ан-назр фи-л-мазалим). В этот суд попадало «всякое дело, разрешить которое кади было не под силу и разрешить которое должен был кто-то, имеющий больше власти»[1661]. Оба этих судебных ведомства существовали во всех мусульманских странах бок о бок[1662], причем функции их никогда не были четко разграничены. Поэтому постоянно возникали споры, кто же обладает большей властью — ислам, который представляет кади, или общество и светская власть. Полицейские дела чаще всего поступали в светский суд[1663], который, между прочим, также зачастую возглавлял кади, главным образом верховный кади дворцового суда[1664]. В провинции светских судей назначал везир[1665]. В IV/X в. каноническое право дважды предпринимало попытку взять под свой контроль полицию. В 306/918 г. халиф приказал начальнику полиции Багдада поставить в каждом квартале города юристов (факих), которые должны выслушивать жалобы жителей и выносить решения по их прошениям, иными словами, юристов — полицейских комиссаров[1666]. «Вследствие этого страх перед правительством резко уменьшился, а дерзость разбойников и бродяг возросла»[1667]. Ал-Хаким также придал полиции каждого города двух юристов, которые должны были вести расследование по поводу всякого сообщенного им преступления[1668]. Однако эти попытки не давали результатов, наоборот, в полном противоречии с юридической теорией можно было обжаловать в светский суд (мазалим) приговор, вынесенный кади, особенно в высшую его инстанцию — в придворный суд. «Там собирается множество людей,— так описывается публика, собирающаяся в этом суде,— из отдаленных областей, и все они подают жалобы: один на эмира, другой на налогового чиновника, третий на кади, а четвертый на власть имущего»[1669].
Приблизительно около 420/1029 г. некий кади в Каире домогался руки богатой наследницы, но был отвергнут. Из мести он при помощи четырех свидетелей объявил девушку невменяемой и наложил арест на ее имущество. Но она обратилась к везиру, который велел объявить, что она находится в здравом уме, посадил в тюрьму лжесвидетелей, заставил кади выдать ее имущество, а также и прочее незаконно приобретенное добро, подверг его домашнему аресту и поручил сыну кади отправление должности отца[1670].
Вице-король Ахмад ибн Тулун столь добросовестно исправлял судейскую должность, «что люди почти перестали приходить к кади», так что в то время в Египте семь лет подряд не было кади и все решалось светским судом[1671]. И при чернокожем вице-короле Кафуре в Египте «кади был как бы выключен, ибо Кафур сам очень часто вершил суд»[1672].
В 369/979 г. в Каире вспыхнула ссора между обоими судебными ведомствами, в результате чего везир постановил, чтобы они не вмешивались в дела друг друга[1673]. Приблизительно в 400/1009 г. один кади вынужден был заявить протест против того, что полиция решает вопросы, принадлежащие компетенции канонического права. Халиф положил конец раздорам, подчинив светский суд кади[1674].
Жалобы чаще всего подавались в письменном виде[1675]; около 320/932 г. эти записки, кажется, писались в присутствии председательствующего[1676] — приговор давался в письменном виде. Некоторые из этих определений (тауки‘ат) вошли в литературу как классические, подобно заметкам на полях, сделанным старым Фрицем[1677].
Обычно при дворе был назначен один день в неделю для слушания дел; так, еще в византийскую эпоху в 496 г. н.э., наместник Эдессы каждую пятницу разбирал дела в церкви[1678]. При ал-Ма’муне, например, для разбора дел было определено воскресенье[1679]. В Египте Ибн Тулун исполнял эту обязанность два раза в неделю[1680]; Ихшид — вице-король Египта — вершил дела каждую среду в присутствии везира, всех кади, правоведов и прочих должностных лиц[1681], Кафур — каждую субботу[1682]. Однако начиная с ал-Мухтади (255—256/868 до 869 г.) халифы больше не занимались этим делом[1683]. Этот последний халиф, занимавшийся разбором дел, был человек ревностный в делах веры, каждую пятницу произносил проповеди, выстроил здание, увенчанное куполом, с четырьмя входами, где он вершил суд. Это здание называлось «Дворец правосудия» (Куббат ал-мазалим — «Купол жалоб»)[1684]. В холодные дни он приказывал устанавливать там жаровню с углями, у которой истец мог погреться до разбора его дела, «чтобы он не превратился в камень от присутствия его величества, а также и от холода»[1685].
Халиф ал-Кахир, еще будучи претендентом на халифский престол, среди других обещаний сулил, что он намеревается вновь сам творить суд[1686]. При ал-Му‘тадиде (279—289/892—902) вместо правителя в придворном суде заседал обер-гофмаршал, а везир решал дела в других судах, причем по пятницам[1687]. Но в начале IV/X в. везир разбирал дела в присутствии по жалобам (мазалим) каждый вторник, и вместе с ним — начальники департамента[1688]. В 306/918 г. на заседании придворного суда даже председательствовала одна дама[1689].
Так как это судопроизводство было свободно от юридической мелочности, оно пользовалось большей свободой. Педантичный систематик ал-Маварди перечисляет десять пунктов, которые отличают этот суд от суда кади. Самыми важными из них были: что здесь стороны можно было принудить к соглашению, в то время как для кади это было невозможно; что здесь можно было также и свидетелей приводить к присяге и что судья мог сам вызывать свидетелей и опрашивать их первыми, а перед кади только жалобщик давал показания и его свидетелей выслушивали лишь после его допроса[1690].
Однако все это лишь «серая теория»[1691] — здесь судили по местному праву и обычаям, здесь также процветали и такие давно испытанные средства судебной практики, как телесные наказания, что было запрещено у кади[1692].
IV/X век проложил новые пути в двух основных отраслях арабской филологии — в грамматике и обработке словарного запаса. Подобно теологии, филология также освободилась в то время от юридического метода, хотя бы с внешней стороны. Ас-Суйути так описывает старый метод филологического образования: «Их манера диктовать целиком и полностью подобна манере преподавания хадисов. В верху листа слушатель (мустамли) пишет: Лекция, продиктованная нашим шейхом таким-то в такой-то день. Затем лектор, предварительно сообщив цепь передатчиков, упоминает о чем-нибудь сказанном древними арабами и ораторами, где имеется что-либо примечательное или нуждающееся в разъяснении. Он объясняет, приводя соответствующие места из сочинений древних поэтов и других полезных сочинений, причем из первых цитаты должны были быть совершенно достоверными, что же касается последнего, то это более безразлично. Эта манера чтения лекций была раньше широко распространена, но когда вымерли хуффаз[1693], то с их смертью прекратились филологические диктанты. Последним, о котором я слышал, что он диктует лекции такого типа, был Абу-л-Касим аз-Заджжаджи, после которого остались многие записанные под его диктовку лекции, составившие в общей сложности солидный том; умер он в 339/950 г. Мне неизвестны более поздние тетради с лекциями лексикологического содержания»[1694].
Эти старые ученые крайне рыхло нанизывали одно на другое свои объяснения, они интересовались деталями, единичным фактом, отдельной формой, одним словом или одним предложением, как мы видим это в книгах ал-Мубаррада (ум. 285/898) или ал-Кали (ум. 356/967), состоящих из пестрой смеси языкознания, анекдотов и истории. Гулам Са‘лаб (ум. 345/957) позволял слушателям направлять ход изложения вопросами, например: «О шейх, что такое ал-кантара у бедуинов?»[1695]. Напротив, ведущие филологи IV/X в. испытывали потребность в методе, в систематической обработке материала. При этом главную роль тут сыграло проникновение греческой грамматики. При дворе ‘Адуд ад-Даула (ум. 371/981) велись диспуты о различии между арабской и греческой грамматикой, а Абу Сулайман ибн Тахир весьма резко обозначил новое течение как светское и чуждое богословию: «Грамматика арабов — религия, наша грамматика — разум»[1696]. И если в то время в первый раз появляется «Введение в грамматику» (мукаддима фи-н-нахв), принадлежащее Ибн Фарису (ум. 395/1005), то этот труд следует рассматривать как арабский отпрыск «Введений» (исагогик) греческих филологов.
Главные достижения были сделаны в области определения и обработки словарного запаса: результат здесь виден отчетливо.
Филология старого склада была исключительно вспомогательной риторической наукой и создавала синонимические и прочие словари для ораторов; период этот завершил Хамза ал-Исфахани (ум. между 350—360/961—970). В своей Китаб ал-мувазана он собрал, например, 400 выражений для слова «несчастье», а в составленном им словаре поговорок привел наиболее употребительные риторические сравнения — «белее снега», «прожорливее слона», причем довел их до такого совершенства, что последующие столетия ничего не смогли добавить. Его предшественник собрал 390 таких сравнений, а он записал 1800. Ал-Майдани (ум. 518/1124) просто-напросто переписал его и сумел добавить к каждой главе лишь одно или два, самое большее — четыре выражения. Даже все объяснения он заимствовал у своего предшественника[1697]. Также и в области собственно поговорок основная работа была выполнена в IV/X в. ал-Хасаном ал-‘Аскари (ум. 395/1005).
Новая же школа поколение спустя продемонстрировала в словаре ал-Джаухари (ум. 392/1001) то, что было важно для нее. Любое сопоставление с большим словарем Ибн Дурайда (ум. 321/933) показывает, какие успехи были достигнуты в области методики и ясности изложения. «Сделать ясным и более близким», как говорит сам Ибн Фарис (ум. 395/1005), было «от начала и до конца целью, преследуемой им в его словаре»[1698]. Авторитет ал-Джаухари был столь велик, что вокруг его имени веками развивалась целая литература как противников, так и сторонников[1699]. Еще ас-Суйути (ум. 911/1505) написал в Мекке книги, защищая свою точку зрения против ал-Джауджари и ‘Абд ал-Барр, в которых он, как передают, особенно резко нападал на первого — своего современника (ум. 889/1484)[1700]. Все более поздние словари являются по отношению к словарю ал-Джаухари лишь дополнениями и комментариями; таким образом, и в данном случае старое закончилось и заложены были основы на столетия вперед.
В это же время весьма серьезной переработке подверглась методика этимологического исследования языка; результаты этой переработки долго сказывались. Мастером такого исследования был Ибн Джинни из Мосула (ум. 392/1002), сын греческого раба, который, как говорят, ввел в науку так называемую большую этимологию[1701], т.е. все еще и сегодня благодарную тему о первоначально двухсогласном корне. Ничего большего эта этимологическая работа арабов не дала.
Наряду с литературным языком существовал и развивался разговорный язык, так сильно отличающийся от письменного литературного, что, например, в Багдаде III/IX в. с удивлением смотрели на того, кто говорил грамматически правильно и с падежными окончаниями[1702]. Возникший в это время в литературе интерес к простому народу и его жизни заставил филологию позаботиться о чистоте языка и обратить, внимание на языковые погрешности народа. Испанец аз-Зубайди (ум. около 330/941) написал труд «О народном диалекте»[1703], позднее Ибн ал-Халавайхи (ум. 370/980) написал в Алеппо Китаб лайса, т.е. «Книгу об отрицании „нет“». Что осталось сделать после него более поздним филологам, в частности ал-Харири, надлежит еще исследовать.
Изменение состава населения, истощение до сей поры ведущей его части и выдвижение вперед древнего населения смешанных рас отчетливее всего проявляется в литературе. Приблизительно около 200/815 г. в ней возникает брожение: испытанная временем форма касыды, в которой древние арабские поэты воспевали самые возвышенные чувства бедуинов, оказывается теперь слишком растянутой, чрезмерно патетической, и касыда утрачивает безраздельное господство. Жители городов, занявших ведущее положение в литературе, наряду с героическими сюжетами все больше теснят и героический язык: глухая дикость языка уступает место более ясным выражениям, поразительно растет склонность к более кратким стихотворным метрам.
Отныне поэт должен стремиться вызывать восторг посредством новых сюжетов, изящных мыслей, красивых слов и с меньшим подъемом уноситься в мир сильных чувств. Пробудилась склонность к занимательному, являющемуся ядом для всякой героической поэзии. Литература вновь открыла окружающий ее мир и обрела радость от пестрой, хоть и не совсем радостной жизни вокруг себя. Народ и прежде всего непросвещенное население городов торжественно вступают в арабскую литературу и не только на стихи учат смотреть глазами народа, распевать в его ритмах, на помощь привлекают также и свободную речь, чтобы выразить ею все многообразие нового. Так в литературу пришла проза, сфера которой до той поры ограничивалась лишь научными и церковными сочинениями, в лучшем случае несколькими переведенными с персидского народными книгами. Приблизительно в 250/864 г. она, как считают, «вытеснила поэзию»[1704].
Проза
Благоговение даже и перед нерифмованным словом, являющееся началом всякой хорошей прозы, было одной из главных доблестей древних арабов, и в этом они стоят выше всех прочих народов. Равным поэту был для них и оратор (хатиб) племени, причем его дарование также считалось чем-то сверхчеловеческим, а отсюда и суеверное представление о том, что оратор рода всегда должен умереть до того, как появится преемник, в которого тогда сможет переселиться демоническая сила[1705]. Прозаический талант считали чем-то таким самостоятельным и отличным от поэтического дара, что приходили в изумление, когда какой-нибудь поэт занимался также писанием писем и сочинением речей[1706]. Наслаждение, доставляемое хорошим слогом, ценилось настолько высоко, что когда в 208/823 г. Мекка была разрушена наводнением[1707] и халиф направил туда деньги и письмо с утешением, то якобы «письмо было мекканцам дороже денег»[1708].
Интерес к современникам проявляется прежде всего в восторженном внимании к народным обычаям. Некий Абу-л-‘Аккал пишет приблизительно около этого времени первую книгу «О нравах необразованных», кади Саймары (ум. 275/888) собирает «Истории простого народа» (Ахбар ас-сифла) [1709], а описание жизни городских сословий становится излюбленной темой ал-Джахиза[1710]. Этот человек (ум. 255/869), о внешнем безобразии которого рассказывают забавные анекдоты — его имя означает «пучеглазый», а его дед был чернокожим[1711],— является отцом новой арабской прозы. Ас-Са‘алиби называет его первым великим прозаиком[1712]; везир Ибн ал-‘Амид, мастер в составлении государственных бумаг, имел обыкновение спрашивать каждого, кого он хотел проэкзаменовать, его мнение о Багдаде и об ал-Джахизе[1713] и в конце концов его прозвали вторым Джахизом[1714]. Передают, что знаменитый Сабит ибн Курра завидовал исламу из-за трех его мужей: ‘Омара I, святого Хасана Басрийского и ал-Джахиза[1715]. Абу Хаййан ат-Таухиди, пожалуй, величайший мастер арабской прозы вообще, написал книгу «В похвалу ал-Джахиза». Он настолько серьезно отнесся к этому, что особо выделил писателей, высоко ценивших ал-Джахиза[1716], а его благоговение перед мастером заходило так далеко, что он стал сторонником и его схоластики[1717].
Ал-Джахиз пишет обо всем: от жизни школьного учителя[1718] до рода Бану Хашим[1719], о разбойниках[1720] и о ящерице, об атрибутах Аллаха, вплоть до непристойностей о хитростях женщин. Стиль его нов, наивен и многословен, к тому же он зачастую неуклюже обращается со своими сюжетами. Однако это как раз и нравилось его почитателям, это они воспринимали как освобождение от безраздельно господствовавшего до того времени ученого, более или менее педантичного литературного стиля. Они почитали его уютную болтовню за сознательное искусство; так, например, в 332/943 г. ал-Мас‘уди высоко оценивает и превозносит именно совершенство плана и продуманную композицию его произведений: «Когда он опасается, что наскучил читателю, он переходит от серьезного к шутке и от возвышенной мудрости к изящной причудливости». Наиболее хаотическое произведение ал-Джахиза Китаб ал-байан ал-Мас‘уди ставит превыше всего как раз из-за его многогранности[1721] и зачастую сравнивает хорошего писателя с тем, «кто ночью собирает хворост» (хатиб лайл) и, не видя, подбирает все, что только попадется ему под руку[1722].
Большую помощь в захвате литературы городами оказала мистика, возникшая около 200/815 г. также как следствие истощения древнеарабского духа. Как и в других литературах, она придавала внушительную силу натурализму, пренебрегала ученостью, а зачастую даже выступала против нее и в значительной мере опиралась на простой народ. Мистика обращалась к нему с проповедями, анализировала его жизнь, вникала в его нужды, поддавалась влиянию его языка. И наконец, надо сказать, что проникновение в то время в мусульманскую риторику рифмованной прозы объясняется только лишь полным упадком древнеарабской традиции. Ей еще был знаком языческий аромат рифмы, и она питала к нему такое же отвращение, как христиане Римской империи к античным стихотворным размерам. «Так как исчез сам повод к запрету рифмованной прозы, т.е. исчезли язычники-прорицатели, которые постоянно пользовались ею, то кончился и запрет»,— сообщает ал-Джахиз[1723]. Бывшим христианам, которые в это время стали играть в жизни решающую роль, рифмованная проза была знакома по их проповедям, по всей вероятности, и в исламе «приблизительно в III/IX в. рифмованная проза (садж‘) проникает в официальную проповедь; можно обнаружить, что в обращении халифа к своим подданным преобладает форма садж‘а, хотя она еще и не вполне последовательно выдержана»[1724].
В письменном виде ораторские приемы применялись в эпистолярном жанре. Никогда не было недостатка в литераторах, которые, презрев религиозные соображения, писали рифмованной прозой, приводившей их в восхищение в речах древнеарабских ораторов. Так, например, Ибрахим написал во времена Харуна письмо бармакиду Халиду, которое все жители Багдада знали в ту пору наизусть[1725]. Однако мерилом всеобщего употребления рифмованной прозы был официальный канцелярский арабский язык. Примерно в 200/815 г. канцелярия халифа ал-Ма’муна пишет очень просто и без рифм[1726]. Ибн ас-Саваба (ум. 277/890), от которого на имя везира поступило рифмованное письмо, был известен своей витиеватой манерой изъясняться[1727]. Также и знаменитое проклятие, обращенное против Омейядов и предназначавшееся для торжественного чтения со всех минбаров, было, написано в 284/897 г. без перезвона рифм. Но все же появляются и робкие попытки использования рифмы[1728]. В то же самое время один государственный секретарь пишет везиру совсем без всякой рифмы[1729].
Однако около 300/912 г. рифмованная проза стала модой в кругах багдадской знати: халиф ал-Муктадир пишет рифмами в свои провинции[1730], везир ‘Али ибн 'Иса украшает свои письма множеством рифмованных строк[1731]. В провинции же были в этом отношении еще не на высоте, и рифмованные письма везира Ибн Хакана были для чиновников чистейшей китайской грамотой[1732]. Провинциальный чиновник продолжал писать свои донесения по-старому, без рифм[1733]. Вскоре, однако, рифма стала быстро распространяться: «В то время как Ибн ал-‘Амид и его современники, руководствуясь соображениями удобства, в одном и том же отрывке то применяли, то опускали рифму, у стилистов конца столетия, таких, как ас-Саби и ал-Баббага, рифма присутствует везде»[1734]. Говорят, что у бундского везира ас-Сахиба рифма стала манией: «Он был настолько на ней помешан, что не в состоянии был отказаться от рифмы, если бы даже от этого погибло все и ему самому угрожала величайшая опасность». Так, некто, обладавший, правда, очень злым языком[1735], который, впрочем, был хорошо подвешен, рассказывает, что этот везир во время одной из своих поездок миновал благоустроенный квартал и остановился в захудалом только для того, чтобы иметь возможность записать в дневнике дату: из Наубахара в полдень (нисф ан-нахар)[1736]. А одному Алиду, когда он пришел к ас-Сахибу, стало дурно от посыпавшихся на него рифм, так что пришлось даже взбрызнуть его розовой водой[1737]. И до сего дня рифма сохранила свои позиции на мусульманском Востоке[1738].
Письма IV/X в. представляют собою цвет изящнейших произведений мусульманского художественного ремесла, работавшего с самым благородным материалом — с живым словом. Если бы даже не сохранилось ничего из прекрасных изделий, созданных в ту пору художниками из стекла и бронзы, то и тогда на основе одних этих писем можно было бы представить себе, как высоко ценилось в то время легкое изящество и свободное владение труднейшей формой изложения. Отнюдь не является случайностью, что множество везиров в то время мастерски владели стилем и их письма смогли удостоиться чести быть изданными в форме книг: это письма ал-Хасиби, Ибн Муклы[1739], ал-Мухаллаби[1740], Ибн ал-‘Амида, ас-Сахиба, везира Саманидов ал-Искафи. Последнего считали выдающимся мастером государственной переписки, но слабым в переписке частной — настолько тонко тогда это различалось[1741]. Более важные бумаги, патенты о назначении на должности и тому подобное при всех правителях должны были составляться в особом диване (диван ар-раса’ил), причем в Багдаде пошли в этом направлении так далеко, что во главе дивана был поставлен самый блестящий стилист второй половины века, невзирая на то что он на протяжении всей своей жизни открыто исповедовал сабейскую религию; он даже и тогда не принял ислам, когда ему предложили должность везира[1742]. А когда он умер, то сам глава Алидов оплакивал смерть этого неверного в элегии, что свидетельствует о том, насколько выше ценили тогда блестящий арабский язык, чем ортодоксальную веру. Этот Ибрахим ибн Хилал ас-Саби (ум. 384/994) знал себе цену, знал, что он «глаз халифа, которым тот взирает на эпоху», что он «имеет в голове мысли, потребные царям»[1743]. Все его письма распадаются на две части: сначала идет краткое повторение содержания письма, на которое дается ответ, причем слова, свидетельствующие о получении письма, давали повод к куртуазным комплиментам. Например, одно послание везира к верховному кади начинается такими словами: «Поступило к нам письмо судьи судей со словами, которые сделали море сладким, когда с ним смешались, и с мыслями такими светлыми, что озарили они ночь и прогнали ее»[1744]. Затем следует ответ, предваряемый словами: «И я понял…». Эти письма и в наше время читаешь с удовольствием и поражаешься их мастерству, которое даже деловые сообщения облачает в изящную форму, с расточительной непринужденностью рассыпает конечные и начальные рифмы, игру слов и словоплетений. И несмотря на все это, смысл предложений не теряется под грузом слов и не заглушается самодовлеющим перезвоном рифм, так что сразу можно понять, о чем, собственно, должно быть сказано,— и без труда, в противоположность более поздним столетиям. Даже в переводе, т.е. лишенные всех украшений, преподнесенные в наиболее неблагоприятном виде, эти письма все же удобочитаемы. Возьмем в качестве примера таких государственных посланий сочиненное ас-Саби поздравительное письмо ‘Изз ад-Даула, адресованное его двоюродному брату ‘Адуд ад-Даула, когда тот в 357/968 г. сообщил о завоевании Белуджистана и горной цепи Куфса: «Получено нами письмо господина эмира ‘Адуд ад-Даула — да сохранит Аллах ему силы — с известием об успехах, которые ему даровал Аллах ради его правдивости, его счастья и его благочестия, что он — да сохранит Аллах его величие — завоевал горы ал-Куфс и ал-Балус и их жителей, которые были враждебны истинной вере и уклонились от пути, указанного Аллахом, гонял их из одного убежища в другое, одолевал их в каждом логовище, убил их стражей, уничтожил их героев, превратил в пустыню их нивы и пастбища, стер все их следы так, что вынудил их в конце концов смириться, искать мира, дать заложников, выдать сокровища, занять правильную позицию в отношении истинной веры и вступить в пределы верующих. Я понял это и восхваляю Аллаха за милость, которую оказал он эмиру ‘Адуд ад-Даула, ибо знаю я, какую добычу подарил нам через него Аллах, и радуюсь тому, чего достиг он благодаря милости Аллаха, и пользуюсь тем, что он имеет, и держусь того, что он делает. Я считаю великой и достойной честь, которой он добился, и блистательным поход, который он совершил. Мы привыкли к тому, что эмир — да придаст ему Аллах силы — бьет злодея до тех пор, пока тот не исправится, а упрямца — пока тот не станет кротким. И приучены мы Аллахом, что он ему помогает, что он обеспечивает ему счастье и дарует удачный исход. Как только приходит мне весть о великом подвиге эмира, я поджидаю следующей, которая тотчас же за ней следует, и всякая благодарность, которую я приношу ему за что-либо минувшее и былое, обеспечивает мне что-нибудь новое, скорое. Я прошу Аллаха, чтобы он подкрепил его благосклонностью своею и наполнил бы своими дарами, чтобы дал он ему возможность достичь в духовном и в мирском того, на что он и в том и в другом надеется, чтобы Аллах в изобилии дал ему все возможное в обеих этих областях, чтобы он даровал его знамени победу над врагами его, будь их мало или много, возвысил бы слово его над ними, будь их мало или много, чтобы дал он ему в руку их чубы, как во время мира, так и во время войны, и чтобы подчинил он их ему, будь то добровольно или нет…» (Конец отсутствует)[1745].
Из официальных посланий (султаниййат) орнаментированная рифмами манера письма перешла также и в частные письма (ихваниййат). В III/IX в. принц и поэт Ибн ал-Му‘тазз выразил свое соболезнование эмиру и поэту ‘Убайдаллаху ибн ‘Абдаллаху ибн Тахиру без рифмы и получил в ответ также нерифмованную благодарность — оба эти случая были бы немыслимы на сто лет позже[1746]. В конце IV/X в. искусство изящных писем ценилось так высоко, что люди могли существовать им, не занимая никакой должности, как, впрочем, издавна поэты существовали поэзией. Наиболее знаменитым из этих составителей частных писем был Абу Бакр ал-Хваризми (ум. 383/993) — по времени первый арабский «писатель». Он побывал при дворе почти всех властителей мусульманского Востока: в Бухаре, Нишапуре, Герате, Исфагане и Ширазе[1747]. Его письма были адресованы эмирам, везирам, военачальникам, кади, чиновникам, богословам и филологам; обычно их темы — поздравления по случаю праздника, повышения в ранге, успеха, утешения по случаю смерти, отстранения от должности, болезни или угрозы войны, благодарность за подарки и т.п. Среди написанных им писем имеется также и жалоба начальнику налогового ведомства за непомерно высокое обложение его имения: он должен удовлетворить его просьбу, если он не хочет лишить Хорасан его языка. В ответ на это он был освобожден на год от уплаты земельного налога[1748]. Широкая известность его имени, кажется, привлекла к нему много учеников, главным образом юристов (фукаха). В собрании его писем имеется ряд писем к ученикам и бывшим ученикам, а также одно письмо, в котором он благодарит за определение на должность одного его ученика[1749]. Среди них, например, такое: «Письма твои, сын мой, являются для меня яблоками и благовониями, цветами и букетами. Я радуюсь первому письму, однако поджидаю получения второго; я благодарен тебе за прошлые письма, но считаю дни и ночи, оставшиеся до грядущих. А посему пиши длинно и много и знай, что моя любовь к тебе крепка и свободна.
Я люблю тебя с такой силой, что сделала бы любовь друзьями
Врагов, если бы они где-нибудь были.
Я наслаждаюсь тобой, когда ты подле меня и тоскую по тебе, когда ты уходишь. Если бы ты только знал мою тоску, то ты горделиво вознесся бы над людьми, обитатели всей земли ничего для тебя не значили бы, ты презрительно взирал бы на них только самыми краешками глаз и говорил бы с ними лишь краешками уст»[1750].
По сравнению с этими письмами послания ас-Саби производят впечатление спокойных и деловитых. Ритм и легкость изложения являются главными, что же касается сюжета, то он представляет собой лишь проволоку, на которую художник навивает свои гирлянды. Этот стиль опять-таки имеет много общего с древнеарабским: радость выразительным словам и удачным сравнениям и внутреннее волнение. Только древний рыцарский пафос превратился теперь в гротеск, в единственную форму, которая делала возможным его существование в городской среде. Основные черты речи ал-Хваризми также в сущности относятся к гротескному стилю: гиперболы и нагромождения, причем и те и другие примененные сознательно, как определенные средства искусства. «Один человек оскорбил меня — я не знаю, унес ли ветер его прочь, или его поглотила земля, или ужалила змея, или его разорвали дикие звери, или сбил с пути злой дух пустыни, или его заманили демоны, или спалила его молния, или растоптали его верблюды, или проводник завел его куда-то? Свалился ли он с верблюда, или скатился с вершины горы, или упал в колодец, или на него обрушился склон горы, или у него отсохли руки, или отнялись у него ноги, или его поразила слоновая болезнь или воспаление диафрагмы? Может быть, он наказывал раба и тот убил его? Может быть, он заблудился в горах, утонул в море, или умер от жары, или его смыло грозовым потоком, или поразила смертоносная стрела, или творил он дело Лота и побит камнями?»[1751].
Человеку, который пожелал купить один экземпляр его писем, он писал: «Если бы я мог, то взял бы в качестве бумаги кожу моей щеки, вместо калама — один из моих пальцев, а вместо чернил — зеницу ока»[1752]. Зачастую его преувеличения дают нам достойные благодарности перечни крайностей тогдашней жизни; так, например, когда он описывает, как несчастливо и нескладно идут у него все дела: «Я ездил на чужом животном, ел из чужой котомки, жил в нанятом доме, пил изюмное вино, летом носил шерсть, а зимой — бумагу, в письмах обращались со мной учтиво, но с глазу на глаз называли на „ты“, во время молитвы меня сажали в ряд туфель, т.е. позади самых последних людей. Дело зашло так далеко, что моя рабыня стала плохо со мной обращаться, а моя лошадь — артачиться. Мой спутник, с которым я путешествовал вместе, прибывал раньше меня, а если я зарабатывал добрый дирхем, то в моей руке он превращался в фальшивый. Я сам раскраивал купленное мною сукно, а на теле моем оно превращалось в краденое. Когда я в июле стирал свою одежду, то исчезало солнце и надвигались облака, а когда в июне я отправлялся в путешествие, то дул ветер и туман застилал видимость. Я потерял все, что у меня было, кроме чести моей» и т.д.[1753] Или же при помощи нагромождений достигает он эффекта утонченной лести и указывает нам при этом целый ряд книг, при посредстве которых можно написать прекрасное письмо: «Господин заметил, что он написал ответ на мое письмо между обедом и вечерней молитвой, а я считал, что написано оно было медленно, несмотря на то, что я не знал, сколь глубоко и полноводно море знаний господина. Я же, напротив, когда писал это письмо, запер дверь, опустил занавес, обложился моими книгами и сидел между налоговыми чиновниками и Бундами, между ал-Хасиби и Ибн Муклой, вызвал из могил роды Йаздад и Шаддад и призвал из потустороннего мира басрийца Ибн ал-Мукаффа‘, перса Сахля ибн Харуна, египтянина Ибн ‘Абдана, Хасана ибн Вахба, Ахмада ибн Йусуфа, положил по правую руку жизнеописание Ардашира ибн Бабакана, по левую — книгу Ат-табйин ва-л-байан, перед собой — изречения Бузурджмихра ибн ал-Бахтикана, но в первую очередь, однако, письма нашего повелителя ас-Сахиба, ‘Айн аз-заман» и т.д.[1754]
Однако уже своим более молодым современникам ал-Хваризми казался устаревшим и слишком примитивным, ибо он пишет, «как это обычно делают люди и как пишет всякое перо»[1755]. Возглавлял этих прогрессистов Абу-л-Фадл из Хамадана. Двадцати двух лет от роду пришел он в Рей к ас-Сахибу ибн ‘Аббаду, двенадцать лет спустя[1756] отправился в Нишапур, где он письменно и устно многократно мерился силами с ал-Хваризми. Покинул он Нишапур только после смерти своего противника и начал свои долгие скитания по Хорасану, Сиджистану и Афганистану, где он заезжал в каждый город и снимал в нем жатву. В конце концов он избрал местом жительства Герат, где выгодно женился и стал скупать солидные поместья. Умер он в 398/1007 г. чуть старше сорока лет[1757]. Он славился своей памятью: один раз прослушав стихотворение более чем в пятьдесят стихов, он мог совершенно точно повторить его[1758]. Среди того, что он может сделать, а ал-Хваризми не может, он перечисляет следующее: «написать письмо, которое, если его прочитать задом наперед, одновременно содержит ответ; написать письмо без определенных букв, групп букв или без артиклей; написать письмо, которое, если читать наискосок, является стихотворением; письмо, которое в зависимости от толкования может быть похвалой или порицанием»[1759],— вот что было в то время высшей ступенью писательского мастерства.
Ал-Хамадани порицает также и стиль ал-Джахиза, считая его слишком обнаженным, похожим на обыденную разговорную речь, слишком неровным, «без единого вычурного оборота или неслыханного слова»[1760]. К счастью, дошедшие до нас письма ал-Хамадани избавляют нас от этих трюков, но и они все же много витиеватее, чем письма ал-Хваризми, полны насильственно притянутых, туманных намеков и игры словами.
Появляется и нечто новое, выходящее за рамки чисто эпистолярного стиля,— это радость от самого повествования. Встречающиеся в разных местах в большей или меньшей степени отделанные анекдоты, еще полностью отсутствующие у ал-Хваризми, могут служить примером этого нового явления. Так, человек из Бухары, у которого потерялся осел, иллюстрирует тех, кто скитается в дальних краях, в то время как благо находится под боком. «Он отправился на поиски осла, переправился через Амударью и искал его во всех постоялых дворах. Не найдя его там, он пересек Хорасан, добрался до Табаристана и Вавилонии, рыскал по всем базарам, но осла так и не нашел. Отказавшись от дальнейших поисков, он проделывает трудный и долгий путь домой. Заглянув как-то на конюшню, он увидел своего осла; под седлом и при уздечке, с шлеей под хвостом, затянутый подпругой, он преспокойно похрустывал кормом»[1761].
Чтобы подкрепить примером, что человек всегда стремится на родину, «что даже верблюд, несмотря на то что у него грубая печень, тоскует по родному городу, что птицы пересекают морские просторы, добираясь до родных мест», ал-Хамадани рассказывает о Тахире ибн ал-Хусайне. «Когда он прибыл в Старый Каир, то он увидал воздвигнутые там на улицах купола, расстеленные ковры, роскошно разукрашенные дома, множество людей, конных и пеших, деньги, разбрасываемые направо и налево. Но он повесил голову, не проронил ни звука, ни на что не смотрел и никто его не радовал. Когда же спросили его о причине грусти, он ответил: нет ведь среди зрителей старух из Бушенджа (его родной город)!»[1762].
Один купец снаряжает своего сына на чужбину и снабжает его деньгами и устными наставлениями. Особенно предостерегает он его в отношении щедрости: «Пусть говорят, что Аллах, мол, щедр. Да, это так, но его щедрость обогащает нас и от нее у него ничего не убывает, приносит нам пользу и не причиняет ему никакого вреда. Что же касается нашего брата, то у нас не так». Но на чужбине его сына охватывает страсть к наукам, и он расходует все свои деньги на учение, «а когда у него уже ничего не осталось, нищим возвращается он к отцу с Кораном и комментариями к нему и говорит: „Отец, я пришел к тебе с властью над этим миром и над потусторонним, и с вечной жизнью — с Кораном и комментариями к нему, я пришел к тебе с хадисами и их передачей, с юриспруденцией и ее уловками, со схоластикой и ее отраслями, с прозой и ее украшениями, с грамматикой и ее спряжениями, с философией и ее принципами; собирай же себе с науки цветы и блеск (наур ва нур), а с изящных искусств — благородство и красоту (хурр ва хур)!“. Тогда отец взял сына с собой на базар, привел его к меняле и к торговцу полотном, к торговцу специями, к пекарю и мяснику и в конце концов пришли они к торговцу овощами. Отец потребовал пучок овощей и сказал: „Возьми в уплату за него толкование какой-нибудь суры, какой хочешь“. Торговец запротестовал: „Мы продаем только за чеканную монету, а не за растолкованную суру“. Поднял тогда отец горсть пыли, посыпал ею голову сына и сказал: „Ты, дитя несчастных, уезжал с грузом всякого добра, а вернулся домой со строками, за которые зеленщик не продает тебе даже и пучка овощей!“»[1763].
Любовь ал-Хамадани к драматическому столкнулась в кругу ас-Сахиба с совершенно особым живым интересом к бродягам, их проделкам и их языку. Сам везир превосходно знал воровской жаргон (мунакат бани сасан) и охотно разговаривал на нем с Абу Дулафом ал-Хазраджи. Этот человек объездил Индию и Китай «в поисках знаний и изысканного образования; мы благодарны ему за важные сведения об этих странах. Он разыскивал для ас-Сахиба рукописи и подобно векселю, [переходящему из рук в руки], бегал он, выполняя его деловые поручения»[1764]. Однако глаза его и уши были открыты не только чужеземному, он видел также низшие слои своего народа, которые чаще всего оставались для образованного человека более чуждыми, чем чужеземцы. Этот мир также открыл первым ал-Джахиз и еще на целых 150 лет раньше составил список промыслов этих слоев с их своеобразными названиями[1765], который затем ал-Байхаки приводит к началу IV/X в. в несколько расширенном виде[1766]. В это же время Абу Дулаф сочиняет длинное стихотворение об этих людях с обстоятельными пояснениями, оставляя далеко позади обоих своих предшественников[1767]. Заслуга в этом принадлежит ал-Ахнафу ал-‘Укбари, который побудил его к сочинению этого стихотворения. Будучи сам бродягой, ал-Ахнаф ал-‘Укбари тоже трогательно пел о своей бездомности, но как истый поэт он так и не смог составить мало-мальски приемлемый словарь жаргона бродяг. Однако материал для такого словаря он дал Абу Дулафу[1768].
И вот в этот круг входит теперь ал-Хамадани со своей особой склонностью к краткой, риторически острой, драматически взволнованной манере повествования. Плодом этого союза явилась серия макам — «речи нищих», одна из которых, а именно Русафская макама, также дает подбор жаргонных выражений, как и стихотворение Абу Дулафа[1769]. Сам ал-Хамадани указывает на влияние этого стихотворения на его сочинение, выразившееся в том, что стихи первой макамы он заимствует из стихотворения Абу Дулафа[1770]. Ал-Хваризми утверждал, что, за исключением этих макам, ал-Хамадани ничего путного не сделал, за что тот смертельно на него обиделся[1771]. К сожалению, нам неизвестно, что именно в них произвело на критика особое впечатление. Для нас крупным шагом вперед является группировка сцен вокруг одного действующего лица — Абу-л-Фатха из Александрии: тем самым под пестрые истории был подведен фундамент и сделана была попытка создания более крупной литературной формы. Всего лишь один шаг отделял эту форму от плутовского романа, легчайшего, тончайшего, до настоящего времени еще нигде не превзойденного типа. Но, к сожалению, шаг этот не был сделан; и вовсе не потому, что не было сил связать все воедино — это видно из народных рассказов,— а потому, что макамы были и оставались литературой для риториков, а связность изложения для них не играла никакой роли. Они ценили только риторические ракеты, которые одна за другой взлетали из мрака «действия».
Собраны также и стихи ал-Хамадани[1772] — типичные стихи прирожденного «писателя» — полные риторики, лишенные какой бы то ни было лирики, а зачастую слишком уж искусные и чрезмерно остроумные. Он «слезами своими отбивает такт трелям соловья»[1773], выкидывает грамматические фокусы и даже пишет стихотворение без буквы «вав» (союз «и»), чего не смог сделать ас-Сахиб, хотя он, впрочем, умел выпускать все другие буквы в любом таком стихотворении[1774]. Насколько ал-Хамадани взял верх над своими предшественниками, показывает антология ал-Хусри (ум. 453/1061)[1775], в которой приведены большие выдержки из писем ал-Хамадани, а ал-Хваризми, напротив, даже и не упомянут.
В числе современников ал-Хусри был и Абу-л-‘Ала ал-Ма‘арри (363—449/973—1057 гг), знаменитейший прозаик. «Все литераторы Сирии, Запада и Вавилонии единодушно свидетельствуют, что в этом столетии не было никого, кто стоял бы с ним на одном уровне»,— писал Насир-и Хусрау, который в 428/1037 г. проезжал через Ма‘арру. Особенно восхваляет этот путешественник одно сочинение Абу-л-‘Ала, «в которое он ввел столь красноречивые (фасих) и удивительные выражения, что понять можно лишь часть их и необходимо от него самого услышать их толкование»[1776]. Это считалось в ту пору идеалом изящной прозы. Однако наиболее головоломные словесные фокусы Абу-л-‘Ала приберег для своих стихов; правда, и в письмах рифмованные фразы стали гораздо короче, чем у ал-Хамадани, но сравнения еще более притянутыми. В общем, риторические аксессуары зачастую настолько заглушают цель письма, что нужно основательно потрудиться, чтобы выискать ее. В ряде случаев сравнение принимает совершенно эпический размах: «Я сетую на разлуку с господином, как горлица, что приводит в восхищение благородного, которая скрывается в густой листве от летнего зноя, как певица за занавесом или вельможа, которого его привратники держат вдали от черни. На горле у этой горлицы тесное кольцо, которое едва не разрывает тоска. Если бы она могла, то сорвала бы его от печали по спутнику, отдавшему ее во власть тоски по родине, посланному однажды Ноем и из-за которого все еще печалятся голуби. Во дворе она поет разные песни, среди ветвей возвещает откровение затаенной, целомудренной тоски» и т.д.[1777] все в том же духе. И при этом искрятся остроты и ученые намеки, почти в каждом слоге звучат буквальные и скрытые значения.
Эта тоска по адресату — обычная вводная тема писем. Если еще ал-Хамадани относительно просто сказал: «Ты нужен мне, как телу жизнь, как рыбе река и земле дождь»[1778], то теперь почти всегда притягивают за хохолок горлицу или же возникают иные необычные образы: «Моя тоска по всем, кого я знавал в Багдаде, подобна ветру, который не знает покоя, и персидскому огню[1779], который никогда не угасает. И я нуждаюсь в вас, как стих в рифме»[1780]. Или: «Моя тоска по господину моему подобна времени, которое не истекает ни в год, ни в месяц, а постоянно — когда прошел один час, следует за ним другой»[1781]. «Я жду тебя, как купец в Мекке ждет каравана из Персии»[1782]. «Я и прочие посылаем тебе привет с каждым всадником на улице, с каждым дуновением ветра, с каждой сверкающей молнией, с каждым призраком, стоящим на дороге»[1783].
Искусство лести культивируется с грандиозными преувеличениями. Передают отрывок из знаменитой грамматики: он «удивляется, как можно заставить Евфрат течь через игольное ушко», и в то же время начало первого письма к одному человеку, живущему в Египте, звучит так: «Если бы утонченное образование издавало аромат или из остроумия сверкали молнии, то, несмотря на большое расстояние, нас окутал бы аромат твоей образованности, и твое полыхающее молниями остроумие разогнало бы у нас ночь… Твое письмо слишком возвышенно, чтобы к нему можно было прикоснуться устами или взять в руку — только копии с него! Для нас оно — священная книга… С теми краями, которые ты избираешь местом своего пребывания, происходит то же, что с 28-ю станциями, в которых делает остановки луна: они знамениты лишь благодаря ей, и арабы с благодарностью принимают приходящие от них щедрые облака…»[1784]. Одному человеку, известившему его о своем посещении, описывает он свое местечко Ма‘арру такими словами: «Он прибудет в эту местность подобно коршуну, которого считают царем и вождем птиц, суставы которого благоухают мускусом, подобно коршуну, опускающемуся на гнилую падаль. Потому что особенности Ма‘арры можно свести воедино к следующему: «это — прямая противоположность раю, про который Аллах говорит, что протекают по нему ручьи, вода которых не становится вонючей. Прозвище этого местечка — „паршивое“ — его примета. В нем нет проточной воды и не выращивают там никаких диковинных растений. Если жителям местечка попадется на глаза убойная скотина, то она кажется им бесценной, как будто выкрашена она индиго, и на нее уставятся так, будто это новый месяц, возвещающий конец поста. Да, бывают там и такие времена, когда козленок кажется столь же величественным, как Козерог на небосводе, а баран — как созвездие Овна. Это времена, когда бедняк встает в поисках пропитания раньше ворона, имеющего двух птенцов; когда человек, стоящий рядом с молочником, думает, что он стоит рядом со стражем райских врат Ридваном и вымаливает у него воду жизни» и т.п.[1785]
Великое искусство этих мастеров словесных фейерверков сделало язык необычайно гибким и при всей сжатости придало ему силу. Оно же стоит за спиной всех тех, кто хотел высказать свои мысли возможно кратко, свободно и живо. Непревзойденным мастером этого стиля является Абу Хаййан ат-Таухиди (ум. 400/1009) — он стоит на вершине этого искусства. Видно, что он знает и владеет всеми тонкими изгибами этого пышного стиля, однако у него он звучит приглушенно. Более простой, а вместе с тем более сильной и темпераментной прозы никто не писал после него на арабском языке. Но мода и почет принадлежали другим: его уделом было одиночество художника, стоящего над толпой. Он говорил: «Исключительно мое положение, мое слово, исключительна вера моя и нравы мои, подружился я с уединением и довольствуюсь одиночеством. Привыкнув к молчанию, знакомый с печалью, несу я горе мое, отчаявшись в людях. Часто молился я в мечети, не оглядываясь на своих соседей, если же я это делал, то видел лавочника, торговца потрохами, чесальщика хлопка или мясника, который оглушал меня исходящим от него зловонием»[1786].
На склоне лет он сжег свои книги, «так как нет у меня ни ребенка, ни друга, нет ни ученика, ни учителя, и я не хотел оставлять книги людям, которые используют их для своих грязных дел и запятнают мою честь, стоит им только заглянуть туда. Почему должен был бы я оставить книги тем, среди которых я прожил 20 лет и не увидел ни от одного человека любви или уважения; тем, кто не раз вынуждал меня идти в пустыню и питаться там травой, подвергал меня позорной зависимости как от образованного, так и от невежды, и я принужден был продавать мою веру и благородство»[1787].
Свою «Книгу о двух везирах» Абу Хаййан настолько начинил горечью и злым сарказмом, что еще долго ходило поверье, будто она приносит погибель ее владельцу.
Об истощении чисто арабского вкуса свидетельствует, наконец, и тот факт, что начиная с III/IX в. уютное повествовательное искусство других народов заняло большое место в арабской литературе[1788]. Еврейские легенды (исра’илиййат) и морские сказки удовлетворяли до того времени потребности в подобной литературе; теперь к этому присоединились переводы с индийского и персидского языков, и в качестве главного произведения — «Тысяча и одна ночь», или, как ее тогда еще называли в соответствии с персидским заглавием,— «Тысяча сказок» (хазар афсана), хотя состояли они из неполных двух сотен рассказов, которые были растянуты на 1000 ночей[1789]. Те, кто привык к волнующей и вместе с тем изящной художественной прозе, находили манеру изложения «Тысячи и одной ночи» «сухой и холодной»[1790]. Великий виртуоз слова Абу-л-‘Ала весьма прохладно отзывается о «Калиле и Димне»[1791]. Однако новая неарабская мода была все же за чужеземное, и теперь вдруг даже ученые и видные писатели перестали считать ниже своего достоинства сочинение простеньких рассказов — лишь бы занимать читателя. Известный писатель Ибн ‘Абдус ал-Джахшийари попробовал свои силы на подражании «Тысяче и одной ночи», но умер на 480-й ночи. Примечательно, что он не придавал значения особенно для нас очаровательному обрамляющему рассказу, а давал в каждой ночи законченный рассказ. К этому же жанру относятся и занимательные книги кади ат-Танухи (ум. 384/994). И, наконец, наиболее выдающийся историк столетия ал-Мискавайхи (ум. 420/1029) написал книгу «Общество одинокого» (Унс ал-фарид) — «самую прекрасную из написанных когда-либо книг с краткими историями и тонкими анекдотами»[1792]. Это совсем иные по своему характеру сборники, чем более ранние сочинения Ибн Кутайбы и ал-‘Икд; в них впервые предстает в законченном виде стиль мусульманского, т.е. не чисто арабского, повествовательного искусства. Наряду с ними существовало огромное количество анонимных народных книг, рыцарских историй, таких, например, как история об ‘Урве ибн ‘Абдаллахе и Абу ‘Омаре-Хромом, книги острот и анекдотов, как, например, о Джухе — этом Уленшпигеле бедуинов, об Ибн Мамили — знаменитом певце, комические книги о «любовнике коровы», о «кошке и мыши»[1793], о птичьем помете, о «благоухающей», а затем множество любовных историй, и в первую очередь повести о великих поэтах, истории о мудрых и страстных женщинах. Большое место занимают истории, повествующие о любви между людьми и демонами[1794]. Историк Хамза Исфаганский говорит приблизительно в 350/961 г. о чуть ли не семидесяти занимательных книгах, которые широко читались в его время[1795]. Среди излюбленных в утонченном обществе — истории, которые сочатся слезливой сентиментальностью; успех имеют рассказы о племени ‘Узра, члены которого «умирают, когда полюбят», и бледные изможденные герои, у которых «от любовной тоски растворяются кости»[1796].
И на этом арабская проза остановилась и стоит по сей день.
Поэзия
Родиной новой поэзии были большие города Вавилонии, а ее родоначальником считается Башшар ибн Бурд из Басры (ум. 168/784)[1797]. Он был сыном землекопа (таййан), родился слепым, был большого роста и так крепко скроен, что его подымали на смех, когда он пел в одной любовной касыде о своем иссушенном любовью теле, которое может унести ветер[1798]. Перед тем как что-нибудь произнести, он хлопал в ладоши, откашливался, сплевывал направо и налево, а затем начинал[1799]. «В то время всякий влюбленный юноша и всякая любящая девушка распевали в Басре песни Башшара, и каждая плакальщица и каждая певица зарабатывали деньги его песнями и всякий знатный опасался его и боялся зловредности его языка»[1800].
Однако он отправился и в Багдад, где читал свои касыды перед халифом ал-Махди; говорят, что он сочинил их 12 тысяч[1801]. Пел он на чистейшем арабском языке, как какой-нибудь древний поэт; он читал свои стихи кочующим близ Басры бедуинам из племени Кайс ‘Айлан[1802]и настолько свободно чувствовал себя в самых темных закоулках своего родного языка, что филологи цитировали его как авторитет. Но все же это был старый стиль. Люди не нашли новых форм, да и вряд ли открыли новые сюжеты, как ни старались они вводить в поэзию вместо полевых цветов садовые[1803] или воспевать вместо диких ослов домашних коз, как это делал ал-Касим, брат знаменитого катиба Ибн Йусуфа[1804], или домашних кошек, как Ибн ал-‘Аллаф (ум. 318/930)[1805]. Новым было только одно — «остроумие»[1806] — продукт упадка культуры. Оно вторгается в арабскую поэзию в тот момент, когда суматоха больших городов начинает играть определяющую роль. Произошло то же, что и в прозе: прелесть интересного и занимательного убила вкус к песням древних бардов. В сфере прозаического жанра хвалили основателя нового стиля ал-Джахиза за то, что он чередовал серьезное и шутку, а в творчестве Башшара <ибн Бурда> — отца новой поэзии — филологу Абу Зайду также прежде всего нравилось его умение владеть и серьезным и шуткой, в то время как его старомодный противник годился только для чего-нибудь одного[1807]. Ал-Асма‘и также не мог нарадоваться многогранности Башшара[1808], а увлекающийся стариной Исхак ал-Маусили, напротив, был о нем высокого мнения и упрекал его за крайнюю неровность — возвышенное и неподобающее он дает рядом. Один раз называет он кости Сулаймы сахарным тростником, а если поднести к ним луковицу, то запах лука уступит аромату мускуса[1809]. Для древнего певца замысловатость была неестественна, однако она быстро распространялась и в III/IX в., поскольку речь шла о поэзии, лозунгом было «оригинальное» (бади‘) — лишь бы по-иному, чем другие[1810]. Один из главных поэтов этого времени — Ибн ал-Му‘тазз (ум. 296/909) написал даже об этом понятии целую книгу[1811]. Как и в каждой «замысловатой» поэзии, на первый план выступала абстракция; от стихов требовали значительности и всякого рода связей между стихом и образом. Отсюда и те идеи (ма‘ани), «которые Башшар ибн Бурд и его сторонники внесли как нечто новое и которые не приходили на ум ни одному поэту-язычнику или поэту мусульманину»[1812]. И в этом отношении Башшар стоял на высоте, «ибо он не принимал того, что давали ему природа и талант, а искал корни мыслей, рудники истин и изысканные сравнения и наступал на них своим сильным дарованием»[1813]. Особенно характерными для нового стиля считались стихи о любви его, слепца, к голосу одной из беседующих с ним женщин:
Я же ответил им: ухо так же, как и глаз, говорит сердцу о том, что перед ним.
Говорят мне: Пустое ты несешь о том, кого ты не видишь.
О люди, ухо мое любит одну из этого племени, а часто ведь ухо любит прежде глаз.
В другом месте он опростил, а вместе с тем усилил этот образ:
Что несешь ты пустое, ведь никогда ее ты не видал?
Я же сказал им: сердце видит, чего не видит взор[1814].
Обычно говорилось о щеках — как розы, теперь же один поэт приводит в восхищение своих слушателей тем, что, наоборот, сравнивает розу с «прильнувшими друг к другу щеками»[1815]. Высочайшей похвалы удостаивается стихотворение Ибн ар-Руми, т.е. сына грека (ум. 280/893), посвященное одному человеку, стригущему себе волосы на голове: «Его лицо растет за счет его головы, как летом день растет за счет ночи», причем ночь и день являются в данном случае намеками на черноту волос и белизну лица[1816]. Этот самый Ибн ар-Руми был настолько радикален, что объявил Башшара величайшим поэтом всех времен[1817], отчего у всех знатоков литературы его времени, пожалуй, волосы встали дыбом. Зато 200 лет спустя эстет Ибн Рашик (ум. 463/1071) провозгласил самого Ибн ар-Руми наиболее выдающимся поэтом нового стиля: «он делал прекрасным, что хотел», сказано у него как раз о приведенном выше стихе[1818].
У одаренных поэтов новый стиль способствовал значительному развитию естественного стремления к собственному ви́дению и собственному языку. Они никогда не должны были допускать небрежностей, не имели права копаться в удобных штампах. Этому стилю мы должны быть благодарны за такие сладкие, но без патоки, нежности, как небольшая элегия Башшара на смерть его дочурки:
О дочь того, кто не хотел иметь дочери! Тебе было всего лишь пять или шесть,
Когда ты отдохнула от дыхания. И сердце мое разорвалось от тоски.
Ты была бы лучше, чем юноша, который утром пьет, а вечером развратничает[1819].
В другом стихотворении — о расставании девушки:
Тогда зарыдала она, и слезы ее были белыми на ее щеках, на шее же — желтыми[1820].
Или выразительные образы, напоминающие наши народные песни, как у Абу Нуваса (ум. 195/810)[1821]:
Как кошка с мышью, любовь играла с моим сердцем[1822].
Или возвышенные образы у Ибн ал-Му‘тазза (ум. 296/909):
Раскат грома вдали, будто речь эмира к народу с вершины горы[1823].
Или:
Я вложил мою душу в упование на Аллаха, как вкладывают в ножны клинок, и она покоится в нем[1824].
Или в весенней песне, которая начинается словами: «Смотри! Идет весна, как для любовников принарядившиеся женщины», стих:
Показывается кровососная баночка желтого трюфеля, и повсюду на земле — торжество жизни[1825].
Или:
Он посетил меня в отороченной черным тьме, когда Плеяды висели на западе, как гроздь винограда[1826].
Или:
Против воли принужден я был остаться, как бессильный, когда на его шее виснет старая баба[1827].
Зачастую, однако, даже эти титаны были уж слишком оригинальны. Так, например, Абу Нувас говорит о покинутой девушке:
И слеза украшала ее. И из слез ее на щеке ее образовалась еще одна щека, а на шее — еще одна шея[1828].
Или:
Новый месяц подобен серпу, выкованному из серебра, который жнет нарциссы — цветы мрака[1829].
О радуге:
Руки облаков разостлали по земле серое покрывало,
А радуга вышивает по нему желтым, красным, зеленым и белым.
Она похожа на шлейф красавицы, которая входит в пестрых одеждах, из коих одна короче другой[1830].
Эти поиски необычного, остроумного проходят через всю поэзию IV/X в. Тенденция эта с большой силой побуждала все помыслы выискивать из сюжетного материала самое сокровенное и высматривать в нем наиболее невероятные странности. Прежде всего бросается в глаза, что поэзия должна была взять на себя вдобавок и роль изобразительного искусства, и многое в ней является, в сущности, затаенной живописью, вынужденной обращаться к слову. Возникает невероятная страсть к ви́дению, потребность на все смотреть через призму художественного и уяснить себе виденное через пластическое изображение. Этой страсти не знали истые арабы, но тем не менее исходившее от них новое направление вложило в руку народам совершенно другого склада вместо кисти художника калам поэта. А так как они стали отныне ведущими, то чрезвычайно разрослись описания (сифат), тот поэтический жанр, с которым Абу Таммам в седьмой главе своей антологии старейших поэтов разделывается всего лишь несколькими строками. Старые арабские поэты были очень скупы, особенно в описании пейзажа. Издавна пейзаж занимал место в застольной песне, сначала только при изображении пасмурной и дождливой погоды, когда особенное удовольствие доставляла чаша доброго вина. Более поздние поэты нашли тончайшие сравнения и для такого рода описаний. Например, Ибн ар-Руми:
Крытое облаками небо было подобно чернейшему шелку, а земля — как ярко-зеленая камка[1831].
А везир ал-Мухаллаби пел даже и так:
Небо было подобно вороному коню.
В давние времена предпочтительно предавались возлияниям ночью или рано утром, когда едва занималась заря, «когда кричал петух: Спешите на утреннюю попойку!»[1832]. В нескольких местах застольных песен Абу Нуваса, где всегда дана обстановка, мы постоянно находим такие обороты, как «утро разорвало покровы тьмы», или что-нибудь подобное этому[1833].
Почти сто лет спустя Ибн ал-Му‘тазз чаще всего дает вариации на эту тему:
Вставай, собутыльник, хлебнем-ка в потемках утренний глоток — вот-вот настанет утро.
Или оно уже настало,
И я вижу Плеяды на небе, белые, как обнаженная стопа, виднеющаяся из-под полы траурных одежд[1834].
Или:
Вокруг молодого месяца появился полный круг; он походит
Теперь на череп негра, обрамленный седой бородой[1835].
Однако как раз во времена Ибн ал-Му‘тазза уже отошли от описания этого странного для попойки часа. Сам он издевается над отсутствием настроения: «Когда стужу пробирает дрожь от ветра, слюна застывает на зубах, ругается слуга и наваливаются дела и заботы»[1836]. У него обычные для застольной песни чувства становятся более всеобъемлющими, и пирующий начинает наслаждаться также и зеленью сада, деревьями, розами, нарциссами, певчими птицами, а весной — «торжеством жизни»[1837]. А в первой половине IV/X в. два сирийских поэта, два друга, развили воспевание садов, их пестрых и нежных прелестей, подняв эти описания на недосягаемую высоту.
Мухаммад ибн Ахмад[1838] Абу Бакр, уроженец Антиохии, был библиотекарем у Сайф ад-Даула[1839]. Его прозвище ас-Санаубари указывает или на то, что он сам или его отец был торговцем сосной[1840] (но означает также и «шишка»[1841]), или могло быть кличкой, нацеленной на его фигуру. Второе его прозвище ас-Сини — «китаец» отнюдь не означает, что он сам побывал в Китае: в Куфе так называли, например, купца, занимающегося торговлей с Китаем[1842]. Умер он в 334/945 г.[1843], по крайней мере пятидесяти лет от роду[1844]. О жизни его мы знаем лишь, что был он связан дружбой с поэтом ал-Кушаджимом и был для него «безбрежным потоком благодеяний»[1845], что ал-Кушаджим просил у него руки одной из его дочерей[1846] и утешал, когда одна из его незамужних дочерей умерла[1847]. Воспевал он главным образом Алеппо и Ракку — обе резиденции Сайф ад-Даула, но жил также в Эдессе, где обыкновенно встречался в доме одного книготорговца с кружком сирийских, египетских и иракских литераторов[1848]. В Алеппо у него был свой сад с павильоном, где цвели всевозможные растения, деревья, цветы и померанцевые деревья[1849], что послужило поводом к прозвищу ал-Халаби. Его диван, который в свое время ас-Сули собрал в алфавитном порядке на 200 листах[1850], слишком молодой для Китаб ал-агани и слишком старый для Йатимы, был разрознен на мельчайшие фрагменты и нигде не представлен даже небольшой подборкой. Его остатки приходится собирать буквально по всем сочинениям.
О клумбе кроваво-красных анемонов, окаймленных бледно-розовыми розами, он писал:
Розы стоят вокруг анемонов в твоем роскошном саду,
Как лица людей, уставившихся на бушующий пожар[1851].
А также:
Когда красные анемоны колеблются {на ветру],
Подобны они яхонтовым знаменам на древках из смарагда[1852].
Весна в саду:
Встань, газель, и взгляни! Клумбы являют свои чудеса,
Их (прекрасные лица были закутаны, теперь же весна откинула покрывала.
Здесь есть розы, как щеки, и нарциссы, как глаза, что глядят на возлюбленного,
Анемоны, как красные шелковые плащи, испещренные черными письменами,
Кипарисы, подобные певицам, подобравшим до колен свои платья,
Один из них, покачиваясь от ветерка, похож на стройную девушку, которая в полночный час играет со своими подругами.
Легкий ветер заставил задрожать ручей и набросал в него листьев.
О, если бы у меня была власть охранять сады, то никогда не ступила бы на их землю нога низкого[1853].
Царем цветов считал он нарцисс — «веки из камфары, обрамляющие глаза из шафрана»[1854] — наиболее распространенный в Сирии цветок, который в пору цветения зачастую покрывает луга как бы белым ковром[1855]. Он воспел также и бой цветов, где роза, «самодовольно усмехающаяся» лилия, анемон, «на щеке которого как бы видны следы ударов», фиалка «в траурном одеянии» и гвоздика в качестве предводителя «в колыхании панцирей и окутанные клубами пыли» надвигаются на нарциссы, пока поэт, заботящийся о своих любимцах, умиротворив их, не соединяет всех их вместе в одном собрании, «где птицы и струны поют»[1856].
Уже в предыдущем веке ал-Бухтури воспел в стихах озеро в дворцовом парке халифа, где:
Изливаются гонцы воды стремительно, как кони, скачущие от стартового каната.
И кажется, будто чистое серебро стекает со спешащих по дорожкам копыт,
А ветерок выписывает на поверхности круги, подобные отполированным кольцам кольчуги.
А когда ночью в лоне его появляются звезды, его можно за небо принять,
И рыбы плавают в нем, как птицы в воздухе[1857].
Теперь и ас-Санаубари дает смелое сравнение, описывая парки Алеппо:
Его пруды — прозрачный воздух, только летают в нем вместо птиц рыбы,
но как певец садов, он добавляет:
И цветы стоят, как звезды, то в одиночку, то роями[1858].
Этот первый в арабской литературе поэт сельского пейзажа являлся одновременно и восторженным поклонником неба, воздуха и света, и глаза его замечали их нежные тайны.
Весенняя песня:
Когда летом есть фрукты и плоды, земля пылает тогда и воздух струится светом.
Когда осенью обирают пальмы, земля обнажена и воздух плотен,
А когда зимой беспрерывно льет дождь, земля — в осаде, а воздух — пленник.
Время только лучезарная весна: она приносит цветы и свет.
Тогда земля — яхонт, воздух — жемчуг, растения — бирюза и вода — хрусталь.
Он был первым, кто пел о снеге (салджиййат):
Позолоти [вином] твой кубок, мальчик, ибо этот день ведь как серебряный.
Воздух окутан белым и стоит, осыпанный жемчугом, как невеста на смотринах.
Ты считаешь, что это снег? Нет, это роза, трепещущая на ветвях.
Красочна роза весны, в декабре же она бела[1859].
Творчество ас-Санаубари оставило глубокий след в арабской литературе. Здесь в первую очередь надо назвать его земляка ал-Кушаджима[1860], который был с ним связан, «как вода с вином, как друзья, связанные клятвой и в счастье и в беде, трезвыми и опьяненными отдающиеся радости; на небосводе изящных искусств они были, как солнце и месяц, как лютня и флейта были связаны музыкой»[1861]. Его поэзия также бродит по тропе наслаждения созерцанием, которую проложил его более значительный друг:
Она пришла в голубом одеянии, того голубого цвета, который называется «струящаяся вода».
Она — полная луна, а луна прекраснее всего сияет на фоне краски неба[1862].
Девушку в фиолетовом траурном одеянии он называет «роза в фиалке», а о пораженном печалью юноше он говорит: «Он расцарапывал свою щеку, пока ее розу не скрыл в фиалке!»[1863].
Он воспевает в стихах Кувайк, реку Алеппо, протекающую среди смарагдовых лугов, струящуюся через красные анемоны и лилии, «подобно жемчужинам, катящимся с разорванной нити», «сверкая, будто индийские клинки то извлекают из ножен, то вновь прячут», в которой «лотос похож на светильник, который то загорается, то тушит его ветер»[1864].
Когда в Египет приходит Нил и прибывает в нем вода, ломая плотины,
И окружает селения со всех сторон, то подобен он небу тогда, где звездами — крестьянские дворы[1865].
Он также сочинял и «снежные песни», и одну из них он начинает такими словами:
Идет ли это снег или то льют серебро?
и ударяется в безвкусицу:
Земля-бела, как будто повсюду смеется она, обнажая белые зубы[1866].
У него также были страстные поклонники, один из которых пел:
Горе тому несчастному, если он не может поправиться от чаши вина, писем ас-Саби и песен ал-Кушаджима[1867].
В середине IV/X в. ал-Кушаджим был в Мосуле «цветом образованных». Поэты этого города — братья ал-Халиди и ас-Сари, как ни свирепо они враждовали между собой во всем прочем, единодушно и дружно следовали по стопам сирийского мастера, так что они не только похищали свои песни друг у друга, но ас-Сари включил в книгу песен Кушаджима лучшие стихи своих противников, «что давало ему право требовать больше за переписку и одновременно предоставляло возможность позлить братьев ал-Халиди»[1868]. Однажды в Мосуле эти поэты сидели вместе, как вдруг посыпал град, и градины покрыли землю. Тогда ал-Халиди бросил на покрытую градом землю померанец и предложил описать эту картину. Ас-Сулами (ум. 394/1004) тотчас же начал декламировать: ал-Халиди «положил щеку на зубы»[1869].
Один из братьев ал-Халиди так воспел занимающуюся зарю:
Подобны лилиям на лугах фиалок звезды на небосводе.
Джауза (Орион) шатается во тьме, как пьяная,
Она прикрылась легким белым облачком, из-за которого она то манит, то стыдливо за ним скрывается.
Так красавица из глубины груди дышит на зеркало, когда красота ее совершенна, но она еще не замужем[1870].
Или:
Желтое вино в чаше голубого стекла, поднесенное белой рукой:
Солнце — этот напиток, звезды — пена его, земная ось — это рука, а сосуд — небо[1871].
В Багдаде поэтическую манеру ас-Санаубари распространял поклонник вина и природы везир ал-Мухаллаби, который, будучи сам незаурядным поэтом, собирал в своем доме широкий круг литераторов. Обычно, как об этом повествует ас-Сахиб в своем дневнике путешествия в Багдад, ал-Мухаллаби в своих стихах уделял много строк ас-Санаубари и его школе[1872]. Он дошел даже до того, что в Багдаде, где снег считается одним из чудес света, подражал снежным песням своего учителя:
Снег сыплется, как конфетти, пойдем и порадуем себя чистой, несмешанной дочерью лозы[1873].
Несомненным влиянием школы ас-Санаубари следует также считать и стихи кади ат-Танухи, из круга ал-Мухаллаби, в которых он воспевает девушку в огненно-красной одежде:
Или такие стихи:
Нет! не забыл я Тигр: спустилась тьма, заходит луна,
А река стала синим ковром, расшитым золотом[1875].
А когда Сайф ад-Даула, правитель Алеппо, сравнивает тлеющий под пеплом огонь с залитой краской стыда щекой девушки, спрятавшей лицо под серым покрывалом[1876], то видит он этот образ глазами ас-Санаубари. Равно как и ал-Васики в Туркестане, когда он так воспевает занимающийся огонь древесного угля:
Черный янтарь в оправе из червонного золота, и в нем голубой лотос[1877].
Когда в конце столетия Ибн ‘Аббад воспевал в Хорасане зиму такими словами:
Неужели ты не видишь, как декабрь сыплет свои розы, как мир подобен куску камфары,
то ал-Хваризми прекрасно понимал, что все это восходит к ас-Санаубари[1878]. В Египте примерно в 400/1009 г. поэтическую манеру ас-Санаубари представлял ал-‘Укайли: «Он имел сады на острове Старого Каира, не шел на службу к правителю и никого не восхвалял»[1879].
Рука ветра бросила в ручей пылающие анемоны,
И под их краснотою сверкающая вода уподобилась клинку меча, по которому струится кровь[1880].
Слуховые восприятия совсем отступают на задний план. Так, ас-Сулами (ум. 394/1004), описывая огромную плотину в Ширазе, ни единым словом не упоминает о шуме воды[1881]. Один-единственный пример подобного рода я нашел в стихе буидского эмира ‘Изз ад-Даула, где рассказывается о пирушке на берегу Тигра:
И вода плескалась среди ветвей, как певцы, пляшущие вкруг флейтиста[1882].
К концу века для удовлетворения запросов нового стиля привлекаются крайне далекие друг от друга сюжеты, например капель с крыши и собственное изображение в зеркале[1883]; ал-Ма’муни в Бухаре описывает целую кладовую съестных припасов: сыр, оливки, жареную рыбу, горчичный соус, яичницу[1884]; другой поэт воспевает стоящую посреди пруда свечу и сравнивает фонтан, струя которого играет красным яблоком, со стеклянной трубкой, в которой прыгает шарик из красного рубина![1885] Египтянин ‘Абд ал-Ваххаш ибн ал-Хаджиб (ум. 387/997) обращается к образу двух больших пирамид:
Как будто земля, изнемогая от жажды и томления печени,
Обнажает обе груди, и они, выдаваясь вперед, взывают к Аллаху из-за разлуки с ребенком.
И тогда дарит ей Аллах Нил, который щедро поит ее[1886].
Лишь в IV/X в., что очень знаменательно, в арабской поэзии отводят место и для бродяг:
Им принадлежат Хорасан и Касаи вплоть до Индии,
Вплоть до страны ромеев, до негров, булгар и Синда.
Когда путники и воины находят дороги трудными
Из страха перед бедуинами и курдами,
То мы, приплясывая, проходим по ним без меча и без ножен[1887].
Вместе с ними в поэзию проникает свежая и свободная песня, простая и не претендующая на замысловатость лирика. Их главным певцом считался ал-Ахнаф из ‘Укбары в Вавилонии. В его застольной песне нет и следа любования утехами жизни:
Я пил [читай: шарибту] в одном кабачке под тамбурин и цитру,
Гремел барабан курдумта‘, а флейта — тилири.
Тесно прижатые друг к другу, как в хлебной печи, сидели мы
И лупили друг друга до тех пор, пока не становились слепыми или одноглазыми,
А наутро у меня было похмелье, да еще какое![1888]
Воспевал он в своих стихах также и жалкое положение бродяг:
Несмотря на слабость, паук построил себе дом, чтобы укрываться в нем — у меня же нет родины.
Навозный жук имеет поддержку от своего рода — у меня же нет ни любви, ни поддержки[1889].
Здесь нет ни фокусов, ни сентенций! Это та линия, которая во французской поэзии идет от Вийона к Верлену, и к ней относятся Мухаммад ибн ‘Абд ал-‘Азиз из Суса, который в стихотворении, насчитывавшем свыше 400 строк, описал, как он переменил веру, секту и ремесло, начав его такими словами:
Нет счастья у меня, и платьев нет для сундука![1890]
К этому же направлению принадлежат также и народные поэты крупных городов Вавилонии такие, как Ибн Ланкак в Басре, «песенки которого редко были больше двух-трех стихов и которому редко удавались его касыды»[1891], Ибн Суккара, который, как говорят, сочинил свыше пятидесяти тысяч стихов, из которых свыше десяти тысяч посвящены чернокожей певице ал-Хамре[1892], и, наконец, стоявший много выше всех остальных Ибн ал-Хаджжадж в Багдаде (ум. 391/1001)[1893]. Он был тщедушного телосложения:
Не бойтесь за меня из-за моей узкой груди — ведь мужчин меряют не на четверики[1894].
Однажды он был вынужден защищаться в стихах, так как сбежал от своих кредиторов:
Некоторые говорят: Сбежал низкий, а был бы мужчиной, пожалуй, остался бы.
Не браните, не браните его за бегство! Ведь и пророк бежал в пещеру[1895].
К этому же, отнюдь не славному периоду его жизни относятся, вероятно, и следующие гордые строки:
Когда поутру я их восхвалял — они не благодарили, а когда я вечером их поносил, они не обратили внимания.
Я вырубаю рифмы из их каменоломен, а понимают ли их эти скоты — это не мое дело[1896].
Его опасались из-за злого языка, но вместе с тем он пользовался уважением, был богат — «грязь приносит мне деньги и почет», говорил он сам[1897]; ему удалось стать откупщиком налогов и в конце концов даже промысловым инспектором (мухтасиб) в столице. Из-за всего этого ему отчаянно завидовал его менее удачливый собрат по перу Ибн Суккара[1898]. В своих песнях он охотно употреблял выражения бродяг и жуликов[1899]. Вместе с ним и его сотоварищами поднимает голову столь отвратительная для нашего уха скабрезность восточных горожан, которая под воздействием арабской поэтической манеры, где задавали тон много более целомудренные бедуины, в литературе была оттеснена на задний план[1900]. Ибн ал-Хаджжадж расправляет плечи, как бы освободившись от чужеземного ига, и хвастается своим «легкомыслием» (сухф). В основе его вольностей, переходящих все границы, кроется также великое желание противопоставить себя слащавым рифмоплетам:
Легкомыслие моих стихов тоже необходимо, а поэтому мы остроумны и бесстыдны.
Может ли дом обойтись без отхожего места, [чтобы разумному возможно было в нем пребывание]?
Когда я молчу — я лавка благовоний, но когда пою —- идет пар из отхожего места.
Я чистильщик уборных, а стихи мои — клоака[1901].
Вот из-за этого-то в более позднем полицейском руководстве запрещалось читать с мальчиками стихи этого поэта[1902], однако в глазах его современников вся эта грязь, кажется, мало ему вредила. Высокопоставленный сановник империи Аббасидов, накиб алидской знати ар-Рида был ревностным поклонником Ибн ал-Хаджжаджа, оплакивал его кончину в своей элегии и составил сборник избранных его стихов. Фатимидский халиф в Каире купил его сочинения, в которых, правда, поэт восхвалял его, за 1000 динаров[1903]. Довольно часто изъявляли желание приобрести его диван за 50-70 динаров[1904], а ал-Хаукари, придворный певец Сайф ад-Даула в Алеппо, просил иракского поэта сочинить ему стихи, которые он мог бы петь своему повелителю[1905]. Сам Ибн ал-Хаджжадж говорил:
Если бы поэзия моя была серьезной, то увидал бы ты, как в ней блуждают ночные светила,
Но она — лишь распутные шутки и касается вещей обыденной жизни (ма‘аш)[1906].
Проделывает он все это с неслыханной легкостью языка, называет все вещи своими именами, ему незнакомы трудности размера и рифмы, так что его диван дает множество обычно неизвестных слов, заимствованных из обиходной речи жителей Багдада IV/X в.[1907] На традиционные поэтические шаблоны он смотрит лишь как на предмет пародии, как, например, в стихотворении на смерть Сабуктегина:
Пусть постоянно орошается отхожее место, где он похоронен, дождем, изливающимся из животов[1908].
Но сквозь грязный туман то тут, то там действительно можно узреть блуждающие ночные светила, и тогда становится понятно, что его современники считали этого похабника великим поэтом.
В противоположность этим поэтам ал-Мутанабби, также родом из Вавилонии, но выросший в Сирии, придерживается арабской поэтической традиции[1909]. Те, кто воспевает, что с ними случается в жизни,— реалисты, он же — академик, которого пленяет всеобщее. Однажды он был приглашен принять участие в охоте с особо смышленой собакой, которая загоняет газель без помощи охотничьего сокола,— он должен был потом воспеть ее в стихах. Но он заявил, что это можно сделать и сейчас, без участия в охоте, и просто воспел в стихах быструю собаку в обычной для того времени манере[1910]. Единственным современным ему поэтом, о котором он отзывался одобрительно, был Ибн ал-Му‘тазз[1911]. Иракские поэты учуяли в нем врага, и как Ибн Суккара и Ибн Ланкак[1912], так и Ибн ал-Хаджжадж[1913] зло издевались над ним. Мы располагаем пышущим злобой отчетом о столкновении сирийского придворного поэта с литераторами Багдада. Там описывается, как высокомерно он выступал, облекшись для придания важности своей персоне, несмотря на дикую жару, в семь надетых один на другой пестрых халатов, но в конце концов все же вынужден был признать себя побежденным перед неким багдадским критиком[1914].
Сириец Абу Фирас (ум. 357/968) тоже последовательно придерживался старого направления. Больше всего удивляет в его творчестве, как мало он смог или пожелал отразить в своих песнях бурные военные события на западной границе империи. Казалось бы, племянник хамданидского эмира должен был в то время многое пережить, пусть даже значительная часть его «похвальбы» — поэтический вымысел, а не правда. Но тот, кто ничего не знает об этих событиях, так и не узнал бы из его стихотворений о том, что сирийцы и греки, мусульмане и христиане внушительными военными силами вели друг против друга войну, используя все виды военного снаряжения и вооружения своей эпохи. Его песни с таким же успехом могли бы относиться и к распрям между двумя племенами бедуинов. Песни, относящиеся ко времени его заточения в греческой тюрьме, также производят на меня впечатление рифмованной прозы, и если такие писатели, как ас-Сахиб и ас-Са‘алиби, безмерно их восхваляют, то это только лишнее доказательство того, что грань между писателем и поэтом была стерта.
Шариф ар-Ради, родившийся в 361/970 г. в Багдаде, насчитывал едва тридцать лет от роду, когда умер Ибн ал-Хаджжадж. Он составил сборник избранных произведений Ибн ал-Хаджжаджа и сам был поэтом[1915]. Однако он был слишком важным господином, и его родословная была слишком длинна, для того чтобы он, подобно Ибн ал-Хаджжаджу и вопреки всякой традиции, позволил себе спуститься в пучины жизни. Уже его отец был накибом всех потомков ‘Али, а после его смерти в 400/1009 г. сын унаследовал все его почести и должности, несмотря на то что был младшим сыном. Дом свой он держал на широкую ногу, содержал частную академию, в которой ученые жили и работали за его счет, и был знаменит тем, что никогда не принимал подарков, даже и от везира. Высокомерен он был и как судья подчиненных ему Алидов. Одна женщина из рода ‘Али подала жалобу на своего мужа, который проигрывал все свое имущество вместо того, чтобы заботиться о жене и детях. Когда свидетели подтвердили ее показания, шариф велел привести этого человека и всыпать ему палок. Женщина ждала, что битье приостановят, но удары продолжали сыпаться, и вот уже сотый удар — тогда она закричала: «Сиротами, что ли, станут мои дети? Что же с нами будет, если он умрет?». В ответ на ее вопль шариф произнес: «А ты думала, что подала на него жалобу школьному учителю?»
Он был первым из знатных Алидов, даже внешне отказавшимся от продолжения фронды, сменив белые одежды, которые носили его отцы в равной мере и с гордостью и с печалью, на черную форму аббасидского придворного и чиновника[1916]. Сам он объяснял свою скромность меланхолией:
Я хотел бы оправдаться перед мужами, которых я сторонюсь: я сам себе больше враг, чем все люди, взятые вместе.
Если сам муж не принадлежит своим друзьям, то не следует ему страстно желать, дружбы других.
Они говорили: Утешься, ведь жизнь это только сон,
Когда он окончится, исчезнут заботы, о путник, блуждающий в ночи.
Если бы это была сладкая дремота, я бы вознес ей хвалу,
Но ведь это исполненный ужасов беспокойный сон[1917].
С уст этого по-настоящему благородного человека ни разу не сорвалось вульгарное или грубое слово, какие мы слышали от государственного секретаря Ибрахима ас-Саби, везиров ал-Мухаллаби и Ибн ‘Аббада. Даже и в стойком жанре сатирического стихотворения, в котором все прочие поэты считали допустимыми самые невозможные выражения, наиболее крепки следующие строки:
Когда он выступает, то смыкаются веки, а уши блюют от его пения.
Охотнее твоего пения внимаем мы рыку дерущихся львов[1918].
В том, что именно такой человек взял на себя труд выбрать из произведений Ибн ал-Хаджжаджа немногие лишенные непристойностей стихи и сочинил элегию на его смерть[1919], большая честь для обоих поэтов. Кроме того, надо сказать, что ар-Ради и в остальном значительно больше стоит на стороне ал-Мутанабби, комментатор которого — Ибн Джинни был, между прочим, его учителем. В течение своей жизни ар-Ради сочинял стихи на все темы, предусматриваемые ставшей издавна традиционной программой любого тогдашнего поэта старой школы: поздравительные стихи к Новому году, к Пасхе, рамадану, по случаю завершения месяца поста, к Михриджану, по случаю рождения сына или дочери, хвалебные песни, обращенные к халифам, султанам и везирам, оплакивал в стихах важных и близких ему покойников, и в первую очередь Хусайна ко дню годовщины его смерти — 10 мухаррама (‘ашура); он воспевал в стихах свой дом и свое благородное происхождение, жаловался на мир и сетовал на старость, причем последнее, в соответствии с общепринятой традицией,— еще будучи молодым человеком. К счастью, уже между двадцатью и тридцатью годами, когда он, исполняя данный им обет, стриг себе на лбу волосы, то уже находил у себя седину, и это дало ему по крайней мере персональное право сетовать на старость[1920]. В истории литературы ар-Ради отмечен как мастер элегии[1921]. Но и в этом жанре он придерживается строгой стилизации, невероятно скупо описывая подробности каждого единичного случая. Так, когда в 392/1002 г. ар-Ради потерял своего учителя и друга, грамматика Ибн Джинни, он начинает свою элегию жалобой на бренность существования:
Мы как щепки, которые бросает из стороны в сторону бурный поток,
Что несет вдаль свои воды между холмом и песчаной пустыней.
Затем следует довольно длинное «ubi sunt»[1922]: «Где теперь древние цари?», а потом упоминание об особой одаренности умершего:
Кто предпримет теперь попытку напоить строптивых верблюдов речи, кто метнет слово, как пронзающую стрелу?
Когда он звал слова, они оборачивались к нему, покорно склонив шеи, как верблюды к погонщику своему.
Он пас слова с такими же гладкими боками, как у отборных коней из племени знаменитых скакунов ваджих и лахик.
Его тавро держалось дольше на их бабках, нем тавро у верблюдов.
Кто будет лучше владеть значениями слов, которые мешками
Бросают к ногам разоблачающего и раскрывающего их тайны?
Кто сможет с твердым умом охотиться в их недрах и проникать в их теснины?
Не споткнувшись, взобрался он на их высочайшие горы и преодолел их самые скользкие места, ни разу не поскользнувшись[1923].
На этом заканчивается все, что имеет отношение к личности покойного, и вся остальная часть элегии могла бы относиться к любому другому. Несмотря на то что он был жителем столичного города и мирным ученым, он выходит за рамки городской жизни и постоянно вводит в свои стихи рыцарскую романтику бедуинской жизни с войнами, пустыней, верблюдами и благородными конями. И все же кое-что в этих стихах пережито им самим, глубоко прочувствовано и своеобразно выражено, так что сквозь плавно катящиеся стихи проступает ученик Ибн ал-Хаджжаджа. Особенно блестящей была касыда, которую он произнес во время торжественного приема, устроенного халифом по случаю прибытия паломников из Хорасана. Первые строфы в могучем звучании поют об опасностях хаджа и печальном конце, ожидающем отставших:
Для кого колышут паланкины верблюды, для кого караван то плывет над миражем, то погружается в него,
Для кого он пересекает широкие реки и рвение гонит этих животных из Сирии и из Вавилонии?
Как много отстало узников, которых не освободят из их темницы, и не один был заблудившийся, который никогда не придет к цели,
Кого день бросал туда и сюда! Он замигал, обильней слезы заструились, и поник он головой![1924]
Одна из наиболее удавшихся ему песен дает образ прекрасной женщины, совершающей путь в караване, идущем в ночи:
Опустились [на землю] покрывала и кромки ночи,
Тогда появилась она из отверстия паланкина, а песнь погонщика неслась над долиной,
И люди, чьи головы поникли в последнем мгновении захмелевшего бодрствования,
Выпрямились в своих седлах и следили взорами за светом.
Мы недоумевали. Тогда я сказал им: Нет, это не месяц взошел[1925].
Так в IV/X в. стояли они рядом: ас-Санаубари и ал-Мутанабби, Ибн ал-Хаджжадж и ар-Ради; каждый из них представляет в своей области вершину, которая с высоты взирает вдаль на все грядущие поколения арабской литературы.
Весьма отчетливо видно развитие мысли в географии. Правда, в этой главе будет уделено внимание лишь литературной стороне этой науки[1926].
География — плод Ренессанса III/IX в. У самых истоков ее развития стоят относящиеся приблизительно к 200/815 г. работы ал-Канди[1927], который был одним из главных передатчиков греческой науки. Далее идет. «Книга путей», которую Ибн Хордадбех составил около 232/846 г., по его собственному высказыванию, в основном по Птолемею[1928]. В 332/943 г. ал-Мас‘уди считает ее лучшей книгой по географии[1929], однако ал-Мукаддаси (писал в 375/985) она уже кажется слишком краткой, чтобы приносить большую пользу[1930]. Ал-Мукаддаси упрекает последователя Ибн Хордадбеха, ал-Джайхани (конец III/IX в.), который усердно списывал у своего учителя, за то что он то дает сугубо научные астрономические и технические сведения, непонятные простому читателю, то вдруг описывает идолов Индии и чудеса Синда, за то что его книга приводит только маршруты, а не описания. Ал-Балхи пропускает много крупных городов, сам не путешествовал, и его введение неудовлетворительно. Напротив, Ибн ал-Факих (конец III/IX в.) упоминает только крупные города, вводит в свою книгу много всяких не подобающих для наук вещей и заставляет то плакать, то смеяться[1931]. И действительно, между описаниями Йемена и Египта он ищет отдохновения в двух главах: «От серьезного к шутке» и «В похвалу друзей». Описание Рима он использует как повод, чтобы завести речь о достоинствах и недостатках архитектуры, чтобы затем сказать и о любви к родине. В сочинении Ибн Руста больше всего привлекает описание чудес и диковинок в разных странах мира: в Южной Аравии, Египте, в Константинополе, Индии, у мадьяр и славян. Ал-Хамдани (ум. 334/945) описывает Аравию как филолог, а Кудама (ум. 310/922) дает описание мусульманской империи и ее соседей в руководстве для правительственных чиновников.
Первым, кто поставил арабское страноведение на собственные ноги и обратил его к собственным интересам, был ал-Йа‘куби (конец III/IX в.)[1932]. «Юный годами отправился я путешествовать и с тех пор постоянно находился в пути и на чужбине». Он видел собственными глазами всю империю; побывал в Армении, Хорасане, в Египте и на Западе, даже в Индии. Неутомимо расспрашивал он людей, «как совершая хадж, так и не во время хаджа», о землях и городах, о расстояниях между станциями, о жителях, земледелии и орошении, об одежде, религии и системе обучения. «Я долгое время работал над этой книгой, подбирал сведения по городам и сводил воедино все, что я слышал от надежных людей, с тем, что мне было известно раньше»[1933]. Он дает хорошо систематизированное описание империи начиная от Багдада с достойной восхищения достоверностью. К сожалению, ему не пришло в голову написать о своих собственных путевых впечатлениях, ибо в то время сам человек еще не казался настолько интересным. Мало уделял этому внимания и ал-Мас‘уди (писал ок. 333/944), любознательность которого завела его еще дальше — в Африку и Китай, но все же он уже вводит в свои исторические труды довольно много личных путевых впечатлений, отчего ал-Йа‘куби воздерживался с большой строгостью. Сочинения ал-Мукаддаси и Ибн Хаукала являются для IV/X в. высшей точкой в развитии арабского страноведения.
Оба они дали себя увлечь потоку мусульманской бродячей жизни, и этот поток занес их очень далеко. Ал-Мукаддаси испытал все, что только может выпасть на долю путешественника во время его странствий, за исключением нищенства и совершения тяжкого греха (рукуб ал-кабира), и израсходовал на свои путешествия 10 тыс. дирхемов[1934]. Ибн Хаукал также видел своими глазами все, за исключением западной Сахары[1935]. Оба они ограничились в своих описаниях исключительно империей ислама (мамлакат ал-ислам), особенно ал-Мукаддаси, потому что он никогда не выезжал за ее пределы[1936], настолько личные наблюдения были для него важнейшей основой его труда. Однако оба они знали также и специальную литературу предмета: ал-Мукаддаси оценивает ее коротко и ясно[1937], а Ибн Хаукал «прочитал все известные и знаменитые книги, но не нашел ни одной, которая бы удовлетворила его потребность в познании порядков и обычаев в империи. Он никогда не расставался с книгами Ибн Хордадбеха, ал-Джайхани и Кудамы»[1938]. Оба они считали, что язык их книг должен быть более разработан и более изящен, чем у авторов, писавших ранее, и мастерски направляли язык на достижение своих целей, причем Ибн Хаукал достигал этого более легко, чем ал-Мукаддаси. Ал-Мукаддаси платит дань схоластике своего времени, что выражается в том, что он уделяет чересчур много внимания распределению материала[1939], а также, ссылаясь на Коран, доказывает, что имеются всего лишь два моря[1940]. Он приложил к своему сочинению карту, которая не сохранилась: на этой карте дороги были нанесены красным, пустыни желтым, моря зеленым, реки синим цветом, а горы были присыпаны пылью[1941]. Такие карты он видел уже в труде ал-Балхи (ум. 322/934), одну — в библиотеке саманидского правителя в Бухаре, одну — в Нишапуре, одну — в библиотеке ‘Адуд ад-Даула и ас-Сахиба, а кроме того — морские карты в руках арабских моряков[1942]. По его просьбе старшина купцов в Адене рисует ему на песке Индийский океан с его заливами и бухтами[1943]. Один врач из Иерихона поучал его: «Видишь ты эту долину? Она тянется к Хиджазу, затем — к Иемаме, далее — к Оману и Хаджару, мимо Басры и Багдада, подымается кверху, оставляя Мосул справа, до Ракки, и это — долина жары и пальм»[1944]. А Ибн Хаукал даже рассуждает о взаимосвязи полосы пустынь, простирающихся от Марокко до Китая[1945], а также высказывает мысль, что китайские горы продолжаются в тибетских, персидских, армянских и сирийских горах, в горе ал-Мукаттам <близ Каира.— Д. Б.> и в цепи гор Северной Африки[1946]. Из обоих этих сочинений более поздние арабские географы чаще брали за образец труд Ибн Хаукала[1947]. Надо сказать, что обе эти работы были более критичны, чем, например, более поздний ал-Идриси, который списывает сведения из «Книги чудес» Хассана ибн ал-Мунзира[1948], в то время как ал-Мукаддаси и Ибн Хаукал отнеслись бы к нему с презрением.
Бурно растущая научная любознательность простиралась в IV/X в. во все стороны: у моряков выведывали их опыт и сказки об Индийском океане и о Китае[1949]; приблизительно в середине III/IX в. халиф отправил сухопутную экспедицию к Великой Китайской стене[1950]; Ибн Фадлан описал свое путешествие, предпринятое им в 309/921 г. к волжским булгарам[1951]; Абу Дулаф рассказал о своем путешествии (ок. 333/944) в Центральную и Восточную Азию[1952]. Приблизительно в то же самое время ал-Истахри, пользуясь сведениями, сообщенными ему одним проповедником из Булгара на Волге, рассказывает, что летом ночи на Волге так коротки, что за ночь можно пройти лишь один фарсах, а зимой, наоборот, дни очень коротки[1953]. «Путешественники на Запад» отплывают из Лиссабона «исследовать океан и насколько он простирается»[1954]. Автор Фихриста в 377/987 г. получал приводимые им сведения о Китае у одного несторианского[1955] монаха, который вместе с пятью другими был послан католикосом в Китай и прожил там семь лет[1956]. Купцы приносили известия о Германии и Франции. В 375/985 г. некий ал-Мухаллаби пишет для фатимидского халифа ал-‘Азиза дорожный справочник, который впервые приводит более точные сведения о Судане, о котором другие географы того века знали еще очень мало[1957]. Испанский географ Мухаммад ат-Та’рихи (ум. 363/973) описывает Северную Африку[1958], а му‘аллим Хавашир ибн Йусуф ал-Арики, который в 400/1009 г. совершил путешествие вдоль нубийского побережья Африки и дальше на юг на корабле индийца Дабанкоры[1959], заложил основу разработанной в VI/XII в. морской карты (рахмани)[1960].
Около этого времени в связи с военными походами, предпринимаемыми из Газны, ал-Бируни написал первый и единственный специальный труд об Индии. Он упрекает индийцев за то, что они сочиняют свои книги недостаточно строго и методично, постоянно позволяют себе отступления и чисто детские наивности, смешивают «драгоценные кристаллы с простой галькой»[1961]. Так, как пишут индийцы, писали ал-Джахиз и ал-Мас‘уди. Этот упрек ал-Бируни свидетельствует о прогрессе и сосредоточении сил в арабской литературе.
В самом сокровенном религиозном сознании ислама со вступлением в III/IX в. также ощущается тяга к новым духовным потребностям. Древние религиозные верования и прежде всего христианство, иными словами, христиански перекрашенный эллинистический мир, где-то в недрах общества постоянно подстерегавшие удобный случай, тотчас предложили свои услуги. Движение, которое на протяжении III и IV вв. преобразило ислам, являлось в сущности не чем иным, как вторжением целого потока христианских идей в религию Мухаммада[1962]. Новый религиозный идеал называется отныне «познание Аллаха» (ма‘рифат Аллах), что для Мухаммада было бы явным кощунством. А было это, даже судя до названию, всего лишь древней гностикой, которая вновь ожила на своей родине и на протяжении этих двух столетий начала господствовать во всех областях духовной жизни. В лагере свободомыслящих она проявляется в виде рационализма и научного богословия, в прочих же кругах — в форме мистики, которая также в данном случае отчетливо обнаруживает доказуемое, невзирая на все превратности мировой истории, кровное родство с рационализмом. Ибо мистика — это тоже наука, и ее противоположностью было не научное познание, а лишенное умозрительности, обусловленное экзальтацией, полнокровное учение пророка, который жил своей верой. Вновь появляются на сцене все характерные признаки былой гностики: эзотеризм, институт мистерий, ступени познания, теория эманации божества, параллелизм двух миров, былая, переходящая по наследству мудрость древнего Вавилона, колебания между аскетизмом и либертанизмом, концепция спасения души как некоего «пути». Древнейшие из сохранившихся до наших дней суфийских сочинений, как, например, труд ал-Мухасиби (ум. 234/848), весьма отчетливо свидетельствуют о сильном христианском влиянии. Одно открывается притчей о сеятеле, другое можно назвать расширенной нагорной проповедью[1963]. Один из старейших отцов суфизма — ал-Хаким ат-Тирмизи (ум. 285/898) ставил Иисуса выше Мухаммада[1964]. Никогда за время своего существования мусульманская империя не была так «полна богами», как в это время, и никогда так не стиралась граница между Аллахом и его рабом. Суфии открыто признавали возможность познания божества, вплоть до слияния с ним. Ал-Хулули видел Аллаха, шедшего в сандалиях по рынку Иоанна в Багдаде[1965]. А в махдитских кругах обыгрывали идею божественности «имперского правителя», как никогда ни до, ни после этого[1966]. Обращаясь к приближенному Фатимида ал-Му‘изза (341—365/952—975), несущему над халифом зонт, поэт Ибн Хани’ воскликнул:
О ты, вертящий зонт, куда он (т.е. халиф) ни повернет,— это же ужасно,
Как ты касаешься Гавриила под стременем его!
А когда этот же халиф избрал своей резиденцией местечко Раккада под Кайраваном, то этот же поэт пел:
Мессия водворился в Раккаде, Адам и Ной там остановились,
Аллах, слава ему, ведь кроме него все остальное — ветер, там поселился[1967].
А в конце этого периода халиф ал-Хаким занимает такое положение, что до сих пор почитается друзами как божество.
Первые суфийские общины появляются приблизительно в 200/815 г., и притом в Египте — в колыбели христианского монашества. «В 199/815 г. в Александрии выступила партия, именуемая суфиййа, которая приказывала делать то, что, по ее мнению, угодно Аллаху, и при этом оказывала сопротивление правительству. Ее предводителя называли ‘Абд ар-Рахман Суфи»[1968]. Этим же именем называет Ибн Кудайд (ум. 312/925) группу людей, «которые велели делать лишь угодное Аллаху и запрещали то, что заставляет его гневаться»; они пользовались благосклонностью египетского кади Ибн ал-Мункадира (212—215/827—829), мешали ему в его работе и в конце концов послужили причиной его гибели из-за их оппозиции к наследнику престола[1969].
Таким образом, это были активные верующие, которые со всей серьезностью воспринимали исконные обязанности всякого добропорядочного мусульманина: ревностно вмешиваться в жизнь общины. Название суфий впервые стало известным именно благодаря этим общинам: «Тех, кто оберегал сердца свои от путей легкомыслия, называли суфиями, и это название распространилось еще до 200 г.»[1970]. Эти общины вначале не имели ничего общего с более поздним суфизмом. Однако в Египте еще Епифаний в IV в. н.э. сетует на «пышное дальнейшее существование блудливых гностиков»[1971], учение которых в конце концов нашло прибежище в суфийских общинах. Еще Р. А. Никольсон указывал на египетского алхимика Зу-н-Нуна (ум. 245/859), который оказал большое влияние на учение суфиев[1972]. И действительно, многие из ранних суфийских главарей Востока находились под влиянием Египта[1973], лишь «когда умер аз-Заккак, для дервишей перестал существовать повод совершать путешествия в Египет»[1974]. Развилось, однако, это учение на Востоке, главным образом в Багдаде, и развитие его шло вперед быстрыми шагами[1975]. Первым суфием столицы был ас-Сари ас-Сакати (т.е. старьевщик), умерший в 253/867 г. Он был торговцем, но отказался от своей лавки и жил дома[1976]. Славы он достиг, пожалуй, благодаря тому, что был первым в Багдаде, кто говорил о монизме (таухид) и о сокрытых истинах религии (хака’ик)[1977]. Говорят, что он первый учил о «стоянках» (макамат) и «состояниях» (ахвал)[1978]. Говорят также, что первым, кто стал употреблять мистическую терминологию — содружество, чистота мышления, объединение стремления, любовь и страдания,— был Мухаммад ибн Ибрахим Абу Хамза ас-Садафи, умерший в 269/882 г. Он был учеником Ахмада ибн Хаукала, который обращался к нему: «О суфий!»[1979]. Его современник Тайфур ал-Бистами, по всей вероятности, внес аллегорию «упоения» («опьянения»), которая наряду с аллегорией любви пользовалась наибольшим успехом в мусульманской мистике[1980]. Со слов ‘Али ибн ал-Муваффака (ум. 265/878) передают молитву, в основе своей глубоко чуждую духу ислама: «О Аллах, если я служу тебе из страха перед адом, то покарай меня адом; если я служу тебе из стремления попасть в рай, то лиши меня этой возможности, но если я служу тебе из чистой любви, тогда делай мне, что тебе угодно»[1981].
Далее идет багдадец Абу Са‘ид ал-Харраз (ум. 277/890), ученик египтянина Зу-н-Нуна, который первым стал проповедовать самоуничтожение, полное растворение в божестве (фана), нечто исконно гностическое, но не имеющее ничего общего с индийской нирваной[1982]. В Нишапуре Хамдун ал-Кассаб («мясник») (ум. 271/884) первым вступил на «путь порицания» — он предпочитал, чтобы на его репутацию была брошена тень, чем из-за почестей быть отвращенным от Аллаха[1983]. Позднее из этого развилась странная школа маламатие — школа «дурных святых». Но и это ведь не новая идея: Платон в своей «Республике» (начало 2-й книги) описывает истинного проповедника, который, по его мнению, должен быть жертвой несправедливости. Таким образом, суфийские общины целиком и полностью отклонились от своего старого пути. Если раньше они в религиозном рвении вмешивались в жизнь общины, «приказывая доброе и запрещая злое», зачастую даже становились в оппозицию к правительству, то теперь Ибн ан-Нахшад (ум. 366/976) определяет суфизм как раз наоборот, как «способность терпеливо сносить приказы и запреты»[1984]— иными словами, безразличие к жизни общины.
Как и в области филологии и схоластики, Багдад и Басра и в этом вопросе были противоположностями. Багдад стал главной резиденцией суфиев, тогда как Басра была центром верующих старого толка (зуххад). Еще во времена ал-Мукаддаси Басра была городом зуххад. Их отцу Хасану молва вложила в уста злую шутку по адресу шерстяной власяницы суфиев[1985]. Это, однако, не помешало суфиям присвоить себе имена наиболее выдающихся своих противников и как раз Хасана из Басры — самого популярного святого Месопотамии — заклеймить именем первого учителя их веры. Геральдическое древо суфизма продолжали развивать и дальше. Стремление вложить основные принципы суфизма в святые уста пророка придало Хасану учителя из среды сподвижников Мухаммада — это был некий Хузайфа, который будто бы воспринял от пророка тайное учение, а к тому же и дар распознавать «лицемеров», так что ‘Омар, когда его призывали читать заупокойную молитву, всегда смотрел, тут ли Хузайфа, и только тогда начинал[1986].
К концу III/IX в. ученики ас-Сари разнесли багдадский суфизм по всей империи: Муса ал-Ансари (ум. ок. 320/932) из Мерва — в Хорасан, ар-Рузабари (ум. ок. 322/934 в Старом Каире) — в Египет, Абу Зайд ал-Адами (ум, 341/952 г. в Мекке) — в Аравию[1987]; вместе с ас-Сакафи (ум. 328/940) суфизм появился в Нишапуре[1988], а на исходе IV/X в., в частности, Шираз был уже густо заселен суфиями[1989]. В первой половине V/XI в. афганец ал-Худжвири встречал «в одном лишь Хорасане триста суфийских шейхов, столь одаренных в мистике, что и одного из них хватило бы с успехом на весь мир»[1990]. Приблизительно в 300/912 г. в Багдаде бок о бок жили три суфийских шейха: аш-Шибли — его отец был видным придворным и сам он занимал несколько государственных постов; он был знаменит своими аллегориями (ишарат); Абу Ахмад ал-Мурта‘иш (ум. 328/939) — мастер суфийских афоризмов и ал-Хулди (ум. 348/959, 95 лет от роду) — первый историк этого течения, который хвалился: «Во мне сидит более ста диванов суфиев»[1991].
Мусульмане-отшельники и мусульманские монастыри существовали еще и до суфизма. В одном случае совершенно очевидно следование христианскому образцу: Фихр ибн Джабир (ум. 325/936) много и далеко путешествовал, много общался с христианскими монахами и в возрасте пятидесяти лет уединился в горах близ Дамаска. Он написал книгу об аскетизме, в которой, между прочим, была одна история из жизни христианских монахов, и принес ее в дар мечети Омейядов[1992]. Ал-Мукаддаси встретил в сирийских горах Джаулан Абу Исхака ал-Баллути вместе с сорока мужами; они носили власяницы и имели общий дом для молитв. Их главой был юрист из школы Суфйана ас-Саури. Питались они желудями, приготовляя из них муку и смешивая ее с диким ячменем[1993]. Крупнейшую монастырскую организацию создали в IV/X в. каррамиты — последователи Мухаммада ибн Каррама[1994]. Их монастыри (ханка) находились в Иране и Мавераннахре[1995]. Кроме того, они имели также монастыри-колонии в Иерусалиме[1996] и одно каррамитское поселение (махалла) было в столице Египта[1997]. Ал-Мукаддаси, находясь в Нишапуре, читал в письме одного каррамита, что их орден имеет в Магрибе 700 монастырей; путешественник, однако, вынужден вместо этого сказать — ни одного[1998]. В Иерусалиме в монастыре каррамитов совершали зикры, во время которых читали по какой-то тетради (дафтар), подобно тому как это делали ханифиты в мечети ‘Амра[1999]. Это был нищенствующий орден, проповедовавший отречение от земных благ. Описывая их главные качества и их деятельность, указывали на богобоязненность, фанатизм, смирение и нищенское существование[2000].
Суфии в то время еще не имели монастырей[2001], разве что только небольшие молитвенные хижины на окраинах городов, которым они давали военное название рибат («форт»)[2002]. Однако, по всей вероятности, уже тогда в этих хижинах для сборищ жили верующие: «Когда суфий ал-Хусри (ум. 370/980) состарился и с трудом мог ходить в соборную мечеть, ему построили рибат против мечети ал-Мансура, который затем назвали по имени его ученика аз-Заузани»[2003].
В качестве орденского облачения они носили шерстяную рясу и головную повязку[2004], ниспадающую с головы, наброшенную поверх тонкой шапочки. Их одежда, по крайней мере позднее, должна была быть синего цвета, поскольку это был цвет траура, а возможно, и потому (об этом также упоминается), что этот цвет был наиболее практичен для бедных странников[2005]. Первая версия, пожалуй, правильна, ибо и головная повязка (фута) являлась траурным покрывалом, которое набрасывали на голову[2006]. «Я взял молитвенный коврик, длинный как день, и остриг усы, которые я раньше оставлял»,— пел Ибн ‘Абд ал-‘Азиз ас-Суси в IV/X в. о том времени, когда он был суфием[2007].
Так же как и в немецком пиетизме, огромную роль в их богослужений играли религиозные песнопения. Истинный религиозный поэт должен быть суфием, сказано еще у ал-Джахиза (ум. 255/869)[2008]. «То я кричал вместе с ними, то читал им поэмы (касыды)»,— рассказывает ал-Мукаддаси о суфийских сборищах в Сусе[2009]. В V/XI в. к этому присоединялась еще и пляска. Ал-Худжвири признает, что он встречал ряд суфиев, для которых суфизм был только пляской[2010]. Ал-Ма‘арри (ум. 449/1057) также упрекает их: «Неужели Аллах предписал вам в качестве молитвы, чтобы вы жрали, как скоты, и плясали?». Когда они упражнялись в песнопении, то женщины обычно смотрели на них с крыш, домов или из других мест, о чем ал-Худжвири и предостерегает новопосвященных[2011].
Фантазия суфиев вскоре обставила рай стульями (курси), которые избавляли верующих от пляски: стулья то слабее, то сильнее в такт музыке вращались при помощи крыльев и так приводили людей в состояние экстаза[2012].
Предписания, обязывающего нищенствовать, не было, однако ал-Хваризми говорит о «суфии, который выпрашивает у нас милостыню без того, чтобы мы у него выпрашивали»[2013]; суфиев уже тогда называли еще и «бедняками» (факир)[2014]. Друзья этого ордена обычно приглашали их к себе, чтобы накормить. Ал-Мукаддаси рассказывает, что, будучи в Ширазе суфием, он мало нуждался в деньгах, потому что каждый день имел приглашение — «и какие еще приглашения!»[2015]. А ар-Рузабари II (ум. 369/979), глава сирийских суфиев, знатный и богатый человек, который возводил свой род к Сасанидам, имел обыкновение не уведомлять своих собратьев, на какой час они приглашены, а сначала их кормил сам, чтобы они на стороне не слишком много ели и тем самым не навлекали бы на себя позора[2016]. Уже его дед — ар-Рузабари I (ум. 322/933), живший в Старом Каире, как-то раз «приобрел несколько вьюков белого сахара, призвал целую рать кондитеров и велел им возвести из сахара стену, с зубцами и нишами, с колонками, украшенными надписями, тоже из сахара, а затем пригласил суфиев, чтобы они ее разрушили и разграбили»[2017]. Вскоре его собратья стали пользоваться репутацией людей, умеющих плотно и обильно поесть, так что выражение «аппетит суфиев» вошло в поговорку[2018].
Уже в то время наиболее серьезные опасности, угрожавшие братству суфиев, были теми же, что доставляли так много хлопот христианским монашеским нищенствующим орденам европейского средневековья,— «сосуществование противоположностей и женская любовь», но к этому присоединялась еще и специфически восточная опасность — «связь с мальчиками»[2019]. К последующему относились со всей строгостью. Говорят, что некий шейх, умерший в 277/890 г., рассказывал: «Я видел, как дьявол проскользнул мимо меня, и тогда я обратился к нему: „Пойди сюда, что тебе нужно?“. Он ответил: „Что мне с вами делать, ведь вы же оттолкнули от себя все, чем я обычно искушаю людей“.— „Что же это?“ — спросил и, на что он ответил: „Мирская жизнь!“. Удаляясь, он повернулся ко мне и произнес: „Но один заманчивый для вас соблазн все же у меня остался — это [плотское] общение с юношами“»[2020]. Сообщают также, что ал-Васити (ум. после 320/932) говорил: «Когда Аллах хочет навлечь презрение на раба своего, то он толкает его к этому смраду и к этой падали», подразумевая под этим общение с мальчиками[2021]. В V/XI в. ал-Худжвири также признает, что невежественные суфии возвели гомосексуальную связь чуть ли не в правило для своего ордена и поэтому простой народ смотрел на этот орден с отвращением[2022].
С давних пор мистика таила в себе тенденцию презрения ко всему земному, а в том числе и к закону. «Среди суфиев есть такие, которые утверждают, что для того, кто познает Аллаха, рушатся законы, а другие еще добавляют: и он соединяется с Аллахом. Мы слыхали, будто в Нишапуре в наши дни есть некий человек, которого зовут Абу Зайд и принадлежит он к суфиям. Он носит то власяницу, то шелковые одежды, которые ведь запрещено носить мужчинам. То он творит молитву и кладет по тысяче поклонов в день, то вообще не творит молитвы, ни предписанной законом, ни добровольной. А это ведь явное неверие»[2023]. Ибн Хазм далее жалуется: «Часть суфиев говорила: кто достиг наивысшей ступени святости, для того отпадают все заповеди веры, как молитва, пост, милостыня и пр., а все запрещенное, как блуд, питье вина и т.п.,— разрешено. И по этой причине они даже позволяют себе посягать на чужих жен. Они утверждают: мы видим Аллаха и говорим с ним, и все, что он вкладывает в души наши,— истина»[2024].
Однако ал-Худжвири рассматривает учение — там, где истина (хакика), закон (шари‘а) отменяется,— как ересь карматов, шиитов и их обманутых колдовством приверженцев[2025]. Шейху суфиев ар-Рузабари (ум. 322/933) рассказали о некоем суфии, который охотно слушал веселую музыку, ибо он достиг, мол, той ступени, на которой различие в настроениях (халат) уже не имеет значения. На это шейх ответил: «Да, пожалуй, он кое-чего достиг, а именно — ада»[2026].
Большинство суфиев старого толка были женаты. Рассказывают даже об одном случае, когда чудо будто бы спасло одного собрата от «дурного характера» его жены[2027]. Ал-Джунайд имел совместно с двумя другими шейхами общую служанку, имя которой — Зайтуна («олива») означает, что она была рабыней[2028], а другую подаренную ему девушку он отдал в жены одному сотоварищу[2029]. Женат был и аш-Шибли[2030]. Ибн ал-Хавари (ум. 230/844), «цветок Сирии», имел четырех жен, так же как и его современник Хатим ал-Асамм — один из крупнейших суфиев Хорасана, оставивший после себя девять детей[2031]. Это тем более поразительно, что вне суфизма существовали проповедующие аскетизм круги, которые придерживались абсолютно чуждого исламу института безбрачия. В «Бустан ал-‘арифин» ханифита Абу-л-Лайса ас-Самарканди (ум. 383/995) рекомендуется тому, кто сможет, оставаться холостым (хасур) и в полном одиночестве служить Аллаху[2032]. Подобная точка зрения в IV/X в., вероятно, возобладала в суфизме, ибо уже в V/XI в. ал-Худжвири имеет возможность заявить: «Главы этого учения единодушны в мнении, что наилучшие и благороднейшие суфии — те, кто не женат, ибо сердца их не запятнаны, а их помыслы не направлены на порок и похоть. Одним словом, суфизм был основан на безбрачии, а разрешение брака вызвало в нем большие перемены»[2033]. Следовательно,— как раз диаметрально противоположное истинному ходу событий. Тот же ал-Худжвири является также первым, кто позволяет себе сообщить о мнимых браках среди суфиев. Он рассказывает об одном шейхе, жившем в III/IX в., который шестьдесят пять лет прожил девственником со своей женой[2034], и о знаменитом Ибн Хафифе в Ширазе (ум. 371/981) из халифского рода, за которого желали выйти замуж многие знатные девушки из-за исходящей от него благодати. Поэтому он 400 раз сочетался браком, чтобы всякий раз тотчас же снова развестись, не прикасаясь к женам[2035]. Впрочем и сам ал-Худжвири был не женат: «После того как Аллах на протяжении одиннадцати лет оберегал меня от опасностей брака, судьбе моей было угодно, чтобы я влюбился в описание одной женщины, которую я никогда в жизни не видал, и в течение целого года эта страсть настолько заполнила все мое существо, что вера моя почти заглохла, пока Аллах в конце концов в своей благости не оградил мое несчастное сердце и милостиво не освободил меня»[2036].
Однако как будто с развитием учения многие в рядах самих суфиев выражали свое недовольство им. Уже первый историк этого ордена (ум. 341/952) исказил всю его историю и переставил все факты. Он рассуждает о басрийских, сирийских, хорасанских и багдадских аскетах и заканчивает ал-Джунайдом <ум. 298/910>, который, по его мнению, был последним учителем суфиев, «все, что пришло после него, может быть упомянуто лишь с чувством стыда»[2037]. Суфийскому святому Сахлу ат-Тустари (по ал-Кушайри ум. 273/886 или 283/896) было приписано пророчество, что после 300/912 г. уже нельзя будет говорить о суфизме, «ибо в это время появятся люди, для которых самым важным будет их одежда, слова — лишь для жеманства, а их божество — чрево»[2038]. А в 439/1047 г. ал-Кушайри написал свое «послание ко всем суфиям в странах ислама, потому что скатан ковер скромности, а алчность весьма усилилась, в посту и молитве проявляют легкомыслие и полагаются на то, что дает простой народ, женщины и правительство, воображая, что благодаря единению с Аллахом они свободны от законов религиозных и мирских»[2039]. В это более позднее время, пожалуй, в качестве противовеса распространяющемуся падению нравов старым отцам суфизма приписываются самые тяжкие епитимьи. Ас-Сари <ум. 253/867>, например, никогда не ел мяса и последний кусок своей трапезы всегда приберегал для птички[2040]. Шестьдесят лет подряд он никогда не ложился, а если его одолевал сон, он засыпал сидя, согнувшись в три погибели, в своей приемной[2041]. На него перешел один из анекдотов о Диогене: «Его ученик ал-Джунайд рассказывал: Однажды я пришел к ас-Сари ас-Сакати и застал его в слезах. Я спросил его о причине, на что он поведал мне: Вчера пришла ко мне девушка и сказала: Отец, сегодня ночью будет жарко, вот чаша — я повешу ее сюда. Затем я заснул и увидал во сне спускающуюся с неба девушку изумительной красоты. Я спросил ее: Кому ты принадлежишь? а она отвечала: Тому, кто не пьет остуженную воду из чаши. Тогда я схватил чашу, бросил ее оземь, и она разлетелась»[2042]. Ар-Рувайм (ум. 303/915 г.) шел как-то в полдень по улице в Багдаде, испытывая сильную жажду, и попросил у одного дома дать ему напиться. Из дома вышла девушка с чашей воды и сказала: «Суфий, который пьет средь бела дня?!». С той поры он всегда постился (т.е. ел и пил только между вечерней и утренней зарей)[2043]. Передают, что ал-Джунайд, молясь на протяжении суток, имел обыкновение совершать 300 рак‘а и произносить 30 тыс. тасбихат[2044] и в течение двадцати лет ел только один раз в неделю[2045]. С другой же стороны, передают, будто был он дороден, что даже заставляло подвергать сомнению пылкость его любви к Аллаху[2046]. Бишр проходил как-то мимо группы людей, которые сказали: «Этот муж не спит всю ночь напролет и ест лишь раз в три дня». И принялся тогда Бишр плакать, приговаривая: «Не припомню я такого случая, чтобы бодрствовал я целую ночь и чтобы постился я хотя бы один день без того, чтобы ночью не нарушать пост, но Аллах из благости и великодушия вкладывает в сердца людей больше того, что делает его раб»[2047].
Суфийское учение совершенно немыслимо без схоластики (му‘тазила), ибо оно целиком и полностью переняло ее проблемы и ее методы. Смотри, например, высказывание умершего после 340/951 г. суфийского шейха Ибн ал-Катиба: «Схоласты (му‘тазилиты) очистили идею Аллаха в соответствии с требованиями разума и промахнулись, а суфии очистили ее в соответствии с требованиями знания (‘илм) и попали тем самым в цель»[2048]. Вот поэтому-то суфизм и добился с чрезвычайной легкостью признания во всем му‘тазилитском Фарсе[2049]. Прежде всего они также сделали центральным моментом своей концепции излюбленную у схоластов идею учения о свободной воле. Они проповедовали последовательный детерминизм: «Тот, для кого похвала и порицание все одно,— аскет (захид); кто только исполняет все предписания — тот благочестивый (‘абид); кто считает все свершающееся исходящим от Аллаха — монист»[2050].
Однако фатализм суфизма отнюдь не является механическим повторением положения посредственных философов о причинной связи — суфии вложили в него некое религиозное содержание. Упование на Аллаха проповедовал еще ислам старого толка, но суфии теперь с невероятным рвением проповедовали безоговорочное упование на Аллаха, без какого бы то ни было участия личной воли, потому что «верующий в руках Аллаха, как мертвое тело в руках обмывающего трупы»[2051]. Большинство чудес, о которых говорит суфизм, являются вознаграждением и исполнением этого упования, благодаря которому сокровищницы Аллаха всегда открыты для благочестивого. Это упование на Аллаха становится основной догмой суфизма в IV/X в., имеющей не менее важное значение, чем учение суфиев о четырех «стоянках». Кроме стоянки «упования» важную роль играли также стоянки «терпения», «удовлетворенности» и «надежды», т.е. совсем как в протестантстве вера в милость божию. Этими представлениями они оказали огромное влияние на ислам, наложив на него тот отпечаток, который в наше время именуют мусульманским фатализмом. Ни фатализму богословов, ни даже астрологам не удалось добиться этого, суфизм же достиг своего только потому, что суфии совершенно серьезно делали выводы из своего учения в практической и повседневной жизни. Терминология мусульманского фатализма не возникла сразу, а складывалась постепенно и приобретала то значение, которое имеет еще и поныне[2052]. А в этом-то все и дело.
При помощи личного примера суфиев и их красноречия отныне каждому мусульманину вдалбливалось, что всякому человеку уготована и предопределена (касам) его земная удача (ризк) или неудача еще задолго до того, как он появился на свет, «что бежать от этого равносильно бегству от смерти: это его неизбежно настигнет»[2053], «что, когда кто-либо утром заботится о вечере, ему это вменится в грех»[2054], «что невозможно ни силой или хитростью умножить долю, записанную на доске», «если бы небо было медью, а земля свинцом и я проявлял бы заботу о моих средствах существования, то я заподозрил бы сам себя в том, что я язычник», что «средства существования сотворены за 2000 лет до появления того тела, которому они предназначены»[2055]. И в конце концов, а это важнее всего с точки зрения религии, укрепив и придав ореол святости рабскому упованию на милость Аллаха, тому самому упованию, которое проповедовали также и аскеты и ортодоксальная традиция, превратили его в безмятежную радость перед решением Аллаха, в amor fati (рида), «так, что несчастье радует человека так же, как и счастье», что «доволен был бы тот, кого Аллах водворил бы даже в ад»[2056]. Полное безразличие настоящего суфия хорошо иллюстрирует известная история о дервише, упавшем в Тигр. Некий человек, сидевший на берегу, увидал, что он не умеет плавать, и крикнул ему, спасать ли его. «Нет!», — прокричал в ответ потерпевший. «Значит ты хочешь утонуть?» — «Нет!» — «А чего же ты тогда хочешь?» — «Того, чего хочет Аллах. Чего я могу еще хотеть?»[2057].
Уже на заре суфизма ал-Мухасиби (ум. 234/848), как говорят, первым отделил amor fati, т.е. радость благоволению Аллаха, от обычного упования на Аллаха и учил о нем как об особом даре божественного просветления (хал)[2058] и, таким образом, был, пожалуй, первым, кто поставил этот тезис в центр суфизма. Его можно считать основателем мусульманского фатализма. Однако вера в судьбу так и не получила у суфиев логического оформления, не стала органичной. Они придерживались исключительно тех положений, какие могли найти применение в религии, и никогда не впадали, например, в педантизм, упорствуя в проповедоваемом ими учении о предопределении, к которому они временами прибегали[2059].
Христиански-гностическим по своему характеру является второе, главное учение суфизма — это учение о святых. Вали[2060] — святой, собственно «друг Аллаха»,— это чисто суфийское понятие, которое это направление навязало всему исламу. Это крупнейший внешний успех суфиев, проложивший себе дорогу в IV/X в. Уже у находившегося под сильным христианским влиянием ал-Мухасиби (ум. 234/848), как говорят, появляется указание на иерархию святых как ступени благочестивой жизни[2061], а в качестве того, кто ввел этот раздел о святых в суфийское учение, называют ат-Тирмизи (ум. 285/898), ставившего Христа выше Мухаммада[2062]. Историкам и биографам IV/X в. были известны как особая категория святых только абдал[2063]. Ибн Дурайд (ум. 321/933) отмечает: «Абдал, ед. число бадил, род святых (салихун), присутствия которых мир никогда не лишен. Всего их 70, сорок из коих в Сирии, а тридцать в прочих странах»[2064]. Ал-Худжвири в V/XI в. приводит уже большее количество степеней святости: 300 ахйар, затем 40 абдал, 7 абрар, 4 аусад, неизменно совершающих каждую ночь обход всей Вселенной, 3 нукаба и, наконец, один кутб — «полюс мира», который вместе с окружающими его святыми правит миром и надзирает над ним[2065]. Совершенно ясно, что этот последний вступил во владение наследством демиурга гностиков. Местом аудиенции кутба считалась в то время «пустыня детей Израиля»[2066], а родиной абдал — Убулла[2067].
Одни лишь верующие старого толка, которых суфии презрительно прозвали антропоморфистами — хашвиййа, оказали упорное сопротивление вторжению культа святых — они признавали избранниками Аллаха только одних пророков. А схоласты (му‘тазила) вообще отрицали, что Аллах ставит одного верующего над другими, а считали, что все повинующиеся Аллаху мусульмане — «друзья Аллаха» (аулийа)[2068]. Община му‘тазилитов так энергично поощряла культ святых, что с течением времени были только суфийские святые. Старые святые, такие как Ма‘руф ал-Кархи и Бишр ал-Хафи, были просто-напросто аннексированы суфизмом. Во главу сонма суфийских святых был поставлен Хасан ал-Басри[2069], у которого суфизм, несомненно, вызвал бы отвращение. Передают даже одно из его наиболее свирепых высказываний против ему же приписываемого облачения суфиев. Увидав на Малике ибн Динаре власяницу, он спросил его: «Нравится тебе это платье? — Да! — А ведь до тебя его носила овца»[2070].
В течение двух первых веков своего существования суфизм был особенно богат мужами, которые отвечали обоим требованиям, предъявляемым к святым: действенность их молитвы (муджаб ад-да‘ва) и обладание дарами благодати (карамат)[2071]. Таким образом, они являлись классическими святыми ислама. Ал-Казвини, например, в главе «Багдад» называет кроме Бишра ал-Хафи только тех святых, которые жили около 300/912 г.[2072] Табакат ас-суфиййа ас-Сулами (ум. 412/1021) — первое житие святых; при чтении Абу-л-Махасина, который использовал его[2073], создается впечатление, будто святые появились вообще лишь в III/IX в. и что IV/X в. имел их в избытке[2074].
Чудеса, которые творили эти святые, были очень разнообразны. Обычно это были: действенность молитвы, чудесное вызывание пищи и воды, преодоление пространства за неправдоподобно короткое время, избавление от врага, чудесные явления при смерти святого, способность слышать голоса и прочие необычные дела[2075]. Так, на лбу умершего египетского святого Зу-н-Нуна была обнаружена надпись: «Это возлюбленный Аллаха, умерший от любви к Аллаху, умерщвленный Аллахом», а во время похорон над его траурными носилками собрались стаи птиц и своими крыльями создали над ними тень[2076]. Когда в 329/941 г. умер ал-Барбахари, то его дом наполнился фигурами в белых и зеленых одеждах, несмотря на то что двери были заперты[2077]. Египтянин Бунан (ум. 316/928) по приказу Ибн Тулуна был брошен львам, которые его не тронули[2078], после чего, очевидно, некоего сирийского шейха, к которому сбегались дикие звери, называли Бунани[2079]. Один чудотворец в Нисибине мог ходить по воде и останавливать течение Джейхуна[2080]. Другой из воздуха извлекал драгоценности, а вокруг одного чернокожего факира в Абадане вся земля сверкала от золота так, что его гость в страхе бежал прочь. Один испытывает со своим ослом чудо Валаама, другому Тигр по его молитве выносит к ногам оброненную в воду печатку. А еще для одного, который намеревался залатать крышу мечети слишком короткой для этого доской, стены мечети сближаются, насколько нужно. Другой смеется, уже будучи трупом, так что никто не соглашается его обмыть. Некий суфий попал в кораблекрушение, из которого спаслись на доске только он с женой. Жена родила девочку и кричит мужу: «Жажда убивает меня». Он с упованием произнес: «Он видит наше положение», поднял голову и увидал, что в воздухе восседает человек, держа в руке золотую цепочку, а на ней висит сосуд из красного гиацинта. Дал он им напиться, а напиток был ароматнее мускуса, холоднее льда и слаще меда. На кающегося суфия близ Ка‘бы слетела с неба записка с отпущением как уже содеянных грехов, так и всех будущих. А другой суфий жил на вышке, куда не было ни каменной лестницы, ни приставной, и когда он хотел совершить омовение, то летел по воздуху, как птица. Он же, подобно Аврааму, прошел сквозь пылающий очаг. Другому после свадьбы оказалось невозможным сношение с женой, пока не выяснилось, что жена его была замужней. По команде отца ордена египетских суфиев Зу-н-Нуна его ложе само перемещалось из угла в угол его дома. Другой суфий сдвинул гору. А основателю суфийского движения ас-Сари сама Вселенная в образе старой женщины подметала пол и заботилась о пище. Когда некий суфий умер на корабле, то вода расступилась и корабль стал на дно, где святого можно было предать земле; затем, когда все опять поднялись на корабль, вода подняла его и над могилой святого зашумели волны.
Уже в то время то там, то тут появляется вечно юный Хидр — еще и сегодня патрон дервишей. Согласно Ибн Хазму[2081], вера, что Илийас и Хидр действительно существуют, что первый — властелин пустынь, а второй — лугов и садов и что Хидр является тому, кто произнесет его имя, была широко распространена среди легковерных суфиев.
Чем удивительнее описываемые чудеса, тем дальше отстоят они от времени того, кто о них сообщает. Ал-Кушайри признает, что самому ему пришлось пережить только одно чудо, а именно: у ад-Даккака прекращались болезненные позывы к мочеиспусканию на то время, что он поучал с минбара. И это чудо обратило на себя его внимание своей необычностью лишь после смерти учителя[2082]. Воскрешение из мертвых, которое творили современные им христианские чудотворцы[2083], отсутствует в репертуаре мусульманских святых, они ограничивались лишь тем, что поднимали на ноги павших животных[2084].
Сердечную привязанность к чудесам питали главным образом суфии. Правда, люди образованные из их среды придавали им меньшее значение по сравнению с чудесными силами духовной жизни. Когда ал-Мурта‘ишу (ум. 328/940) сообщили, что такой-то ходит по воде, он сказал: «Вот если Аллах дает кому-нибудь силу противостоять своим страстям, это я считаю несравненно более замечательным, чем хождение по воде»[2085]. Один суфий рассказывал: «Я намеревался сотворить чудо, взял у мальчика удочку, встал между двумя лодками и сказал: „Клянусь твоим всемогуществом, если сейчас не попадется рыба весом в три фунта, то я утоплюсь“.— И действительно, поймалась рыба в три фунта весом». Когда об этом узнал ал-Джунайд, глава суфийской школы, он сказал: «Он заслужил, чтобы из воды появилась змея и ужалила его»[2086]. Когда умерший в 261/874 г. суфийский шейх ал-Бистами услыхал, что некий чудотворец за одну ночь добирается до Мекки, то он тоже сказал: «Дьявол, преследуемый проклятием Аллаха, за один час проходит расстояние от восхода солнца до его заката». А когда услыхал, что кто-то ходит по воде и летает по воздуху, то изрек: «Птицы летают по воздуху, а рыбы плавают в воде». Отрицал чудеса также и ат-Тустари (ум. 273/886), которому в отместку за это самому приписывали чудеса. Он заявлял, что самым большим чудом (карамат) является исправление дурной черты характера[2087]. Однажды некий человек обратился к нему: «Люди говорят, что ты ходишь по воде». Он отвечал: «Спроси муэззина квартала, он человек верующий и никогда не лжет». Вопрошавший обратился к муэззину, и тот сказал ему: «Этого я не знаю, но вот на этих днях он пошел как-то к пруду умыться, да и упал в воду, и не окажись я тут, он остался бы лежать в пруду»[2088].
Значительная часть авторитетов суфизма придерживалась даже мнения, что сверхъестественные способности святых не должны быть даже известны людям и это-то и является основным, что отличает их чудеса от чудес (му‘джизат) пророков[2089]. Не было также единого мнения и в вопросе, имеет ли святой право сам считать себя таковым[2090]. Говорят, что отец суфизма ас-Сари рекомендовал придерживаться в этом вопросе крайнего скептицизма: «Если бы кто вошел в сад со многими деревьями и на каждом дереве сидели бы птицы, которые бы ясно и отчетливо говорили ему: Мир тебе, о ты, святой Аллаха! — и он перестал бы опасаться, что это обман, то как раз и был бы он обманут»[2091]. Вся арабская литература дает яркие свидетельства тому, насколько почитание святых было, несмотря ни на что, уделом одних лишь суфиев и простого народа. Так, ни один географ, ни один поэт IV/X в. не называет ни одного святого.
Наконец, суфизм развил еще одну догму, обладавшую совершенно невероятной силой религиозной притягательности, ибо она удовлетворяла старую, существовавшую еще до ислама потребность в поклонении. Эта догма возвела фигуру Мухаммада в нечто сверхчеловеческое, почти обожествив его. Прежние времена были в этом отношении очень скромны: передают, что Абу Бакр молился над телом своего учителя и друга: «Аллах не пошлет тебе две смерти; смертью, что была тебе предназначена, ты умер сейчас»[2092].
Уже ал-Халладж, для которого Иисус все еще являлся идеалом, начинает первую главу Китаб ат-тавасин восторженным гимном в честь пророка: Все светочи пророков — и здесь тоже образ гностиков — занялись от его светоча, он существовал до всего сущего и имя его предшествовало каламу судьбы, он был известен еще прежде какой бы то ни было истории и прежде всякого бытия и пребудет после конца всего. Благодаря его наставлению прозрели очи. Над ним сверкало молниями облако, и под ним сверкало молниями облако, извергая огонь, изливая дождь и оплодотворяя. Все знания — капля из его моря, все премудрости — пригоршня из его ручья, все времена лишь час из его жизни[2093].
Посредством этих трех основных догм — о так называемом фатализме, о культе святых и культе Мухаммада — суфизм III/IX и IV/X вв. управлял из-за кулис религиозными течениями ислама, причем эти три учения и по сей день остались главными и ведущими направлениями мусульманства. Однако даже суфизм не принес уверенности в спасении души, не смог он рассеять и вселяющую страх неуверенность в потусторонней жизни. Когда ал-Макки, крайне набожный человек и автор учебника суфизма, лежал в 386/996 г. при смерти, он обратился к одному из своих учеников с такими словами: «Если ты заметишь, что меня ожидает добро, то рассыпь сахар и сладкий миндаль на мое тело, когда его будут выносить, и скажи: „Это для мудрого!“ — „Я опросил его,— рассказывает дальше ученик,— а как я должен это заметить?“ — „Когда я буду умирать, ты дашь мне твою руку; если я сожму ее, то, значит, Аллах дал мне в удел добро, а если я отпущу твою руку, то, значит, конец мой не добр“. И так сидел я около него, а умирая он крепко стиснул мою руку. Когда выносили его тело, я рассыпал по нему сахар и сладкий миндаль и сказал: „Это для мудрого!“»[2094].
Точно такая же история украшает и жизнь ал-Маварди (ум. 450/1058): «За время своей жизни он не обнародовал ни одной из своих работ, а когда приблизилась смерть, он сказал: „Все рукописи, находящиеся там-то и там-то, написаны мною. Я не обнародовал их только потому, что это не принесло бы мне чистой радости! Как только придет мой смертный час и я потеряю сознание, тогда вложи твою руку в мою, и если я ее схвачу и сожму, то возьми книги и брось их в Тигр, если же я протяну руку и не схвачу твою, то знай, что книги эти встречены благосклонно“. И случилось последнее»[2095].
Трогательно видеть, как в конце многих жизнеописаний умерший святой человек является во сне своему другу или ученику со знаками отличия тех, кто обрел милость, и как тот жадно спрашивает его, чем снискал он блаженство. Единственным таинством в исламе, единственным верным путем в рай оставалась смерть в сражении с неверующими. Военную ценность этого положения признал и император Никифор, крупнейший противник мусульман в IV/X в. Он также хотел распорядиться, чтобы всех павших в бою с неверными объявили мучениками, однако церковь, питавшая к нему неприязнь на почве финансовых разногласий, отклонила это предложение[2096].
В других формах движение суфизма тотчас же вышло далеко за пределы ортодоксального ислама. Эти формы образуют неевропейскую, специфически восточную, боковую линию. Создатели этих форм не остановились на обожествлении чувств, а пошли дальше и хотели сделать тоже и с волей и абсолютно последовательно, ради этой божественной воли, стали посягать на божественное всемогущество. Вследствие этого они сразу стали представлять серьезную опасность незыблемости государства, а потому приблизительно в 300/912 г. списки еретиков выросли совершенно непомерно. В 309/921 г. в Багдаде был зверски казнен ал-Халладж («шерстобит»)[2097]. Он слушал многих знаменитых суфиев и, между прочим, также и ал-Джунайда. Ал-Бируни[2098] называет его суфием; по данным Фихриста[2099], перед знатью он выдавал себя за шиита, а перед народом — за суфия. Передают, что он ежедневно творил по 400 рик‘а[2100]. Шестьдесят шесть лет спустя после смерти ал-Халладжа Фихрист перечисляет сорок семь его трудов[2101]. Один из них издал и снабдил комментариями Массиньон.
С поразительной виртуозностью, отнюдь не рожденной лишь вчера, а несущей на себе явные признаки связи с древним гностицизмом, язык ал-Халладжа следует как тончайшим нюансам его мыслей, так и могучим порывам его пантеизма. Зачастую он напоминает прекраснейшие места из гимнов гностиков. Метод ал-Халладжа также целиком соответствует методу му‘тазилитов, от них перенимает он очищенную от всего человеческого и случайного идею Аллаха, от них же у него также и термин хакк («существо») для обозначения этой субстанции, этого конечного результата критического мышления. И если позднее в этом боге различают два существа — человеческое и божественное, насут и лахут, два иностранных слова, заимствованных из сирийских споров о природе Христа; и если бог в своем человеческом облике (насут) будет судить в день Страшного суда[2102], если он прежде всякого творения предстал в образе человеческом[2103]— первозданным человеком (proon anthropos гностиков)[2104], если он затем явственно предстал бы перед тварями своими в облике вкушающего и пьющего, «пока создания его не смогли рассмотреть его бровь в бровь»[2105], то тут мы оказываемся посреди причудливого мира христианской гностики, которая в свою очередь являлась лишь бледной копией древних мифов. Притом это родство может быть легко доказано вплоть до мельчайших подробностей: по «Василиду» Иринея[2106], от Отца исходит слово (logos), затем мудрость (phronesis), затем сила (dynamis), затем познание (sophia)[2107]. В Китаб ат-тавасин ал-Халладж проводит вокруг Аллаха четыре круга, которые никто не может постичь: 1) его воля (маша’а), 2) его мудрость (хикма), 3) его сила (кудра), 4) его познаваемое (ма‘лума), т.е. его откровение[2108]. Графическое изображение этого учения, которое еще Кельсий[2109] нашел у гностиков, мы видим также в единственной до сего времени известной нам книге ал-Халладжа, находим мы его еще, как известно, в книгах друзов. Разум там изображается в виде ромбоида[2110], а в Китаб ат-тавасин[2111] — в виде прямоугольника.
Сочинения ал-Халладжа были обнаружены во время домашнего обыска. Одни были написаны на китайской бумаге, другие написаны золотой краской; подбиты парчой и шелком, переплетены в дорогую кожу[2112]. И это также обычай гностиков. Священные книги манихеев тоже были роскошно оформлены[2113]. Мы даже находим там, как у гностиков, ступени очищения сообща с особо подчеркнутой ссылкой на Иисуса как на высший идеал. «Он посвятил себя благочестивой жизни, взбирался в ней со ступени на ступень. И в конце концов уверовал он: кто в послушании очищает тело свое, занимает сердце свое добрыми делами и отстраняется от страстей, тот продвинется дальше по ступеням чистоты, пока естество его не очистится от всего плотского. А когда в нем не останется даже и частицы плотского, тогда дух божий, из которого был Иисус, вселится в него, тогда все деяния его будут от бога и повеление его будет повелением божьим. И сам он возложил на себя эту степень». Так приблизительно описывал учение ал-Халладжа один более поздний современник[2114].
Твой дух (рух) смешался с моим духом, как вино смешивается с прозрачной водой,—
поет сам ал-Халладж[2115] и еще:
Я тот, кого я алчу, а тот, кого я алчу,— я сам, мы два духа, живущие в одном теле, кто видит меня — видит и его, видит его — видит меня[2116].
Пышными и причудливыми образами описывает он обожествление:
Бабочка летит в огонь и чрез гибель свою сама становится огнем[2117].
Ты у меня между сердечной сорочкой и сердцем, ты струишься как слезы струятся с век[2118].
Ас-Сули, который неоднократно беседовал с ал-Халладжем, заявляет, что он был неуч, прикидывавшийся мудрецом. Но тем не менее он повсюду приобрел сторонников своего учения, вплоть до высших сфер[2119]; говорили даже, что халифский двор и особенно могущественный хаджиб Наср склонялись на его сторону. Важно здесь также и то, что один из назначенных халифом кади отказался осудить его. Восемь лет просидел он в халифском дворце под очень мягким арестом, и создается впечатление, что причиной его гибели в дальнейшем послужили исключительно одни интриги. Мы располагаем о нем чаще всего сведениями, исходящими от его врагов, но и из них, однако, отчетливо явствует, что он произвел необычайно сильное впечатление на высшие слои багдадского общества. Это опять-таки находит свое отражение в том, что как Ибн ал-Джаузи, так и аз-Захаби оба написали о нем книги, которые, к сожалению, кажется, утрачены. Надо сказать, что удостоиться такой чести, как отдельная, посвященная ему одному биография, случалось в исламе не такому уж большому количеству мужей.
Ал-Халладж оказал огромное влияние на суфийскую теологию, и, несмотря на его мученический конец, многие его ученики распространяли дальше его учение, и особенно секта салимитов (салимиййа). Еще в V/XI в. ал-Худжвири видел в Месопотамии «четыре тысячи человек, называвших себя приверженцами ал-Халладжа»[2120]. Тот же самый ал-Худжвири свидетельствует, что ал-Халладж «дорог его сердцу» и что лишь очень немногие суфийские шейхи отрицали чистоту его души и суровость его аскетизма[2121]. А во времена Абу-л-‘Ала (ум. 449/1057) в Багдаде все еще были люди, ожидавшие Халладжа: они стояли на берегу Тигра, там, где когда-то висело на позорном столбе его тело, и высматривали его[2122].
За спиной всех прочих ересей этой эпохи всегда стоит христианская мысль. Так называемый Кашф в Куфе проповедовал, что первым во всей вселенной бог сотворил Иисуса, а за ним ‘Али[2123]. Нечто подобное говорил и аш-Шалмагани родом из одной деревни в Вавилонии близ Васита, объявивший себя носителем духа божия[2124]. В 322/933 г. он вместе с двумя своими приверженцами был привлечен к суду везиром Ибн Муклой. Его приверженцы, чтобы доказать свою невиновность, должны были избить своего бога. Один из них в конце концов все же нанес ему удар, а второй уже замахнулся было, но тут рука его задрожала и со словами «Мой господь!» он стал лобызать аш-Шалмагани в голову и в бороду. После этого учитель и ученик были пригвождены к позорному столбу, биты плетьми, а затем сожжены. Аш-Шалмагани учил, что бог вселяется в каждую вещь в зависимости от ее силы, что бог создает для каждой вещи и ее противоположность, например к Адаму — Иблиса, причем бог вселился в них обоих. Противоположностью Авраама был Нимрод, Аарона — Фараон, Давида — Голиаф. Он учил, что ко всякой вещи противоположность ее стоит ближе всего; так, например, противоположность истины, служащая путевым столбом к ней, стоит выше, чем сама истина[2125]. Ал-Mac‘уди причисляет его к шиитам[2126], однако, хотя он и считал ‘Али своим предшественником в совершенном воплощении божества, но зато он запрещал считать Хасана и Хусайна его сыновьями, ибо бог не может иметь ни отца, ни сына. Последним предшественником ‘Али, соединившим в себе все божеское и человеческое, представленное в Адаме, был Иисус, в то время как Моисей и Мухаммад были названы им «обманщиками», которые обделили своих доверителей и ‘Али. ‘Али даровал Мухаммаду столько лет сроку, сколько дней «люди пещеры» пробыли в пещере, т.е. 350 лет, после этого мусульманский закон должен быть ниспровергнут, и этот срок теперь приближается. Осязаемые представления коранического учения были им одухотворены: рай есть познание их мудрости и принадлежность к секте, ад — непризнание их учения и пребывание за пределами их общины. Его сторонники отказывались от молитв, поста и омовений, их обвиняли в безнравственности и общности жен. Признавалась также необходимой любовная связь с мальчиками, ибо тем самым вышестоящий имеет возможность наполнить своим светом нижестоящего[2127]. Между прочим, эта секта отнюдь не носила характер крестьянского верования. Сам основатель секты был «писец» (катиб), бывший в милости у везира Ибн ал-Фурата в Багдаде, и занимал различные важные посты. Его учеником, умершим вместе с ним, был Ибрахим ибн Абу ‘Аун — поэт, писатель и высокопоставленный чиновник. Говорят, что везир из рода везиров Бану Вахб верил в божественность этого человека[2128].
Совсем иного характера были течения, порожденные идеями махдизма. Все рассмотренные нами до этого религиозные деятели были одиночными богоискателями, которые шли своей дорогой, руководствуясь указаниями древнейших вероучений. Самым странным у них является та глубокая вера, которую они находили в себе для своей удивительной проповеди. Что же касается махдизма, то он с самого начала был политикой, он апеллировал к массам и достигал поэтому совершенно иных результатов. Уже приблизительно в середине III/IX в. Хамдан Кармат[2129] собрал вокруг себя беспокойные элементы Месопотамии, однако все их восстания были подавлены халифом ал-Му‘тадидом. Только когда пропаганда махдизма обратилась к Аравии, он приобрел значение политической проблемы. Там был большой резерв мятежных элементов любого типа, всегда готовых, грабя и убивая, последовать за каким угодно главарем на тучные крестьянские земли.
В 289/901 г. халиф ал-Му‘тадид, незаурядный правитель, в результате всех причиненных ему карматами неприятностей оказался на смертном ложе с разбитым горем сердцем[2130]. Судьбе было угодно осчастливить карматов двумя блестящими полководцами, которые сумели организовать дикие силы Аравии и использовать их для самого внушительного восстания, которое только видел Аравийский полуостров со времени зари ислама. К концу III/IX в. была жестоко опустошена Сирия, а в начале IV/X в. их атаки обратились против Месопотамии: были захвачены и разграблены Басра и Куфа, Багдад был объят превеликим страхом, дороги между Меккой и Востоком были перерезаны. Из недр сирийской пустыни карматские орды выливались, проникая в 316/928 г. до самых гор Синджара[2131]. В 317/929 г. карматы пропустили, не тронув, караван паломников в священный город, однако затем поразительно малыми силами (называют 600 всадников и 900 пехотинцев) карматы штурмом овладели городом, вторглись в Ка‘бу, повырезали всех, похитили храмовые сокровища, захватив с собой даже и Черный камень. Одни лишь окрестные бедуины беспокоили победителей, что же касается жителей Мекки, то они с рвением участвовали в разграблении их же собственной святыни. Это происшествие произвело в свое время куда меньшее впечатление, чем можно было бы ожидать. Лишь позднее при упоминании этого события люди приходили в глубокое негодование, но в то время было еще слишком много людей, бёзразлично относящихся к религии, которых требования хорошего тона еще не принуждали к ханжеству. С другой стороны, верующие, сосредоточившиеся вокруг подымающегося суфизма, интересовались более высокими материями, чем Черный камень, и даже ортодоксальный ислам, кажется, чтил его с большей или меньшей долей нечистой совести. Разграбление Мекки явилось высшей точкой, которой достиг карматский мятеж. За этим последовали разбойничьи набеги на восток, вплоть до вторжения в пределы Фарса. Пустыня была непроходима, и не раз паника вынуждала закрывать в Багдаде базары. Однако дворцовая дипломатия нашла все же способ частично парализовать и эту опасность: карматские отряды поступили на службу к халифам. В 327/938 г. мятежники заключили с правительством договор, по которому обязались за определенную мзду с каждого паломника и каждого вьючного верблюда пропускать караваны паломников, а в 339/950 г. Черный камень был возвращен Мекке. Его мог нести тощий верблюд и даже разжиреть под этой ношей, в то время как двенадцать лет назад под его тяжестью пало три крепких верблюда. На этом мученичество Черного камня еще не закончилось. В 413/1022 г. его разбил дубиной один египтянин; полагают, что он был сторонником халифа ал-Хакима. Злодей был умерщвлен, а камень пришлось слепить из кусков мускусом и лаком[2132]. В пятидесятые годы карматы, совершая набеги на Египет и Сирию, поддерживали продвижение Фатимидов, однако уже в 358/968 г. они окончательно заключили мир с багдадским халифом, за которого теперь вновь молились на всех своих минбарах. Халиф снабжал карматов деньгами и оружием[2133]. И вновь, как и в начале карьеры, Сирия стала объектом набегов карматов, однако врагами теперь были их старые союзники Фатимиды. Там, где они одерживали победу, они восстанавливали в правах черный цвет Аббасидов[2134]. В конце концов карматы были там разбиты и возвратились в Аравию на условии выплаты им ежегодной ренты. Несколько лет спустя они были окончательно изгнаны Бундами из пределов Южной Месопотамии. К концу столетия они представляли всего лишь небольшое государство на восточном побережье Аравии, которое уже больше не причиняло серьезного беспокойства паломникам в Мекку, но все же было в состоянии держать свою таможню у ворот Басры[2135]. Еще в 443/1053 г. перс Насир-и Хусрау, посетив их столицу Лахса, увидал, что у гробницы человека, основавшего арабскую империю Карматов, денно и нощно стоит оседланный конь, чтобы он тотчас мог вскочить в седло, когда воскреснет[2136]. Однако ал-Ма‘ари сообщали странники, что в Йемене есть кучка людей, каждый из коих считает себя ожидаемым Махди и находит таких, которые ему платят подать[2137]. Сколько веры и сколько жажды добычи способствовало признанию этого течения, пожалуй, никогда не дано будет распознать, так же как не удастся определить и процентное содержание религиозного момента в этом движении. Все же следует принимать во внимание, что Йемен всегда являлся одной из самых странных в отношении духовной жизни областей мира и его сущность была много более чужда европейской, чем, например, духовный мир монголов. «Он [Йемен] всегда был убежищем наиболее рискованных воззрений и кладезем для тех, которые при посредстве религии обделывали свои дела и посредством лицемерия извлекали гнусные прибыли»[2138]. Впрочем, махдизм карматов не был хорошим с точки зрения ислама, так как за спиной они постоянно держали наготове христианско-гностическое учение о воплотившемся боге (хулулиййа). «Одна секта проповедовала божественность Мухаммада ибн Исма‘ила ибн Джа‘фара — это карматы; среди них есть такие, которые проповедуют божественность Абу Са‘ида ал-Джубба’и и его сыновей, другие — божественность ‘Убайдаллаха и его потомков вплоть до сегодня, другие проповедуют божественность Абу-л-Хаттаба ибн Абу Зайнаба в Куфе, число сторонников которого там в конце концов перевалило за тысячу. Другая их часть проповедовала божественность торговца пшеницей Ма‘мара в Куфе, приверженца Абу-л-Хаттаба, и чтила его. Аллах да проклянет их всех вместе взятых»[2139]. Махди карматов Ибн Закариййа также претендовал, по крайней мере по словам ал-Бируни[2140], быть богом.
Подобно Черным Альпам, возвышающимся позади зеленых Юрских гор, стоят за карматами их многолетние хозяева Фатимиды, которые с такой энергией и так счастливо использовали идею Махди, чего ему никогда больше не выпадало на долю. Это обратное движение арабов, отхлынувших на запад, халиф, въезжающий в Каир вместе с гробами своих предков,— наиболее романтичное явление той взбудораженной событиями эпохи; действительно, в то время как об этом писал тот же халиф, «солнце взошло там, где оно обычно заходит»[2141]. Их продвижение является важнейшим событием в политической жизни IV/X в. Уже спустя сто лет после выступления их первого Махди, примерно в 360/970 г., их власть простиралась на всю Северную Африку и Сирию вплоть до Евфрата, «свои миссии имели они в каждой долине»[2142]. То же писал халиф ал-Му‘изз одному карматскому вождю в 362/972 г.: «Нет такого острова на земле и нет такого климата, где бы мы не имели учителей и миссионеров, которые на всех языках и наречиях возвещают наши учения»[2143]. Карматы беспрекословно подчинялись их приказам. Белуджистан признал верховную власть повелителя в Каире[2144] хотя бы тем, что платил ему подать. А когда поэт ал-Хамадани в 80-х годах IV/X в. прибыл в Джурджан, на крайнем севере халифата, то он, всегда очень хорошо зная, где больше власть и больше денег, примкнул там к исмаилитам[2145]. В духовном отношении они не должны были внести ничего нового, а ведь не количество солдат определяет прочность трона. Уже через двадцать лет после апогея их величия дальнейшая пропаганда прекратилась. «Немного осталось миссионеров, и я не вижу более книг, которые для них сочиняют. Так обстоит дело по крайней мере в Южной Месопотамии, возможно, что в Персии и Хорасане дела идут, как раньше. В Египте же положение весьма двусмысленное, ибо нынешний повелитель ничем и никак не доказывает, что рассказывают о нем и его предках»[2146]. Об исмаилитском учении IV/X в. мы знаем очень немного. Главный источник, относящийся к этой эпохе,— свидетельство Аху Мухсина, сохранившееся в сочинениях ан-Нувайри и ал-Макризи и переведенное де Саси[2147], отравлен уже своим происхождением, ибо исходит из полемического сочинения Ибн Раззама, направленного против этой секты, которое как Фихрист[2148], так и ал-Макризи называют «смесью правды и вымысла». Изданные же Гюйяром (Guyard) фрагменты до сего времени не поддаются датировке, а старые имена еще ничего не доказывают, ибо во всех этих кругах процветали литературные подделки, и из числа приписываемых старейшему исмаилитскому шейху трудов уже в IV/X в. большинство были просто подсунутыми ему подделками[2149]. И все же главное, что мы можем узнать у аш-Шахрастани,— это то, что между исмаилитами IV/X в. и конца V/XI в. существует большое различие, что нужно тщательно различать катехизис халифа ал-Му‘изза от катехизиса Старца Горы[2150]. К сожалению, Ибн Хазм странным образом почти полностью умалчивает об исмаилитах, он говорит только, что они и карматы, совершенно очевидно, отпали от ислама и проповедуют чистейший зороастризм[2151]. Абу-л-‘Ала ал-Ма‘арри, от которого также напрасно ожидать сведений об исмаилитах, в Рисалат ал-гуфран тоже очень мало говорит о них; пожалуй, близость их власти не давала ему раскрыть рта. Таким образом, аутентичные материалы мы получаем только из Фихриста. Исмаилиты имели семь ступеней развития (против девяти у Аху Мухсина), учение каждой ступени содержалось в отдельной книге. Первые две ступени можно было одолеть в течение одного года, но далее, вплоть до шестой, можно было подниматься на одну в год. Когда можно достичь последней ступени — не говорится. Ан-Надим утверждает, что он читал книгу седьмой ступени и нашел там вещи, ужасные по своей безнравственности и принижению канонических учений[2152]. Уже в то время эта секта прибегала к аллегорическому толкованию (та’вил), так как один богатый кармат лишил ал-Балхи (ум. 322/933) пенсиона, когда он написал свое «Исследование о методе аллегории»[2153]. Все это — восприятие религии как познание бога разумом, субординация в зависимости от степени познания, великолепно проведенный в более поздних источниках дуализм и параллелизм Вселенной — опять-таки указывает на древнюю гностику. Уже Фихрист[2154] бранил отцов исмаилитского учения бардесанианцами[2155].
Их учение можно было бы собрать по частям у му‘тазилитов и шиитов, однако как раз это и позволяло присваивать себе все, что не было аббасидским и суннитским[2156]. Напротив, новым была строгая дисциплина, к которой восточный человек относится совершенно особенно, когда она имеет религиозную окраску. Дисциплина служит завязкой и в такой типичной истории обращения, как обращение Хамдана Кармата фатимидским миссионером ал-Хусайном ал-Ахвази:
«Когда ал-Ахвази отправился в Вавилонию в качестве миссионера, встретил он в окрестности Куфы Хамдана ибн ал-Аш‘аса Кармата, а при нем был вол, который нес на себе какие-то его вещи. Прошли они рядом целый час, и тогда Хамдан обратился к Хусайну: „Вижу я — идешь ты издалека и утомился, садись-ка на моего вола!“ Но Хусайн ответил: „На это нет у меня приказа“. Тогда Хамдан спросил его: „Выходит, что действуешь ты только по приказу?“ Он ответил: „Да!“ Тогда Хамдан опять спросил его: „Кто же это приказывает и запрещает тебе?“ Хусайн ответил: „Мой царь и твой царь, которому принадлежит и этот мир и потусторонний“. Хамдан удивился и, поразмыслив немного, сказал: „Только бог царь над всем этим“. Тот ответил: „Ты прав, однако бог дает царство свое кому он захочет…“ И он начал его вербовать… Он вошел с ним в его дом, принял у людей присягу на верность Махди и остался жить в доме Хамдана, и последнему понравилось дело Хусайна и важность этого дела. Ал-Хусайн был очень ревностным в служении богу — весь день он постился, бодрствовал в ночи, и люди завидовали тому, кто получал право заполучить его на одну ночь в свой дом. Он шил платье и содержал себя этой работой. От особы его, и от портновского его ремесла обретали люди благодать»[2157]. Эта секта, несущая в себе элементы многих древних вавилонских учений, использовала также глиняные таблички с письменами. Их миссионеры выдавали членам секты печати из белой глины, на которых стояла надпись: «Мухаммад ибн Исма‘ил, имам, друг Аллаха (вали Аллах), Махди»[2158].
Кроме того, новым в фатимидском государстве является также, что оно официально признавало духовенство и выплачивало ему жалованье, чего прежде не бывало в исламе. Бывшие миссионеры (ду‘ат) секты теперь стали священнослужителями во главе с генеральными суперинтендантами (да‘и-д-ду‘ат), причисляемыми к рангу высших сановников[2159].
Различных Махди и богов было множество, но выдавать себя за пророка (танабба’а) считалось совершенно несовременным. Над этим зло издевались уже век назад. Биографию халифа ал-Ма’муна, например, оживляют несколько его разговоров с лжепророками. В рассматриваемую нами эпоху в провинции, там и сям, появляются такие пророки. В 322/934 г. далеко на Севере, в благочестивом Мавераннахре, одному из них удалось, сотворив чудо, приобрести большое число сторонников. Он опускал руку в воду и вынимал ее полную золотых монет. Когда этот пророк стал причинять беспокойство, саманидский наместник велел убить его[2160]. Зато годом позднее в Исфагане другому «коллеге» главы государства, как передают, был задан вопрос: может ли он при помощи чуда доказать, что он действительно пророк? Тот отвечал: если у кого-нибудь есть красивая жена или дочь, то пусть он ее приведет и он в течение часа одарит ее сыном — это, мол, его признак пророка. В ответ на это председательствующий катиб сказал, что он верит в него, а доказательство пусть останется при нем. Анекдот этот, однако, рассказывают еще и о дворе ал-Ма’муна[2161]. Другой из присутствующих предложил: так как нет у них красивых жен, то дать ему красивую козу. В ответ на это пророк собрался уходить; когда его спросили, куда он уходит, он ответил: Я иду к Гавриилу сообщить ему, что эти люди хотят козла, а пророк им не нужен. Тут все рассмеялись и не стали его задерживать[2162]. Название «лжепророк» (мутанабби) пало к тому времени настолько низко, что превратилось в кличку среди мальчишек, и отсюда получил свое имя поэт ал-Мутанабби (ум. 354/965)[2163].
Не было в этом столетии и недостатка в людях, которые, не имея таких высоких претензий, скромно и честно старались служить Аллаху по образцу верующих давних времен. Одной из весьма излюбленных в ту пору форм высшей набожности было никуда не выходить из дому, кроме посещения мечети в пятницу[2164]. Не признававший церковных обрядов поэт Абу-л-‘Ала (ум. 449/1057) дал обет вообще больше не выходить из дому. Многие жили в мечети[2165]. Халиф ал-Кадир ежедневно раздавал треть подаваемых ему кушаний живущим в мечетях[2166]. В 384/994 г. умер некий благочестивый человек, который в течение семидесяти лет не прислонялся к стене и не склонял голову на подушку[2167]. Ал-Худжвири встретил на самой дальней окраине Хорасана одного благочестивого человека, который на протяжении двадцати лет ни разу не садился, кроме тех случаев, когда того требовала молитва. «Ему-де не подобает сидеть, когда он находится перед Аллахом»[2168]. Другой сорок лет подряд ни разу не ложился в постель[2169]. Еще другой уже при жизни вырыл себе могилу рядом с местом упокоения преподобного Бишра и читал в ней так-то и так-то часто весь Коран[2170]. Ас-Саффар ал-Исфахани (ум. 339/950) на протяжении сорока лет ни разу не поднял головы к небу[2171]. В 336/947 г. в Мекке умерла одна благочестивая женщина, которая в течение целого года прожила на 30 дирхемов, которые дал ей ее отец[2172]. Один ученый (ум. 348/959) постился днем и каждую ночь съедал одну лепешку (гариф), оставляя один кусочек. По пятницам он отдавал свою лепешку как милостыню, а сам съедал сбереженные кусочки[2173]. В 404/1013 г. умер благочестивый муж, который по ночам окружал себя всевозможными колющими и режущими предметами, с тем чтобы пораниться, если он уснет. Он всегда появлялся либо с пробитой головой, либо с раной на лбу. Он никогда не ходил в баню, а также не брил головы. Когда волосы становились слишком длинными, он подрезал их ножницами для стрижки овец. Свою одежду он всегда стирал без мыла[2174]. Другой (ум. 342/953) имел обыкновение во время молитвы, плача, биться головой о стену, пока не показывалась кровь[2175]. Ал-Байхаки (ум. 438/1046) постился последние тридцать лет своей жизни, т.е. никогда не ел днем[2176].
К аскетам причисляли также и тех, кто в страхе слепо придерживался всех законов. В 400/1009 г. жил некий ученый, который не вбивал гвоздя в стену своего дома, общую с соседом, чтобы не посягнуть на его право собственности. Кроме того, он дважды в течение года уплачивал налог из боязни, а вдруг подумают, что он считает его слишком низким[2177]. Некий человек, умерший в 494/1101 г., не желал есть рис из-за того, что рис во время роста требует так много воды, что каждый крестьянин-рисовод обманывает своего соседа при орошении[2178]. Третий же дал своему ребенку, которому жена соседа дала грудь, рвотное средство, ибо ребенок соседки был, мол, незаконно лишен молока[2179]. В конце концов и на халифском престоле также восседал аскет — это было то время, когда ал-Хаким в Каире решил возродить эпоху раннего ислама и вознамерился изгнать из религии все мирское. Около 400/1009 г. он закрыл дворцовую кухню, ел только то, что посылала ему мать, запретил повергаться перед ним ниц, целовать ему руку и обращаться к нему со словами «наш господин» (маулана). Он отрастил себе длинные волосы, отменил ношение над ним зонта и все царские регалии, отменил титулы и все неканонические поборы, возвратил обратно конфискованные им или его дедом имущества, в месяце мухарраме 400/1009 г. дал волю всем своим рабам мужского и женского пола, снабдив их всем необходимым, бросил своих фавориток в Нил в забитых гвоздями и нагруженных камнями ящиках — это чтобы отречься от сладострастия! Его наследник выезжал верхом на коне в полном царственном блеске, а халиф рядом с ним — верхом на осле в уздечке с железными углами, одетый сначала в одежды из белой шерсти, а потом из черной, на голове голубой платок (фута) с черной повязкой[2180].
Довольно часто сообщается об «обращении» с последующим удалением от суеты мирской жизни. Один ученый и поэт, ученик лексикографа ал-Джаухари, уйдя в самоуглубленность, совершил паломничество в Мекку и Медину. Он удалился от «мира» и просил ас-Са‘алиби ничего не публиковать из его ранних любовных стихов и хвалебных песен[2181]. Некий кади из Хорасана оставил нам стихотворение, в котором говорится, что юность его исчезла как сон, дело идет к смерти и другие будут драться за его наследство. К концу стихотворения он шесть раз произносит салам:
Прощайте вы, книги, которые я написал и украсил ясными мыслями.
Прощай и ты, похвала, что искусно я выковал и выткал в долгие ночи.
Прощайте, говорит вам человек, который так и не нашел того, чего страстно желал, а чего желал — не достиг.
Который, каясь, обратился к господу и молит его о прощении грехов и подлостей своих[2182].
Внезапные обращения чаще всего вызывались каким-нибудь изречением из Корана, отнюдь не производящим на нас такого сильного впечатления. В первой половине IV/X в. один высокопоставленный чиновник султана, подобно везиру, сопровождаемый пышной свитой, спеша проезжал по улицам города, как вдруг его слуха достигли слова 15-го стиха LVII суры, произнесенные каким-то человеком: «Разве не наступила пора для тех, которые уверовали, чтобы смирились их сердца при поминании Аллаха и того, что Он ниспослал из истины».
Услыхав это, он вскричал: «Да! Это время настало, о Аллах!» — сошел с коня, сбросил с себя все одежды, вошел в воды Тигра, прикрыв водой свою наготу, и оттуда раздарил все свое имущество. Какой-то прохожий отдал ему свою рубаху и халат, чтобы он мог выйти из воды[2183].
Напротив, другие пытались уберечь себя от наказания в день Страшного суда, лишь будучи при последнем издыхании. Когда в 331/942 г. Саманид Наср ибн Ахмад почувствовал приближение смерти, он велел соорудить у ворот своего дворца келью (хане), названную им «дом богослужения». Облаченный в одежды покаяния, он уединился там и посвятил себя религиозным упражнениям[2184]. Также и Му‘изз ад-Даула (ум. 356/966) перед смертью погрузился в себя, призвал богословов, и законоведов и стал выспрашивать их о сущности истинного покаяния и может ли он правильно его совершить. Они отвечали утвердительно и поучали его, что ему следует говорить и делать. Он пожертвовал в пользу бедных большую часть своих денег и даровал волю своим рабам[2185].
В те времена паломничество к святым местам из-за небезопасности дорог в арабской империи бывало то просто невозможным, то опасным для жизни. Со времени появления карматов бедуины получали особую плату за то, чтобы они не трогали официальный караван паломников (кафилат ас-султан)[2186], например племя ‘усайфир — по меньшей мере 9 тыс. динаров[2187]. Кроме багдадского правительства к этой сумме добавляли также и другие правители; так, например, правитель ал-Джибала (Мидии) внес в 386/996 г. 5 тыс. динаров[2188]. В 384/994 г. бедуины, отказались пропустить караван паломников, мотивировав свой отказ тем, что динары последнего года были лишь позолоченными серебряными монетами, и потребовали выплаты суммы за оба года. Переговоры закончились провалом, и паломники повернули обратно[2189]. В 421/1030 г. из Вавилонии совершали паломничество лишь те, кто имел верблюдов, способных к переходам по пустыне, и брал проводников, сопровождавших их от племени к племени. Каждый такой проводник получал в качестве жалованья 4 динара[2190]. Однако и в мирные времена паломничество было сопряжено с ужасными трудностями, даже и для непосредственных соседей Аравийского полуострова, из-за недостатка воды в пустыне. Ибн ал-Му‘тазз сравнивает неприятного человека, общения с которым он никак не может избежать, с водой во время паломничества, которую на каждой стоянке проклинают, но тем, не менее вынуждены пить[2191]. Фраза «он умер во время хаджа» до ужаса часто повторяется в биографиях. В 395/1004 г. караван паломников на обратном пути испытывал такой острый недостаток в воде, что люди мочились в пригоршню и пили эту жидкость[2192]. В 402/1011 г. бурдюк воды стоил 100 дирхемов[2193]. В 403/1012 г. бедуины спустили воду из водоемов, расположенных вдоль дороги паломничества, а в колодцы набросали горьких колючек. В результате 15 тыс. паломников погибли или были взяты в плен. Наместник Куфы, который должен был заботиться о состоянии караванной дороги паломников[2194], предпринял карательную экспедицию, в ходе которой было убито много бедуинов, а 15 человек, взятых в плен главарей, отправлены в Басру. Там их кормили одной лишь солью, привязав к столбам на берегу Тигра, и в конце концов они все погибли от жажды. Только через несколько лет было совершено нападение на наиболее виновное в этой истории племя бедуинов бану Хафаджа, и находившиеся у них в плену паломники, которых хозяева заставляли пасти овец, были освобождены. «Они вернулись домой, но имущество их было уже поделено, а жены их повыходили замуж»[2195]. Передают, что в 405/1014 г. вновь погибли 20 тыс. паломников, а 6 тыс. спаслись только потому, что пили верблюжью мочу и ели верблюжье мясо[2196]. Еще другое водное бедствие постигало паломников — это хорошо известные яростно вздувающиеся дождевые потоки в пустыне. В 349/960 г. «египтяне-паломники раскинули свои палатки в одной долине близ Мекки. Но не успели они оглянуться, как все были снесены неожиданно налетевшим потоком. Очень много египтян утонули, и поток воды вынес их в море вместе с их пожитками»[2197].
Особо набожные люди совершали хадж пешком, причем один делал по два рак‘а у каждого путевого столба[2198]. Суфию надлежало пускаться в этот страшный путь без снаряжения и без денег[2199]. Полной противоположностью им были люди, за плату совершавшие за других это священное путешествие, «сердца которых извращены и станут еще извращеннее по их возвращении. Кроме того, это не приносит им пользы: некоторые из них по два-три раза совершали хадж, но я не видел у них ни благодати, ни денег»[2200].
Возвращение паломников всякий раз превращалось в радостное торжество. Перед Багдадом, в предместье ал-Йасириййа, еще раз останавливались на ночевку, чтобы па следующий день со свежими силами радостно вступить в город[2201]. Тех, кто следовал дальше на восток, принимал халиф. В 391/1000 г. халиф ал-Кадир использовал это большое торжество, чтобы объявить своего сына престолонаследником[2202].
Многие местные святыни понемногу вели подкоп под великое паломничество[2203]. Если утверждали, что десять посещений святыни Ионы близ Ниневии равняются одному хаджу в Мекку[2204], то это несомненно типично, и более значительные святыни наверняка предлагали еще более высокий процент[2205]. В первую очередь приспособил к новым условиям свою былую притягательную силу Иерусалим. Есть сообщения, датируемые еще V/XI в., что ко времени хаджа люди, которые не могли попасть в Мекку, отправлялись в Иерусалим и там устраивали жертвенный праздник. Туда собиралось более 20 тыс. мужчин. Там же производили и церемонию обрезания мальчиков[2206]. Мы имеем также сведения об искусственном перенесении мест паломничества по типу наших кальварий[2207]. Так, халиф ал-Мутаваккил (III/IX в.) выстроил в Самарре ка‘бу, с пространством для ритуального обхода <таваф> вокруг святыни; построил он также и станции паломничества Мина и ‘Арафа, «чтобы ему не приходилось больше выдавать своим военачальникам разрешения на хадж, опасаясь при этом, что они изменят ему»[2208].
Однако следует отметить, что в то время в суфийских кругах имелось мощное течение против паломничества вообще. Говорят, что кто-то из ранних суфиев убедил одного паломника повернуть обратно и лучше заботиться о своей матери[2209]. В уста одного суфия, умершего в 319/931 г., вложены следующие слова: «Я удивляюсь тем, кто странствует через пустыни и глухие места, чтобы найти дом Аллаха и святыню только из-за того, что там есть следы его пророка. Почему они не пройдутся по своим собственным стремлениям и страстям, чтобы обрести свои сердца, где есть следы Аллаха»[2210]. Абу Хаййан ат-Таухиди, му‘тазилит и суфий, написал приблизительно в 380/990 г. «Книгу об умственном хадже (хаджж ‘акли), когда предусмотренный законом хадж слишком обременителен»[2211]. Когда в V/XI в. везир Низам ал-Мулк снаряжался совершить паломничество, то некий суфий написал ему, заклиная именем Аллаха: «Зачем ты направляешься в Мекку? Хадж твой здесь. Оставайся у этих тюрков (сельджукских правителей) и помогай нуждающимся моей общины»[2212]. И даже сам ал-Худжвири — характерный тип суфия V/XI в., идущего на компромисс, заявляет: «Совершенно безразлично, быть ли в Мекке без Аллаха или дома без Аллаха, так же как безразлично, быть ли дома с Аллахом или в Мекке с Аллахом»[2213].
Впрочем, создается также впечатление, что образованные круги того времени в соответствии с растущим почитанием пророка делали особый упор на посещении Медины. Уже знаменитый ал-Бухари писал свою хронику (та’рих) у могилы пророка[2214]. Ученик филолога ал-Джаухари говорит: «Я пришел на ногах, но желал бы, чтобы я мог идти на зенице ока; почему я не могу идти на уголках глаз к могиле, где покоится посланник Аллаха»[2215]. Также и везир Кафур в Египте, покровитель знаменитого традиционалиста ад-Даракутни, покупает себе в Медине дом бок о бок с могилой Мухаммада, в котором он желает быть погребенным[2216]. Один бывший везир (ум. 488/1095) служит в «саду избранного», подметает мечеть пророка в Медине, расстилает циновки и чистит лампы[2217].
Обязательное участие в священной войне все еще соблюдалось крайне строго, и многие благочестивые мужи искали заслужить небо «на пути божьем». В Таре, в эти ворота вылазок против исконного врага ислама — Византии, со всех сторон стекались воители за веру, а также и благочестивые пожертвования тех, кто сам был не в состоянии принять участие в священной войне. «От Сиджистана и до Магриба не было ни одного более или менее значительного города, который не держал бы в Тарсе своего двора (дар), где вставали на постой воины, прибывающие из этих городов. Много денег и щедрые подаяния притекали к ним с их родины, не считая того, что отпускало им правительство. Каждый знатный человек жертвовал на это свое имение или прочие доходные места»[2218]. Жителей пограничных крепостей так хорошо принимали в Багдаде, что филолог ал-Кали (ум. 356/967) по этой самой причине выдавал себя за уроженца армянского города Каликала[2219]. А доходным приемом нищих по всей арабской империи была ложь, что собирают, мол, они деньги на святую войну или для выкупа военнопленных. Многие из этих обманщиков, чтобы произвести более сильное впечатление, выпрашивали милостыню, сидя верхом на лошади[2220]. В Египте на пограничных заставах (мавахиз) были размещены солдаты (ахл ад-диван) и добровольцы (муттавви‘а). Пожертвования верующих на ведение войны (сабил) собирались каждый год; они поступали в распоряжение кади, который направлял их на границу в месяце абиб[2221]. Второй по значению военной областью была Трансоксания, жители которой отличались среди всех прочих мусульман необычайной готовностью пожертвовать своей жизнью. «В мусульманских областях люди зажиточные расходуют большую часть своих денег на ублаготворение своей персоны и на дурные дела, а вот богатые в Трансоксании используют свои средства, за небольшими исключениями, на содержание постоялых дворов и уход за дорогами, на священную войну и прочие похвальные дела»[2222]. Говорят, что Байкенд между Бухарой и Оксусом (Амударьей) имел около тысячи приютов для борцов за веру, а в г. Исбиджаб даже 1700 приютов, где нуждающиеся обычно находили еду для себя и фураж для своих животных. Рвение, проявляемое в делах священной войны, гнало этих жителей восточных областей во времена выдающихся успехов византийцев даже на западную границу. В 355/965 г. на восточной границе северной части государства Бундов появилось около 20 тыс. «борцов за веру» вместе со слонами, однако их организации не имела ничего общего с организацией священных войн, сообщал комендант границы, у них даже не было общего предводителя, просто жители каждого города имели своего начальника. Везир надеялся, что ему удастся удовлетворить их незначительной долей того, чем обычно снабжались борцы за веру, но они потребовали выдать им весь земельный налог страны: «Вы собрали его в казну верующих на случай беды, а какая беда может быть больше, когда греки и армяне стали хозяевами над нашими границами, а верующие слишком слабы, чтобы отстоять их?» Кроме того, они потребовали, чтобы к ним примкнули отряды правителя. Но так как их требования не были удовлетворены, они возмутились, упрекали правительство в неверии и всю ночь сновали по городу, вооруженные мечами, копьями, луками и стрелами, и забирали у населения — а дело было в рамадане, и поэтому ночью все были на улице — платки и головные повязки. Всю ночь напролет в их лагере гремели барабаны и они грозили дать сражение. Поутру они атаковали дом везира, который при этом был ранен копьем и вынужден был убраться во дворец повелителя. Его дом, конюшни и кладовые были разграблены, и когда везир ночью вернулся к себе, то не нашел там ни на что сесть, ни из чего напиться воды. В конце концов удалось все же одержать победу над этой неорганизованной толпой и устранить угрозу. Если бы они выступили со всем тем снаряжением, что у них было, им удалось бы добиться от греков всего, и многие борцы за веру из числа верующих примкнули бы к ним. «Однако распоряжается всем Аллах»[2223].
Когда халифу ‘Абд ал-Малику как-то заметили: «Ты рано состарился!» — он отвечал: «В этом нет ничего удивительного, ведь я должен каждую пятницу упираться моим разумом в рассудок людей!». Передают также, что, кроме этого, он заявлял: «Править было бы совсем хорошо, но без цокота копыт почтовых лошадей и твердого дерева минбара»[2224]. Впрочем, и для других великих людей ислама еженедельно выступления перед общиной тоже были тяжкой повинностью, а у правителей, более привычных к мечу, чем к книге, зачастую случались крупные промахи, так, например, они преподносили общине стихи поэтов-язычников за слова Аллаха[2225]. Говорят, что Харун ар-Рашид был первым, кто приказывал другим писать ему проповеди и потом выучивал их наизусть. Его сын ал-Амин получил от своего воспитателя грамматика ал-Асма‘и десять проповедей, составленных для произнесения с минбаров мечетей[2226]. В III/IX в. также и в этой небольшой сфере появились признаки того, что наивные времена ислама прошли: халифы и сановники отходят от еженедельного произнесения проповедей и уступают эту обязанность профессиональным проповедникам[2227]. Уже в годы правления ревностного в делах веры ал-Мухтади (255—256/866—867) сообщают как о чем-то особенном, что он каждую пятницу поднимался на минбар соборной мечети[2228]. К концу III/IX в. ал-Му‘тадид, правда, еще предстоял на молитве на поле боя, но уже никогда не произносил проповедей[2229]. Только еще во время празднеств халиф поднимался на минбар, но когда халиф ал-Мути‘ (334—363/945—974) в дни Байрама, которым завершался рамадан, пожелал произнести проповедь, то оказалось, что у него нет традиционных навыков в обращении со словами молитвы[2230]. От его преемника ат-Та’и‘ сохранилась одна проповедь, произнесенная им во время праздника жертвоприношения [‘ид ал-курбан] в 363/974 г. Она совсем короткая, только одной фразой касается легенды, связанной с этим праздником, и звучит, если опустить некоторые фразы, так: «Аллах велик! Аллах велик! Нет иного божества кроме Аллаха! Аллах велик! Он поставил меня управлять общиной и т.д.… Аллах велик! Аллах велик! Он поручил мне защиту людей, их имущества, их жен и детей, разбил моих врагов и в населенной земле и в пустыне и поставил меня хорошим наместником своим над землей и над тем, что в недрах ее. Аллах велик! Он повелел своему пророку и другу принести в жертву отца нашего Исма‘ила, и тот был усерден в повиновении пролить кровь свою и не устрашиться. Так придите же к Аллаху в этот великий день с жертвенными животными, ибо жертвы исходят от упования сердец на него! Аллах велик! Аллах велик! И да помолится Аллах о Мухаммаде-избраннике, о доме его, и о спутниках его, и о моих отцах, благородных халифах, и да поможет мне в правлении моем и укрепит меня в халифате, который он мне дал.
Я предостерегаю вас, о верующие, от любви к сему миру, не склоняйтесь к тому, что проходит, расходится и прекращает существовать. Я страшусь за вас того дня, когда вы предстанете перед Аллахом и вам будет зачитана ваша страница в книге. Пусть даст Аллах нам и вам творить дела богобоязненных. Я прошу Аллаха о прощении для меня, и для вас, и для всех верующих»[2231].
Напротив, фатимидские правители, которые особенно резко подчеркивали важность церковного ритуала, каждую пятницу неизменно всходили на минбар. Они читали проповеди по рукописи, которую вручала им придворная канцелярия (диван ал-инша)[2232]. Ал-Хаким, например, до постройки мечети, названной его именем, одну пятницу произносил проповедь в мечети ‘Амра, вторую — в мечети Ибн Тулуна, третью — в мечети ал-Азхар, а четвертую пятницу отдыхал[2233].
Хутба — не проповедь в западном понимании значения этого слова, она скорее является лишь той частью богослужения, которая предоставляет отправляющему службу более свободы, нежели другие его части. Поэтому вовсе не каждую пятницу ожидали услышать что-нибудь новое. В отношении одного проповедника в Нишапуре (ум. 494/1101) особенно подчеркивалось, что он каждый раз готовил новую проповедь[2234].
Самым прославленным проповедником IV/X в. был Ибн Нубата (ум. 374/984) — придворный проповедник Сайф ад-Даула в Алеппо. Собрание его проповедей может лучше всего рассказать об искусстве проповедей той эпохи. Поскольку пророк Мухаммад никак не был хорошим оратором, как об этом говорит мусульманская традиция, то это способствовало тому, что ислам при всех прочих его недостатках все же не стал религией болтунов, что отвратительнее всего в религии. «Он повелел долго молиться, но кратко читать проповедь»[2235], и поэтому собственно проповедь длилась у Ибн Нубаты едва ли пять минут[2236]. Проповеди предпосылалась краткая хвала Аллаху и молитва за пророка, затем проповедник садился, чтобы вскоре выступить и произнести церковную молитву, так называемую вторую проповедь (хутба санийа). «Коротко, как пребывание проповедника на минбаре»,— сетует поэт той эпохи Ибн Хамдис по поводу мимолетного свидания с возлюбленной[2237]. Собственно проповедь неизменно заканчивалась у Ибн Нубаты словами из Корана, а затем следовала стереотипная концовка: «Аллах да благословит нас и вас этими словами и благочестивой молитвой. Я прошу Аллаха о прощении для себя, для вас и для всех верующих»[2238]. Церковные молитвы также были несколько короче, чем в наши дни[2239], особенно то место, когда проповедник, обращаясь сначала вправо, а затем влево и наконец лицом вперед[2240], молит Аллаха о благословении пророку в высшей степени торжественно. Для проповедника оно было крайне важно, ибо как раз для этого места у него был запас разных вариантов, которые он мог применять по своему усмотрению[2241]. Во время молитвы за здравие своего местного повелителя он просит о ниспослании победы, если идет война. Например:
О Аллах, даруй победу эмиру такому-то над твоими врагами, строптивыми неверными, дерзкими злодеями,
Что отклонялись от указанного тобою пути,
Что обвиняют твое откровение во лжи
И возражают посланнику твоему!
Да не останется для него ни одного войска, которое бы он не уничтожил,
Ни одной пустыни, которую бы он не пересек,
Ни крови, которой бы он не пролил,
Ни беглеца, которого бы он не настиг,
Ни крепости, которую бы он не заставил сдаться и не разрушил,
Ничего святого, чем бы он не воспользовался и чего не осквернил бы,
Ничего высокого, чего бы он не унизил и не подчинил!
О Аллах, даруй ему победу над вратами твоими и дай ему схватить их за чубы,
Чтобы укротил он их и принудил бы их сойти с их твердынь,
Чтобы они в покорности платили ему подать за покровительство из близи иль издалека![2242]
Толкующая текст гомилия из-за краткости проповеди исключается. Обычная проповедь, произносимая по пятницам, издавна посвящалась, одной и той же теме: «Конец близок! Для отдельного человека это смерть и могила, а для Вселенной — день Страшного суда!». Эта тема придает проповеди порывистость, нервозность. Ее не интересуют скромные радости и горести жизни, ибо тот, кого преследует рев преисподней, не нагнется к придорожному цветку. Говорят, что уже ‘Али с энтузиазмом обращался в своих проповедях к молящимся: «Бегите, бегите, спасайтесь, спасайтесь! Позади вас ловец (геенна), гонимый поручением своим, поспешно приближается он!» Слишком безмятежным и уютным было бы даже описание блаженств неба и мучений ада. Весь огонь риторики концентрируется на одном моменте: эта жизнь и этот мир в ужасе идут к концу. Дело было в том, чтобы громким голосом напомнить людям, которые более чувственно и более непосредственно жили сегодняшним днем, чем мы, о приближении конца.
Так, например, Ибн Нубата[2243]:
Отрясите сердца от перины беспечности
И гоните души прочь от напитков их страстей,
Укротите их необузданность мыслью о натиске смерти
И страшитесь для ваших грехов того дня, когда они будут опознаны по их клейму.
Думайте о том, кто призывает из выси небес, кто оживляет кости
И собирает народы там, где приходит конец заблуждениям,
А страдание и раскаяние будут долгими.
О призывающий, который заставляет насторожиться истлевшие останки,
Который собирает исчезнувшие тела
Из гнезд птиц и из мяса диких зверей,
Со дна морского и горных хребтов,
Пока каждый член не будет на своем месте
И каждая частица не восстанет из тлена.
Тогда вы одумаетесь, о люди,
В страшный час
С лицами, запыленными от вихрей земли
И бледными от страха,
Босыми, нагими — как вы были в начале начал.
Созывающий заставляет вас внимать, а взор его пронзает вас,
В поту укрощены вы и прахом засыпаны.
Земля сотряслась и заколебалась со всем, что на ней,
Горы раздроблены и сметены вихрями Воскресения.
Широко отверзты очи,
Ни единый глаз не моргнул,
Пространство заполнилось небесным и земным.
В то время как твари стоя ожидали подтверждения пророчеств
И ангелы стояли рядами на своих местах,
Смотри, вот окутал их мрак
Преисподней и охватил их пожар медно-красного пламени,
И они слышали в нем клокотание
И клекочущее храпение
От сильной ярости и гнева.
Тогда упали они на колени,
Виновные уверились в неминуемой гибели,
Даже и чистые [души] боялись дурной участи,
И пророки потупили головы перед владыкой страха.
Было возглашено: «Где раб Аллаха и где сын его раба?
Где тот, кто сам себя обольщал в своем заблуждении?
Где тот, кто был похищен смертью, когда он не думал об этом?»
Его узнали по его приметам и привлекли просмотреть его счет
И засвидетельствовать, какой же задаток внес он в течение жизни.
Он должен был принести свои оправдания,
И устрашенный стоял он перед тем, кто ведал его наисокровеннейшее.
Тот говорил, как молния,
И выговаривал как ударами [дубины]
Пред свидетельством книги, собравшей все грехи,
И точности [такого] учета,
Который пресекал все оправдания.
И тогда боялся, стоя перед Аллахом,
Тот, кто вверг душу свою в долги, но не нашел среди товарищей своих ни помощника, ни плательщика,
Но нашел судью справедливым и верным.
«И увидели грешники огонь и подумали, что они туда попадут. И не нашли от этого избавления»[2244].
Аллах да обратит нас и вас на путь блага,
Да снимет он с нас и с вас бремя мрака и да сделает чистое учение о едином боге нашим светом во мраке Воскресения!
Обильнейший источник мудрости
И ярчайший свет во мраке — есть слово творца.
Далее, обращаясь к чтецу Корана, который сидел на возвышении против минбара,— обряд, заимствованный из христианской церковной службы: «И когда дунут в трубу единым дуновением» и до слов: «и не утаится у вас тайное»[2245].
О небе говорится очень мало, и ни словом не упоминается столь широко распространенная у нас тема свидания за гробом. Ужас перед воскресением из мертвых и Страшным судом был слишком велик! Слова одной знатной арабки: «Я тоскую по воскресению из мертвых, чтобы вновь увидать лицо моего мужа»,— часто упоминаются как потрясающий пример любви, побеждающей самое страшное[2246].
Все проповеди Ибн Нубаты написаны рифмованной прозой, причем конечные рифмы звучат, как органный контрапункт. Это также новшество, начало которому было положено только около середины III/IX в. и которое теперь переживало свой расцвет[2247]. Ибн Халликан называет одного более позднего проповедника, который, совершенно сознательно избегая этой формы, вернулся к манере старых проповедников[2248]. В остальном же и в этом отношении IV/X век заложил форму и нормы для более позднего ислама[2249]. Если «риторические проповеди христиан, произносившиеся в дни больших праздников, были не чем иным, как гимнами в прозе»[2250], то это полностью относится и к мусульманской проповеди IV/X в. Сходство между нею и произносившейся также рифмованной прозой проповедью угасающего древнего христианства слишком велико, чтобы можно было отвергать влияние последней на мусульманскую проповедь. Весьма возможно, что даже и стиль Корана происходит из такой проповеди.
Среди торжественных проповедей сборники Ибн Нубаты содержат проповеди, приуроченные к Новому году, ко дню смерти пророка, а также проповеди, произносившиеся в дни священных месяцев раджаб и рамадан, в дни праздника Байрам. Но совершенно особым видом, порожденным воинственными временами Сайф ад-Даула, являются проповеди о священной войне, написанные Ибн Нубатой для того, чтобы не отставать от знаменитых образцов раннего ислама[2251].
О люди, как долго будете вы внимать предостережению, не постигая его смысла?
Как долго будете вы разрешать сечь себя плетьми, не шевелясь при этом?
Уши ваши как будто смывают обещания проповеди
Или ваши сердца будто слишком горды, чтобы их сохранить.
А враг ваш распоряжается по своему произволу в вашей стране
И достигает того, на что он вознадеялся, ибо вы более ленивы, чем он.
Призвал его дьявол служить лжи, и он последовал ему.
Вас же призвал милосердный к истине своей, но вы не пошли.
Звери сражаются за самку и детеныша,
И вот эти птицы умирают, защищая свое гнездо,
А ведь у них нет ни Откровения, ни пророка,
Вы же, имеющие разум и рассудок, законы и решения,
Вы бросаетесь врассыпную перед вашим врагом, подобно верблюдам,
И кутаетесь перед ним в одежды слабости и трусости,
А ведь вам скорее пристало бы
Вторгнуться в их страну,
Ибо вы ведь защищены словом Аллаха
И верите в его награду и кару его.
Аллах отметил вас силой и мощью
И сделал вас лучшим народом Вселенной.
Где же защита веры?
Где же терпение надежды?
Где же боязнь перед пылающим пламенем?
Где же доверие к поручительству милосердного?
Ведь он же сказал в Книге святой:
«Да, если вы будете терпеливы и богобоязненны и они придут к вам стремительно,— тогда поможет вам Господь пятью тысячами ангелов отмеченных».
«Аллах сделал это только радостной вестью для вас и чтобы от этого успокоились ваши сердца. Помощь — только от Аллаха, великого, мудрого…»[2252]
Аллах требует от вас веры и терпения,
Он порука вам в помощи и победе.
Может быть, вы не доверяете его поруке или, может, сомневаетесь в его справедливости и доброте?
Так бегите ж взапуски на священную войну с чистым сердцем и сильные духом,
С готовностью к подвигам и с сияющим лицом!
Принимайте твердые решения и сорвите с ваших голов повязку позора и слабости,
Вручите ваши души тому, кому они больше принадлежат, чем вам самим!
Не полагайтесь на осторожность — она не прогонит от вас смерть.
«О вы, которые уверовали! Не будьте, как те, кто не веровал и говорил своим братьям, когда они двинулись по земле или совершали поход:
„Если бы они были при нас, то не умерли бы и не были бы убиты“… Чтобы Аллах сделал это огорчением в их сердцах. Поистине, Аллах оживляет и умерщвляет. И Аллах видит то, что вы делаете!»[2253]
Война, война, о неустрашимые!
Победа, победа, о стойкие!
Рай, рай, о вы, смельчаки!
Ад, ад, о вы, беглецы!
Священная война — это прочнейшая основа веры,
Широчайшие ворота стража райских врат, лестница, ведущая к высочайшим небесным садам.
Кто верен Аллаху — тот стоит между двумя уделами, достойными того, чтобы их добиваться:
Или счастье в победе на этом свете,
Или жизнь без мучений на том свете.
Из них самое несчастливое — самое приятное.
Так держитесь же Аллаха, ибо битва за Аллаха — надежный оплот от погибели.
«Поможет Аллах тому, кому он поможет,— ведь Аллах силен, славен»[2254].
Самое прекрасное из того, что говорили наиболее красноречивые проповедники,
И самое лучезарное, что освещает ночь сердец,— это слово всемогущего, дающего.
Читай: «О вы, которые уверовали! Почему, когда говорят вам: Выступайте по пути Аллаха! — вы тяжело припадаете к земле? Разве вы довольны ближней жизнью больше последней? Ведь достояние ближней жизни в сравнении с будущей — ничтожно.
Если вы не выступите, накажет вас Аллах мучительным наказанием.
И заменит вас другим народом. А вы ни в чем не причините Ему вреда: ведь Аллах мощен над всякой вещью!»[2255]
Правительство предписывало проповедникам только носить определенные цвета: там, где молились за аббасидских халифов, проповедник носил облачение официального черного цвета, а в областях Фатимидов — белого. Так как вообще не существовало ни духовенства, ни священнического облачения, то в вопросе одеяния проповедника равнялись на традиции провинций. В Вавилонии и в Хузистане, например, проповедники появлялись в полной военной форме — кафтан и поясной ремень[2256], в то время как в Хорасане проповедники не носили ни плаща, ни кафтана, а только один халат (дурра‘а)[2257]. В 401/1010 г. один фатимидский проповедник в Мосуле проповедовал в кафтане из белого египетского полотна — так было соблюдено требование официального цвета,— на голове у него была желтая повязка, штаны — из красной парчи и красные туфли[2258].
Только в Басре, этом городе благочестивых и святош Вавилонии, официальный проповедник произносил проповедь каждое утро — таков будто бы был обычай Ибн ‘Аббаса. Обычно же официальный проповедник ограничивался чтением проповеди по пятницам и предоставлял остальные дни недели добровольцам, которые еще с давних пор домогались этого. Называли их куссас — «рассказчики». Их историю написал Гольдциер[2259]; ал-Макризи[2260] тоже много привел о них в своем превосходном этюде. Он заставляет различать уже давно существовавшую традицию между «нежелательным» (макрух) рассказчиком и официальным проповедником, как его назначал уже ал-Му‘авийа, который после утренней молитвы должен был произносить зикр Аллах — «поминание Аллаха», молитву о пророке, молиться за халифа и его приверженцев, проклинать врагов и всех неверующих[2261]. Кроме того, по пятницам, после проповеди, он должен был читать и толковать Коран. Эта должность первоначально находилась в ведении кади. Однако это засвидетельствовано только в отношении Египта и являлось, вероятно, институтом еще египетской церкви[2262]. Назначенный еще в 204/819 г. египетский кади был еще «рассказчиком»[2263], затем связь между этими должностями прекращается, кади приобрел больший вес, а «рассказчик», напротив, скатился вниз. Поставленный в 301/913 г. касс изъявил желание ежедневно читать Коран, однако начальство разрешило ему читать только три дня[2264]. На Востоке во времена ал-Ма’муна деятельность касса и оказание ему поддержки считались делом благочестивым наряду со строительством мечетей, помощью сиротам и пожертвованиями на ведение священной войны[2265]. На Западе же касс был редким явлением[2266]. Передают, что Малик ибн Анас, основатель господствовавшего там направления, отрицательно относился к этой должности[2267]. В IV/X в. кассы полностью опустились к народу, которому они за хорошую плату, будь то в мечети или прямо на улице, преподносили благочестивые истории, легенды и анекдоты, с которым они вместе молились[2268], и народ сердечно любил их за это. В Багдаде богослову ат-Табари из-за его выступления против одного касса так забросали камнями входную дверь его дома, что вход оказался совершенно заваленным[2269]. Еще в конце IV/X в. они являлись главными зачинщиками вечных распрей между шиитами и суннитами[2270]. Сасанидская макама ал-Хамадани ставит их просто-напросто в ряды фокусников. Доверие благочестивых кругов они к этому времени уже полностью потеряли из-за легкомыслия, и верующие обратились к их преемникам, прозванным музаккирин. Назидательные сборища последних назывались маджлис аз-зикр[2271] и выросли из добровольных молебствий верующих, остававшихся после богослужения[2272]. Это название дали их проповедникам суфии[2273]. К эпохе соперничества между музаккирами и кассами относится изречение Абу Талиба ал-Макки: собрание зикра ценнее ритуальной молитвы, а ритуальная молитва ценнее, чем касс[2274]. Уже с чисто внешней стороны между ними существовало различие: «Есть три рода учителей богословия: сидящие на ступенях — это кассы; сидящие у колонн — это муфтии, а сидящие по углам (мечети) — это люди познания. Собрания ученых, посвятивших себя Аллаху, тех, кто подчеркивает единство Аллаха и людей познания,— это собрания зикра»[2275]. Музаккир старался обеспечить себе более достойное положение, чем его предшественник касс. Прежде всего это сказывалось в том, что он уже проповедовал не из головы, а читал по тетради (дафтар)[2276]. Еще и в наши дни сказитель в Багдаде рассказывает свои сказания о героях, не иначе как читая их по книжечке, в то время как презираемый им еврей-ахбари рассказывает свои анекдоты «из головы». Как обстояло дело во время их проповедей, показывают в некоторой степени те требования, которые предъявляет к музаккиру Абу-л-Лайс ас-Самарканди (ум. 375/985): он должен быть благочестивым, презирать мирское, не быть гордым, ни тем паче грубым; должен знать толкование Корана, историю и определения юристов; он не должен передавать хадисы, которые сам не признает достоверными, не должен быть корыстолюбивым, если же ему подают немного доброхотно, то это хорошо. В своих проповедях он не должен будить в слушателях только страх или только надежду, но и то и другое. Он не должен растягивать, свою проповедь, чтобы люди не скучали, иначе благодать знания пропадает. Если ему нужно говорить подольше, то он должен вставлять, что-нибудь такое, что приятно воздействует и вызывает улыбку. Напротив, слушатели должны между частями его повествования произносить: Хорошо! Правда! (ахсанта, саддакта), дабы музаккир полюбилрассказывать. Кроме того, они должны при всяком упоминании имени Мухаммада произносить формулу благословения и не спать во время проповеди[2277].
Заканчивались эти назидательные собрания тем, что все вставали и молились[2278].
Составленные в III/IX в. сборники законов упоминают о повторении отдельных слов молитв, как в ектенье, однако не придают этому совершенно никакого значения. Передают, что Мухаммад велел после каждой молитвы 33 раза произносить субхан Аллах, столько же раз «слава Аллаху» и столько же раз «Аллах велик»[2279]. Уже во II/VIII в. одного человека презрительно упрекают в том, что он якобы ничему не научился в Мекке, кроме хадисов о женщинах, того, чтобы взывать к Аллаху по тетрадке, и молиться по мелким камешкам[2280]. В сборнике ад-Дарими (ум. 255/869) описываются люди, которые, расположившись кружками, сидели в мечети, ожидали утренней молитвы, в руках они держали мелкие голыши. Каждый кружок имел своего предстоятеля, который командовал: «Повторите сто раз: Аллах велик! затем сто раз: Субхан Аллах». Камешки служили им для отсчета. Однако некий шейх, проходивший как-то мимо, весьма сурово набросился на них, говоря, что. им следовало бы лучше посчитать свои грехи[2281].
На протяжении всего III/IX в. «поминание» (зикр) продолжало, считаться чем-то неполноценным и богословские сочинения едва упоминают о нем. Лишь IV век отделил его от произвольной молитвы, посвященной достижению определенной цели — ду‘а, и понимал под зикром краткий тяжкий вздох, обращенный к Аллаху, приветствие, трапезную, вечернюю и утреннюю молитвы и стократные, раз и навсегда установленные обращения к Аллаху, которые сопровождают верующего на протяжении целого дня[2282]. Этому испытанию веры приписывали необыкновенно важное значение и вложили в уста пророка следующие слова: «Кто переступает ворота базара и произносит при этом: нет божества кроме Аллаха единого, не имеет он товарищей, принадлежит ему царство и величие, он оживляет и умерщвляет, он живет и не умирает, в руке его добро и он мощен над всякой вещью! Кто это произносит, тому Аллах заносит в счет тысячу раз тысячу добрых дел, вычеркивает тысячу раз тысячу дурных дел и возносит его на тысячу раз тысячу ступеней»[2283].
Египетский кади Абу Зур‘а (ум. 302/914) преподнес эмиру Хумаравайхи лепешку хлеба, над которой он прочитал десять отрывков из Корана и десять тысяч раз произнес: «Скажи: Аллах един»[2284]. Эти последние слова некий ученый в Мекке (ум. 425/1034) произносил каждую неделю по шесть тысяч раз[2285]. Уста ал-Бушанджи (ум. 467/1074) никогда не отдыхали от «упоминания Аллаха». Однажды, когда к нему пришел брадобрей и попросил его не шевелить губами, чтобы он мог подстричь ему усы, тот ответил: «Скажи времени, чтобы оно остановилось»[2286]. Один ученый после своей смерти явился другому ученому во сне в украшенной драгоценными камнями диадеме — он получил прощение благодаря многократному повторению формулы благословения пророка[2287]. А один суфийский источник приводит даже заверение самого пророка, что в последний судный час не будет осужден тот, кто произносил: Аллах! Аллах![2288]
Вместо камешков (см. выше) или косточек оливок[2289] теперь для отсчета молитв пришли с востока четки (субха). Исторически достоверно их употребление можно отметить впервые по стихотворению Абу Нуваса, который при халифе ал-Амине (193—198/808—813) сидел в тюрьме и просил везира ал-Фадла ибн ар-Раби‘ даровать ему свободу следующими словами:
Ты, Ибн Раби‘, приучил меня к благочестию…
Четки (масабих) висят у меня на руках, а Коран — на шее, подобно ожерелью[2290].
В III/IX в. богословы и образованные круги относились к четкам с еще меньшим уважением, чем даже к самой ектенье; они появлялись лишь в руках женщин и святош, считалось не делом для таких выдающихся людей, как ал-Джунайд (ум. 297/909), пользоваться ими[2291]. Еще в V/XI в. четки упоминаются как специфический реквизит женщин-суфиев[2292].
С давних пор одним из наиболее жизненных религиозных отправлений ислама являлась добровольная покаянная проповедь (мау‘иза), которой с большим рвением предавались как обладающие даром красноречия ученые, так и неграмотные люди. Чаще всего они выступали как проповедники в пост в дни рамадана или же по пятницам, после молитвы. Так по крайней мере обстоит дело в Египте в наши дни[2293]. Высокопоставленные особы посылали за известными мастерами покаянных проповедей и приказывали им: «Нагони на меня страху или прочти мне проповедь!» — и нередко приходилось им выслушивать мнения, высказанные много грубее, чем это им нравилось[2294]. Что же касается простого населения городов с его восприимчивостью к ораторскому искусству, то для них публичный проповедник обладал исключительной притягательной силой. Свою миссию удовлетворения жадной иллюзии публичности он делил с военными или религиозными шествиями, с празднествами, фокусниками и поэтами. Зачастую проповедники становились жертвами опасностей, связанных с этой миссией, и превращали свою должность в прибыльное дело; едва ли и в наше время потеряли силу слова ал-Джаубари в отношении этих проповедников: «Они являются высшей ступенью обманщиков (бану Сасан)»[2295]. Однако надо сказать, что уже в IV/X в. были благочестивые люди, которые с неодобрением взирали на эти проповеди (джулус ли-л-‘иза)[2296], притом не без оснований. Крупные проповедники были натурами артистическими и как блестящие ораторы любили также и блестящий образ жизни. Знаменитейшим в Багдаде публичным проповедником (ва‘из) был в IV/X в. Абу-л-Хусайн ибн Сам‘ун (300—387/912—997)[2297]. Имея обыкновение красиво одеваться и вкусно есть, он объяснял это следующим образом: «Если ты с Аллахом в хороших отношениях, то можешь носить самые мягкие одежды и вкушать тончайшие яства, это тебе не повредит». Согласно дневнику ас-Сахиба, который слушал его в Багдаде, он был суфием. Произнося свои проповеди, он восседал на стуле из ценного тикового дерева[2298]. Когда ‘Адуд ад-Даула запретил произнесение в Багдаде каких бы то ни было назидательных речей, чтобы не усугублять напряжения, создавшегося между шиитами и суннитами, Ибн Сам‘ун все же продолжал проповедовать. Он был доставлен к эмиру и до слез растрогал зачерствевшее сердце солдата чтением стихов из Корана, единственный раз в его жизни[2299]. Кроме того, он еще творил чудеса. Так, хромую девчонку он исцелил, наступив на нее. Один из слушателей, сидевший близ его стула, заснул во время проповеди. Ибн Сам‘ун сразу же умолк и молчал целый час, пока этот человек не проснулся и не поднял голову. Тогда проповедник сказал: «Ты видел во сне пророка. Я молчал, чтобы не мешать тебе и не сокращать твое счастье»[2300]. Халиф ат-Та’и‘, страдавший приступами вспыльчивости, приказал доставить к нему в один такой момент проповедника; тот рассказывал ему истории об ‘Али, приводил его слова, пока успокоившийся халиф не стал так плакать, что платок, его промок насквозь. Тогда проповедник прекратил свои речи, а повелитель велел вручить ему бумажный пакет, в котором были благовония и т.п.[2301]
За полстолетия до него его наиболее знаменитого коллегу ‘Али ибн Мухаммада (ум. 338/949) из-за его многолетнего пребывания в Египте называли ал-Мисри. Он закрывал свое лицо покрывалом, чтобы своей красотой не вводить в искушение слушающих его женщин[2302]. Другой народный проповедник, ‘Абдаллах аш-Ширази (ум. 439/1047), жил сначала в заброшенной мечети и собрал вокруг себя множество бедняков. Затем он сбросил с себя рубище аскета и облачился в мягкие одежды. Под конец он стал проповедовать священную войну, объявил себя военачальником и отправился во главе значительного войска в Азербайджан[2303].
В IV в.х. в Багдаде появилась даже и женщина, ведшая проповедь покаяния, Маймуна бинт Сакула (ум. 393/1002) «с языком сладким в проповеди». Она вела аскетический образ жизни и однажды сказала: «Эту мою рубаху я проносила до сего дня 47 лет, и она не порвалась; ее мне выткала еще моя мать. Одежда, в которой не грешат против Аллаха, никогда не рвется»[2304].
Положение этих людей было в то время в высшей степени неофициальным: мы не располагаем, например, сведениями ни об одном признанном ученом той эпохи, выступившем в качестве народного проповедника, в то время как Ибн ал-Джаузи двумястами лет позже, как говорят, имел сотни тысяч слушателей, когда выступал со своими проповедями[2305].
Однако ислам был столь мало клерикальным установлением, что спокойно допускал подобных религиозных партизан на минбары мечетей. Только они в отличие от официальных пятничных проповедников выступали не стоя, а сидя на стуле (курси). Например, крупный проповедник покаяния Йахйа ибн Ма‘д ар-Рази (ум. 258/872) взбирался в Ширазе на минбар, произносил несколько стихов приблизительно следующего содержания: неправеднейшим проповедником является тот проповедник, который поступает не так, как он говорит; затем он слезал со стула (курси) и больше уж ничего не произносил на протяжении целого дня[2306]. Так же обычно поступал, по крайней мере в Египте, старший собрат этих проповедников — рассказчик легенд, который сначала стоя читал Коран, а затем сидя развлекал назидательными историями своих слушателей[2307]. Этот обычай, должно быть, также уходил своими корнями в эпоху древнего христианства, ибо еще и в наши дни католический великопостный проповедник произносит свои проповеди не с кафедры, а с возвышения посреди церкви и чаще всего сидя при этом на стуле. То, что этим проповедникам подавали записки, на которые они должны были давать ответы, я в состоянии подтвердить лишь на основе источников VI в.х.[2308] При фатимидском дворе, носившем клерикальный характер, такой проповедник принадлежал к числу придворных чиновников и по рангу следовал за личным секретарем халифа. Его обязанностью было читать халифу проповеди о слове Аллаха, рассказывать истории про пророков и халифов. Всякий раз по окончании проповеди он получал бумажный пакет (кагид), засунутый в чернильницу, с десятью динарами и пергаментный пакет (картас) с драгоценными благовониями, чтобы он мог умастить себя ими к следующей проповеди[2309].
За небольшими исключениями[2310], мечети были открыты день и ночь, но исключения все же были. Согласно закону они могли служить местом ночлега для бездомных, странников и кающихся, благодаря чему многим смягчены были тяготы жизни. Существует история, повествующая о том, как среди прочего люда в мечети ночевал также и заклинатель змей, как ночью открылась его корзина и страшные твари стали ползать в потемках, так что рассказчик провел долгую и страшную ночь, стоя на цоколе колонны[2311]. Впрочем, и днем «дома Аллаха»[2312], по крайней мере в городах, пустовали редко. Они являлись как бы клубом и народным домом одновременно, особенно соборная мечеть города, где в течение дня отправлял правосудие кади[2313], а ученые имели свои «кружки». Места последних были застелены их молитвенными циновками, и знаком того, что власти недовольны каким-нибудь ученым и его группой и запрещали их лекции в мечети, было то, что их молитвенные циновки выбрасывали на улицу. Очень шумно было по вечерам, когда просыпалась жизнь Востока. Около этого времени ал-Мукаддаси нашел главную мечеть в Фустате «битком набитой кружками ученых-юристов, знаменитейшими чтецами Корана, литераторами и философами. Я ходил туда, говорит он, с несколькими жителями Иерусалима, и порою, когда мы сидели, углубившись в беседу, мы слышали как сзади и спереди нас окликали: Поверните ваши лица к собранию! Мы оборачивались, и вот оказывалось, что мы очутились между двумя кружками. Таких кружков я насчитал 120»[2314].
В Египте люди чувствовали себя в мечети более непринужденно, чем где бы то ни было. Житель восточных областей Ибн Хаукал, попав в Фустат, с удивлением наблюдал, как люди в мечети обедают, как продавцы хлеба и воды занимаются там своим делом[2315]. А сириец ал-Мукаддаси сообщает, что египтянин частенько плюет в мечети и очищает свой нос, пряча выделения под циновку[2316]. Маленькая мечеть, расположенная в непосредственной близости, служила верующему, живущему под ее сенью, как бы вторым домом, который оказывал ему и его соседям множество мелких услуг: торговец, открывая свою лавку, сносил в нее ставни (даррабат)[2317], которыми лавка была закрыта; в Фарсе после утраты близкого человека сидели по три дня подряд в мечети, чтобы принимать соболезнования[2318]. Мечеть оставалась известным из антропологии «мужским домом» (байт ан-нида), которым она первоначально являлась. Там всегда можно было найти общество для беседы[2319], по утрам там обсуждались ночные происшествия[2320], там декламировали стихи; она была местом, где завязывались всевозможные любовные похождения[2321], и основным полем действий мошенников, как свидетельствуют оба известных сборника макам[2322].
К более позднему периоду относится следующая история: «В 613/1216 г. я видел в Харране одного странника, который научил обезьяну кланяться, перебирая четки, ковырять в зубах и плакать. В пятницу он послал в мечеть красивого и чисто одетого индийского раба, который разостлал близ молитвенной ниши роскошный молитвенный коврик. В четвертом часу к мечети подъехала сама обезьяна верхом на муле, в раззолоченном седле, в сопровождении трех пышно одетых индийских рабов и приветливо поклонилась присутствующим. Каждому, кто спрашивал о ней, отвечали следующее: „Это сын такого-то царя, одного из могущественных царей Индии. Но он околдован“. В мечети обезьяна молилась, вынимала из-за пояса платок, ковыряла в зубах. Тем временем поднялся старший раб, поклонился людям и сказал: „Клянусь Аллахом, друзья мои, не было в свое время никого более прекрасного и более богобоязненного, чем эта обезьяна, которую вы видите перед собой. Однако верующий ведь всегда во власти решения Аллаха, его заколдовала его жена, а отец, стыдясь сына, прогнал его прочь. За 100 тыс. динаров эта женщина обещала снять с него заклятие, а пока у него лишь 10 тыс. Так пожалейте же этого юношу, у которого нет ни племени, ни родины, которого принудили сменить свой облик вот на этот“. Когда раб произносил эти слова, обезьяна прикрывала лицо платком и горько плакала. Тут таяли сердца, и каждый давал ему, за что Аллах подарил им радость, и они покинули мечеть с большими деньгами. Так вот и странствовал он с места на место»[2323].
Лишь в III/IX в. благочестивые устремления верующих стали настолько светскими, что потребовали достойного убранства мечети и эстетического оформления богослужения. Передают, что о более щедром освещении в мечетях распорядился халиф ал-Ма’мун[2324]. Постоянным и ярким освещением мечетей особенно выделялась Сирия, следуя, вероятно, образцу христианских церквей; светильники висели там на цепях, «как в Мекке»[2325]. В Египте, кажется в конце IV/X в., пришла мода на большие лампы для мечетей в форме хлебных печей, даже и назывались они так — таннур. Эти лампы открывали мастерам широкую возможность создания великолепных шедевров. Опекун ал-Хакима пожертвовал одну такую лампу мечети ‘Амра, а в 403/1012 г. уже сам ал-Хаким велел повесить там огромный таннур из серебра весом в 100 тыс. драхм. Для того чтобы внести ее в мечеть, пришлось разобрать входные двери[2326]. Часть инвентаря такого большого «дома Аллаха» в IV/X в. приведена в вакуфном документе об основании мечети ал-Азхар, датированном 400/1009 годом:
Абаданские циновки,
плетеные циновки,
индийское алоэ, камфара и мускус для курения в дни рамадана и другие праздники, свечи,
пакля для фитилей светильников,
древесный уголь для курений,
4 веревки, 6 кожаных ведер, 200 метел для подметания, глиняные сосуды для воды в мастерской (масна‘) при мечети,
масло для ламп,
два больших серебряных фонаря (таннур),
27 серебряных светильников[2327].
Все это также было пожертвовано ал-Хакимом.
Мечети находились под надзором кади. При Фатимидах в Каире четвертого рамадана каждого года кади обычно производили обследование мечетей: состояния самого строения, наличия в них циновок и освещения[2328]. Содержание мечетей обходилось недорого: в Египте в то время считали, что на это идет по 12 дирхемов в месяц. Однако перепись 403/1012 г. констатировала, что в Египте было 830 мечетей, не имевших никаких доходов. Вот поэтому-то в 405/1014 г. халиф предоставил в качестве пожертвования (тахбис) ряд государственных земельных угодий, чтобы на доходы с них содержать хотя бы соборные мечети, где читались проповеди, и оплачивать занятых в них чтецов Корана, богословов (факихов) и муэззинов[2329].
О подробностях внутреннего устройства мечетей я могу сказать, к сожалению, лишь очень немногое. В арамейских областях и в это время не дали себя изгнать древние и стойкие Ба‘алим со своим культом дерева; так, в палестинской Тивериаде имелась «Мечеть жасмина», названная так по деревьям, растущим во дворе[2330]; в мечети г. Ракка росли две виноградные лозы и тутовое дерево. Главным образом в Египте существовал обычай натягивать над мечетями ко времени проповеди полотнище парусины, подобно тому как в эллинистическую эпоху это делалось над цирком[2331]. Однако и о Басре, и о Ширазе сообщается то же самое[2332]. Дворцовая мечеть в Багдаде имела два минбара[2333]. В Хорасане в мечети стояли большие бронзовые сосуды для питьевой воды, в которые по пятницам клали лед[2334]. А мечеть Ибн Тулуна уже имела во дворе водоем обычной вплоть до настоящего времени формы: на десяти облицованных мрамором колоннах покоился купол, под ним мраморный бассейн — 4 локтя в поперечнике, посреди которого бил фонтан (фаввара), и все это было огорожено решеткой[2335]. Такие водоемы под куполом заняли место стоявших в иных мечетях небольших куполообразных построек, где хранилась государственная казна. Сто лет спустя в мечети ‘Амра, на том месте, где стояла такая куполообразная постройка для казны, был сооружен первый фонтан[2336]. Точно такой же фонтан с медной водометной трубкой видел через сто лет Насир-и Хусрау в Амиде и в сирийском Триполи[2337].
Существовали также и сборщики подаяний на построение мечети. В 226/841 г. один такой сборщик собирал в Исфагане подаяние на расширение мечети. Он обращался ко всем без исключения присутствовавшим в мечети, и некоторые делали большие взносы, «но он не пренебрегал также и кольцом, или его стоимостью, или мотком пряжи, или ее стоимостью»[2338].
Форма богослужения в разных областях имела некоторые различия, однако ни в одном из значительных центров в богослужении не придерживались пуританизма старого ислама. Повсюду пробились наружу древние религиозные формы. Прежде всего мы всюду находим в это время музыкальное оформление службы — церковный хор. Даже и в расположенной на юге Аравии Сан‘а было двадцать два муэззина — а ведь как раз из этого института и вырос официальный церковный хор[2339]. В Хорасане же уже давно вошло в обычай, что хор сидел на скамье (сарир) против минбара и пел «искусно и мелодично»[2340]. Мелодичное чтение Корана, также, пожалуй, являющееся подражанием христианскому церковному обычаю, было запрещено ал-Маликом, а аш-Шафи‘и разрешил его, и оно применяется и в наши дни в большинстве мусульманских стран[2341]. В 273/886 г. в некоторых мечетях египетской столицы, но еще не в соборной мечети, Коран распевали на разные мелодии, что было запрещено направленным туда ортодоксальной реакцией кади[2342]. Кади Багдада ал-Адами (ум. 348/959), прозванный «кладезь мелодий» (сахиб ал-алхан), совершал хадж и услыхал в Медине в мечети пророка, что какой-то касс рассказывает небылицы. Тогда он вместе с другим «чтецом» принялся распевать суры Корана, причем так прекрасно, что все слушатели оставили касса и собрались вокруг них обоих[2343]. Прямо-таки потрясающий триумф праздновали в 394/1003 г. два чтеца Корана, когда они вместе с караваном паломников оказались окруженными бедуинами племени мунтафик. «Они читали Коран перед шейхом бедуинов такими голосами, каких доселе не доводилось слышать. И он, отпустив паломников с миром, обратился к этим двум чтецам и сказал: „Ради вас пренебрег я миллионом динаров“»[2344]. Чудо Ариона по сравнению с этим жалкая безделица. Из таких «чтецов» добровольные публичные проповедники создали себе впоследствии хор, который усаживался против проповедника на стульях[2345]. Проповедник, чтобы показаться своим слушателям более искусным, обычно заранее подсказывал хору рифму своей проповеди, чтобы их вводное пение как бы завершалось проповедью[2346].
Ибн Тайфур (ум. 278/891) заставляет халифа ал-Ма’муна произнести следующие слова: «Вот приходит ко мне человек с куском дерева или с доской, цена которым едва ли больше дирхема. И при этом он заявляет: „Сюда клал руку свою пророк“, или „Отсюда он пил“, или „К этому он прикасался“. Без какой бы то ни было уверенности или доказательства истинности я беру это из чистого почтения и любви к пророку и покупаю за 1000, а то меньше или больше динаров. Затем я прикладываю это к моему лицу или к глазам и обретаю благодать тем, что смотрю я на это или касаюсь его. Обретаю исцеление во время болезни, поражающей меня или моих близких, берегу это как себя самого. И все же это только деревяшка, которая ничего не сотворила и ничем не отличается особым, кроме утверждения, что к ней будто бы прикасался пророк»[2347].
В IV/X в. почитание реликвий ограничивалось у суннитов еще только тем, что осталось после Мухаммада и более ранних пророков, что также является признаком молодости в ту пору культа святых[2348]. Умерший в 349/960 г. суфийский шейх ас-Саййари из Мерва отдал все свое большое состояние за два волоса посланника Аллаха, которые он, находясь при смерти, распорядился вложить себе в рот[2349]. Надувательство цвело пышным цветом. Так, в начале IV/X в. один иудей представил договор, составленный будто бы пророком, в котором он снимал с иудеев Хайбара подушную подать. Однако везир сразу же объявил его фальшивым, так как договор датирован на 67 дней раньше взятия города[2350]. Единственными реликвиями, на которые мечети имели неоспоримое право и должны были иметь права в религии, основанной на слове, являлись старые рукописные кораны, и среди них в первую очередь написанные рукой ‘Османа, претендовавшие тем самым на то, что они предъявляют подлинные слова Аллаха. Таких рукописей было пять: знаменитый Коран Асмы в мечети ‘Амра в Мисре, из которого читали три раза в неделю и который имел обыкновение читать в этой мечети фатимидский халиф[2351]. Затем в большой мечети Дамаска в качестве единственной в своем роде реликвии — Коран, который ‘Осман послал в свое время в столицу Сирии; впрочем, это сообщение относится лишь к VI/XII в. Всякий раз по окончании молитвы люди имели право прикоснуться к нему и приложиться губами, чтобы обрести благодать[2352]. Посланный в 237/851 г. в Миср кади впервые назначил чиновника по проверке коранов мечети[2353], число которых в IV/X в. обнаружило странный прирост, что указывает на наличие несомненного легковерия в этих делах. Некий житель Вавилонии пришел как-то с Кораном, который он выдавал за Коран ‘Османа, причем доказательством служили пятна крови на книге. Этот Коран был принят на хранение в мечеть, и с тех пор при чтении Корана читали попеременно из обоих коранов ‘Османа. Однако в 378/988 г. этот новоявленный Коран был удален из мечети[2354]. В 369/979 г. появляется еще один Коран ‘Османа во владении халифа Багдада[2355]. И, наконец, в государственной казне в мечети Кордовы лежал Коран, который был так тяжел, что нести его должны были два человека. В нем были четыре листа из Корана ‘Османа ибн Аффана, забрызганные каплями его крови. Каждую пятницу рано утром этот Коран выносили два служителя мечети, предшествуемые третьим со свечой в руках. Книгу эту, обернутую чудесно расшитым покрывалом, клали на кресло в мусалла, имам читал из нее половину раздела (хизб), а затем ее уносили обратно в казнохранилище[2356]. Прочие реликвии стыдливо хранились в провинциальных мечетях; в теологии для подобных христианизмов места не было. В мечети Хеврона лежала туфля пророка[2357], в михрабе мечети арабского торгового города Курх — кость, которая в свое время обратилась к пророку со словами: «Не ешь меня, ибо я отравлена»[2358].
Резко усилившейся религиозной тенденции противостояло презрение ко всему церковному и религиозному, которое позволяло себе выступать так открыто и высказываться так откровенно, как ни до, ни после этого времени. Поэт Абу-л-‘Ала в Сирии (363—449/974—1057) ведет борьбу со всем мусульманским с позиций «разума». Он был отпрыском толковых людей — из семьи кади[2359]. В возрасте четырех лет он ослеп после перенесенной оспы[2360]. Он изучал филологию, а также написал целый ряд филологических сочинений. Тридцати семи лет от роду он возвращается из Багдада в родной город «и без денег и без веры» (фа ла дунйа ва ла дин)[2361] с твердым решением не принимать никакой должности, освободиться от всего мирского «подобно тому, как цыпленок освобождается от скорлупы», и больше не покидать родного города «даже и в том случае, если жители из страха перед греками сбегут из него»[2362]. Он дал обет постоянного поста, который нарушал лишь в дни обоих «праздников»[2363]. Жил он на пенсию, которая составляла немногим более двадцати динаров в год, причем половину он отдавал своему слуге[2364]. И, несмотря на все это, он отклонил почетное жалованье, которое предлагал ему, насколько мы в состоянии усмотреть, без всякой задней мысли верховный священнослужитель Каира[2365]. В старости он к тому же еще и охромел, так что вынужден был молиться сидя[2366]. Он не был философом в техническом смысле этого слова; у него мы не найдем философских построений греческих школ, у него нет даже потребности глубоко проникать в суть вещей. Он литератор и создатель новых норм жизни, своего рода Толстой. Он проповедует «разум», простой образ жизни. Он последовательный вегетарианец, отвергающий не только мясо, но и молоко, яйца и мед[2367]. Он против суеверия, астрологии, но особенно против всей и всяческой теологии. «Очнитесь, очнитесь, вы, обманутые, ваши религии являются хитростью предков!»[2368]. «Люди надеются, что восстанет какой-то имам, но это ложь заблуждения, ибо нет никакого имама, кроме разума. А вероучения — это лишь средство сделать людей покорными могущественным мира сего»[2369]. «Религии равны в своем заблуждении», они — басни, хитроумно выдуманные древними, а «наихудший житель нашей планеты — богослов»[2370].
В долине Мекки ютятся самые страшные злодеи,
Они парами вталкивают паломников в святой дом, а сами при этом пьяны.
Если им дают хороший куш, то они гонят туда и иудеев и христиан[2371].
Египетский корреспондент Абу-л-‘Ала напрасно надеялся выведать у него «тайну религии»[2372], ибо поэт ничего не мог ему предложить кроме морали, простой жизни и самого элементарного смирения. Это проявляется также и в его в высшей степени остроумной, но плохо сделанной Рисалат ал-гуфран — ответе на знаменитое послание Ибн ал-Кариха[2373], где идет речь о многих вещах, в том числе также о небе и аде, о ереси и разуме[2374]. Вот потому-то, несмотря на большое количество учеников, его учение оказалось брошенным на ветер.
В то время как ученые ожесточенно спорили по вопросу сотворенности Корана, в то время как Ибн ал-Фурак (ум. 406/1015), из благоговения перед словом Аллаха[2375] никогда не спал в доме, в котором был Коран, уже ар-Раванди (ум. 293/906), одно из самых проклятых имен в списке мусульманских еретиков, утверждает, что у проповедника Актама ибн ас-Сайфи можно найти куда более изящную прозу, чем в Коране. «Как можно доказать истинность пророческой миссии Мухаммада на основании его же собственного Корана? Если бы Евклид стал утверждать, что люди никогда не смогли бы создать ничего подобного его книге, неужели же на основании этого было бы доказано, что он пророк?»[2376]. Высокопоставленного чиновника Абу-л-Хусайна ибн Абу-л-Багла можно ведь упрекнуть в том, что он глумился над Кораном и написал книгу об имеющихся там ошибках (‘уйуб)![2377] И вот в это время Абу-л-‘Ала позволяет себе сочинить рифмованную параллель к Корану, полностью в манере святой книги, разделив ее на суры и стихи[2378]. Из этого Корана Абу-л-‘Ала сохранил один отрывок историк литературы ал-Бахарзи: сделано весьма искусно, так, например, завуалированную иронию можно лишь угадать. В ответ на возражения, что у него все же отсутствует присущий Корану блеск, автор заявлял: «Если его будут на протяжении 400 лет шлифовать языки в молитвенных нишах, вот тогда (посмотрите, какой он станет!»[2379]. Кроме того, в то время существовал еще безобидный атеизм светских людей и просто любителей поглумиться. Абу Хурайра, египетский поэт первой половины века, пел:
Пусть буду я неблагочестив, о Аллах, пусть буду я несчастлив,
Если только всю мою жизнь одна моя рука будет ласкать бедро, а ладонь другой будет под чашей вина[2380].
Его земляк и современник, придворный поэт эмира, смог отважиться на такую молитву:
Мы молимся под молитвенные призывы цитр и внемлем звучанию струн,
Среди людей, имам которых падает ниц перед чашей и кладет поклон над флейтой[2381].
Однако всех перещеголял в злословии Ибн ал-Хаджжадж в своих застольных песнях:
Внешне я мусульманин, но в душе я христианин-несторианин, когда передо мной вино,
При звуках цитр мы хотим молиться: первая молитва — Сурайджийа, а последняя — мелодия Махури.
Дайте мне испить того сладкого вина, которое запрещает Коран
И через которое запродаешь себя сатане.
Дайте мне выпить в день Михриджана и даже двадцать шестого рамадана,
Дайте мне выпить, ибо своими собственными глазами видел я уготованное мне место в самой глубине ада[2382].
Дай мне выпить вина, относительно которого ниспослан стих запрещения в Коране.
Дай мне выпить его — я и христианский поп потом помочимся им в аду[2383].
О благочестии простого народа мы знаем, к сожалению, очень мало. Безусловно, в нем было много здоровой и сильной веры, но и большая склонность со скандалом принимать всякое религиозное волнение. В 289/901 г. в Багдаде был казнен один карматский вождь и его труп был подвешен на позорном столбе. «В народе распространился слух, будто перед тем как ему отсекли голову, он сказал одному человеку из народа: „Вот, возьми мою головную повязку и береги ее, ибо я вернусь через 40 дней!“ И каждый день под позорным столбом, где висело его тело, собирались толпы людей, считали дни, устраивали потасовки и спорили об этом на улицах. Когда же исполнилось 40 дней, приключился большой шум; одни говорили: „Это его тело“, а другие: „Его нет, правительство казнило и привязало к столбу другого вместо него, чтобы не было беспорядков“. И разгорелся великий спор»[2384].
Даже Мухаммад ал-Фаргани (ум. 362/972), стоявший близко к правителю Египта, считает стоящим труда занести в свою хронику следующее: Абу Сахл ибн Йунус ас-Садафи (ум. 331/942), которого весьма чтил Ихшид, правитель Египта, и которого он в письменной форме просил о заступничестве, ибо он никогда не видел его в лицо, рассказал мне в 330/941 г.: «Близ Маййафарикина некий христианин-отшельник увидал птицу, которая, выпустив из клюва кусок мяса, улетела прочь, затем прилетела обратно и опять выпустила из клюва кусок мяса, и так — много раз. В конце концов эти куски сложились и образовали человека. Тогда вновь прилетела птица и расклевала, разорвала его клювом на куски. Несчастный истязуемый молил монаха о помощи и представился ему как Ибн Мулджам, убийца ‘Али, которого вечно расклевывают птицы, а затем опять складывают вместе. После этого отшельник покинул свою келью, обратился в ислам и сам рассказал эту историю Абу Сахлу»[2385].
Уже бухарский поэт конца IV/X в. ясно и отчетливо говорит о присущем исламу аристократизме, повсеместно господствующем на современном Востоке, когда бедняк молится нерегулярно, предоставляя строгое следование религиозным правилам имущим:
Жена моя упрекает меня за то, что я не молюсь, я же ей говорю: Прочь с глаз моих! Ты разведена!
Как нищий, не молюсь я Аллаху — ему молится муж сильный и имущий.
А за ним Таш, Бекташ, Канбаш, Наср ибн Малик и вельможи,
И военачальник Востока, своды кладовых которого набиты до отказа.
Конечно, молится Нух (правитель Бухары), ибо перед силой его склоняется весь Восток!
Почему я должен молиться? Где мое могущество, мой дом, мои кони, моя сбруя, мои пояса?
Где рабы мои луноликие, где мои прекрасные и благородные рабыни?
Если б я стал молиться, когда моя правая не владеет и вершком земли, то был бы я лицемером.
Им предоставил я молитву, а кто меня за это порицает — тот пустой глупец.
Да! Вот если Аллах создаст мне благополучие, тогда я не перестану молиться, пока будет в небе молния сверкать.
Но молитва тех, кому приходится туго, есть обман[2386].
На Западе неустойчивое военное счастье предъявляло неслыханные требования верности людей религии. Когда византийцы в 322/934 г. захватили Малатью, говорят, что их военачальник велел разбить две палатки, на одной из которых был водружен крест. К этой палатке должны были собираться те жители, которые желали перейти в христианство и тем самым сохранить жен, детей и состояние. К другой же — те, кто желал остаться мусульманином: им гарантировалось лишь сохранение жизни. Большинство направилось к кресту[2387]. После того как округ Лаодикея вновь перешел в руки греков, большинство мусульман выехало оттуда, однако многие остались там, и теперь настал их черед платить подушную подать: «Я думаю, что они перейдут в христианство из чувства неприязни к этому унижению и из поддержанного принуждением жадного стремления к почету и благополучию»[2388].
Однако в центре империи отзвук побед, одержанных неверными, был крайне слаб: слишком уж уверены были в Аллахе, владыке Вселенной. Объяснение этого несчастья было обычным; даже более того, оно служило доказательством истинности ислама, который также должен страдать из-за грехов исповедующих его[2389].
Как в мире древнего Востока, так и в Византии нравственность требовала для знатного дома наличия в нем евнухов[2390]. Ислам же категорически их запрещал. Коран и хадисы строго запрещают холощение людей или животных, и в обязанность инспектора промыслов (мухтасиб) вменялось следить за этим[2391]. Однако и в данном случае, примерно около 200/800 г., поверх отступающей арабской традиции в ислам проникают нравы древнего Востока, даже вопреки категорическому запрету пророка. Халиф ал-Амин, сын Харуна ар-Рашида, был настолько помешан на кастратах, «что скупал их повсюду, держал их возле себя и днем и ночью во время еды и питья, при вершении государственных дел, и знать ничего не хотел о женщинах, будь то свободные или рабыни. Белых кастратов называл он своей саранчой, а чернокожих — своими воронами»[2392]. Один поэт его эпохи так насмехался над этим:
Он ввел кастратов, он ввел религию импотенции,
И весь мир равняется теперь на повелителя верующих[2393].
Против закона, запрещающего кастрацию, верующий находил выход в том, что евнухов он, правда, покупал, но самую операцию кастрации уступал христианам и иудеям[2394]. Один источник VI/XII в. называет единственным местом, где производили эту операцию, христианский абиссинский город Хаджа[2395]. Еще в начале XIX в. «в Верхнем Египте было два христианских (коптских) монастыря, которые свои основные доходы извлекали из производства евнухов, причем это дело приобрело столь большой размах, что они снабжают ими почти весь Египет и часть Турции»[2396]. «Некоторые копты Асьюта превратили это в промысел: они покупают юных рабов-негров, подвергают их кастрации, отчего многие умирают, а выживших продают за цену, в двадцать раз превышающую их первоначальную стоимость»[2397].
В то время различали четыре рода евнухов: чернокожих, славян, греков и китайцев[2398]. «Белых евнухов два рода,— говорит ал-Мукаддаси[2399]:
1) славяне, страна которых лежит позади Хорезма; их доставляют в Испанию, там кастрируют, а затем вывозят в Египет[2400];
2) греки, которые прибывают в Сирию и Армению; однако в настоящее время из-за опустошения пограничных областей они отпадают. Я спрашивал некоторых из них о том, как их кастрировали, и узнал, что греки вырезают своим мальчикам мошонку и посвящают их затем церкви, чтобы они не бегали за женщинами и не вредило бы им плотское вожделение. Когда же верующие производили свои набеги, то они налетали на церкви и уводили этих мальчиков»[2401].
Славян доставляли в город, что позади Баджжаны (Печина, древняя столица провинции Алмерия), населенный иудеями, которые и кастрировали их[2402]. По поводу самой операции кастрации мнения были противоречивы: одни говорили, что отсекают сразу же и член и мошонку, а другие — что рассекают скротум, извлекают яички, подкладывают под член дощечку и затем отсекают его под самый корень. Я просил евнуха ‘Ариба, правдолюбивого ученого: „Учитель, расскажи мне про евнухов, ибо нет единого мнения в этом вопросе: Абу Ханифа, например, приписывает им даже способность к брачному сожительству, приписывает даже и детей, которых рождают их жены[2403]. Это такой вопрос, когда сведения о нем можно получить только у вас самих“. Он отвечал: „Абу Ханифа прав. Во время кастрации взрезают скротум и извлекают яички. Зачастую во время этой операции мальчик пугается и одно яичко уходит наверх, его ищут, однако найти его сразу не удается, и опускается оно потом, когда разрез уже зарубцуется. Если это левое яичко, то у евнуха будет и либидо и сперма, если же это правое, то растет у него борода, как у такого-то. Абу Ханифа в данном случае придерживался слов посланника Аллаха: Ребенок принадлежит супругу, а это возможно у тех евнухов, у которых осталось одно яичко. (Я рассказал это Абу Са‘иду в Нишапуре; тот сказал, что это, пожалуй, возможно,— одно из моих яичек мало; а борода у него была легкая и скудная.) Когда их кастрируют, то в то место, откуда изливается моча, вставляют свинцовую палочку, чтобы оно не заросло, а во время мочеиспускания они эту палочку вынимают“».
Тяжелая операция резко ограничивала число евнухов и поддерживала на них высокую цену; в Византии, например, евнух считался в четыре раза дороже простого раба[2404]. Примерно в 300/912 г. появляются щадящие самолюбие этих несчастных описательные названия: «слуга» (хадим)[2405] или «учитель» (му‘аллим, устад, шейх)[2406] в то время как раньше их грубо называли «кастрат» (хаси).
Однако со стороны народа им все еще приходилось сносить много насмешек; так, им вслед всегда кричали: «Эй, дурной сын, воду и муку растерял!» или «Непослушный на длинных ногах!»[2407]. В 384/897 г. как-то в пятницу под вечер один из придворных евнухов бежал через большой мост Багдада с посланием халифа, но затеял ссору из-за такого вот бранного окрика, был избит народом, причем в свалке исчезло письмо. После этого халиф приказал пройти одному евнуху в сопровождении всадников и пехоты по улицам и всех и всякого, кто оскорблял его, хватать и бить плетьми[2408]. Истории о евнухах прочно вошли в репертуар уличных актеров (хакийа), для которых их голоса и жесты неизменно являлись благодарной темой[2409].
Их хвалят за выносливость в верховой езде, в которой они превосходили даже тюрков[2410]; хвалят их и как отличных стрелков[2411]. Вообще они поставляли отважных воинов: византийцам Нарсесу и Соломону на мусульманской стороне в IV/X в. составляют компанию главнокомандующий ал-Мунис и саманидский военачальник Фа’ик, который также был скопцом[2412]. Евнухом был и известный своими победами под Тарсом мусульманский адмирал Самил[2413], как и потерпевший поражение под Сицилией византийский адмирал Никита. В морской войне 307/919 г. между флотами Фатимидов и империи оба адмирала были евнухами[2414]. Офицер, который имел мужество упрекнуть халифа ал-Хакима за то, что он огнем и мечом уничтожал своих черных рабов, и считал, что даже византийский император не позволил бы себе так бесцеремонно хозяйничать в Египте, был оскопленный славянин. За свою искреннюю откровенность он поплатился жизнью[2415].
Один только чернокожий евнух по имени Шакар («сахар») снискал доверие подозрительного и многого требующего от своих подчиненных ‘Адуд ад-Даула. Когда он был прикован к ложу смертельным недугом, то никому другому не разрешал быть при своей особе. А когда его старший сын пытался силой проникнуть в его покои, то был тотчас же сослан разгневанным отцом в другую провинцию[2416]. Один белый кастрат даже был во время несовершеннолетия ал-Хакима регентом фатимидской империи. Только вот религиозных должностей они не занимали, пока в эпоху поздних крестовых походов один евнух не стал кади в Дамиетте[2417].
Кроме того, многолетние наблюдения над евнухами на Востоке отмечают у них следующие похвальные особенности: они никогда не лысеют и среди них неизвестны случаи гомосексуализма[2418]. Своеобразной чертой их характера являлось пристрастие к певчим птицам, и поэтому они были самыми частыми посетителями птичьих рынков[2419]. Дрессировка почтовых голубей являлась, пожалуй, единственным ремеслом, на которое они годились[2420].
Подозрительно велик перечень их отрицательных качеств: дурной запах пота, в то время как кастрированные животные его утрачивают[2421]; грубая кость, в то время как кастрированные животные становятся тонкокостиыми; длинные ступни, искривленные пальцы, они скоро дряхлеют, хотя и живут дольше мужчин, в чем подобны мулам среди животных. Морщинистая кожа, быстрый переход от одного настроения к другому, способность легко плакать, как дети и женщины, мгновенные вспышки гнева, страсть к сплетням и болтовне, склонность к ночным мочеиспусканиям и прожорливость[2422]. Особенно отмечается, что служить они хотят только знатным и с презрением взирают на тех, кто не имеет ни власти, ни богатства[2423]. У Барджавана, регента Египта и опекуна ал-Хакима, высокомерие развилось в манию величия. Он был непочтителен даже к своему подопечному, даже когда тот стал уже взрослым. Однажды халиф позвал его к себе, евнух остановился перед ним, положив ногу на ногу на шею лошади, так что протянул свои туфли прямо под нос повелителю[2424]. За все это и тому подобное он был в один прекрасный день убит в дворцовом саду ударом ножа.
Наряду с евнухами модой стало и другое, еще более пикантное смешение полов. Будто бы для того, чтобы излечить своего сына от его страсти к евнухам, мать халифа ал-Амина, подобрав хорошеньким и стройным девушкам волосы, одела их, как мальчиков, в кафтаны, туго перетянутые поясами. И все решительно — как придворные, так и простой люд — стали одевать так своих рабынь, называя их мальчико-девочками (гуламиййат)[2425]. Семнадцати лет от роду знаменитая своими похождениями певица ‘Ариб, тоже одетая мальчиком, стояла перед тем же самым халифом, «который сам был прекраснейшим созданием Аллаха», и подносила ему чашу с вином[2426]. Эти переодетые мальчики-девушки существовали еще столетие спустя при дворе халифа[2427]; обычай этот сошел до подавальщиц[2428].
В те времена, когда арабы задавали тон, любовь к мальчикам не играла никакой роли, причем даже старые законоположения едва ли имели повод заниматься этим вопросом. Поэтому мнения юристов IV/X в. очень расходятся: некоторые приравнивали это к разврату[2429], один же пытался делать различие между гомосексуальной связью со своим собственным рабом и с чужим. Большинство же поучали, что для этого нет предусмотренного законом наказания (хадд) и судья должен поступать по своему усмотрению (та‘зир)[2430]. Явный гомосексуализм, согласно мусульманской традиции, происходит с Востока, и пришел он оттуда с вторгшимися со стороны Хорасана аббасидскими войсками[2431]. Еще в III/IX или IV/X в. этим извращением славился Афганистан[2432]. А в IV/X в. оно стало повсеместным. Во всяком случае в любовных песнях звучит тоска столько же по юношам, сколько и по девушкам. Таких поэтов, которые воспевают только юношей, как, например, убежденные приверженцы этой порочной страсти ал-Мус‘аб[2433] и ас-Сулами (ум. 394/1003)[2434], очень мало; немного, однако, и таких, которые брались за лиру только ради девушек. Даже у такого благородного и скромного человека, как Абу Фирас, есть песни, воспевающие юношей[2435]. В 30-е годы в Багдаде чрезвычайно распространены были песенки ал-Хубзарруззи — «пекаря, пекущего в печи лепешки из рисовой муки», где неизменно присутствовала тоска по мальчику, как, например:
Хотел бы я быть каламом в его руке или чернилами на его каламе: иногда он взял бы и поцеловал меня — это когда к ротику калама пристанет волосок[2436].
Страсти этой отдавались все без исключения, однако мы не располагаем сведениями о мальчике какого-нибудь халифа. Бундский эмир Бахтийар, пользовавшийся, впрочем, вообще дурной славой, больше оплакивал пленение своего любимца-тюрка, чем утрату своего государства, «что у всех породило презрение к нему»[2437]. Даже знаменитый своими воинскими подвигами Сайф ад-Даула имел в Алеппо мальчика, носившего девичье имя Самил — «Колеблющаяся», который был его возлюбленным[2438]. Мода требовала от этих претенциозных юношей, чтобы они говорили изящным языком, шепеляво произносили букву «с», с гортанной вместо переднеязычной артикуляцией звука «р»[2439].
С другой стороны, к обязательному инвентарю кабачков по берегу Тигра принадлежали кроме вина также девушка или мальчик; все это вместе стоило два дирхема в ночь[2440]. И в Каире халиф ал-Хаким имел возможность получить высшее наслаждение, любуясь грубой уличной сценкой гомосексуального содержания[2441]. Однако даже самые нежные романы расцветали именно на этой почве.
Знаменитый юрист ан-Нафтавайхи (ум. 323/935) любил сына ученого правоведа Да’уда, основателя названной его именем[2442] обширной юридической школы. Юноша же любил другого, ибо ан-Нафтавайхи был грязен и от него дурно пахло. Но так как юноша держал свою страсть в тайниках души, то она убила его. Умирая, он бормотал слова пророка: «Тот, кто любит и остается целомудренным, держит любовь свою втайне и умирает от этого, тот умирает как [праведный] мученик». После его смерти убитый печалью ан-Нафтавайхи целый год не читал лекций[2443].
Испанский грамматик Ахмад ибн Кулайб (ум. 426/1035) учился вместе с Асламом, красивым сыном одного кади. Он влюбился в него, сочинял в его честь стихи, которые были у всех на устах и распевались на свадьбах. Вследствие этого Аслам перестал посещать лекции, а Ахмад целыми днями ходил взад и вперед перед дверьми его дома, так что Асламу удавалось лишь вечерами выходить на улицу подышать свежим воздухом. В конце концов Ибн Кулайб, переодетый бедуином, принес ему как-то кур и яйца. Когда к нему вышел Аслам, он поцеловал ему руку и выдал себя за крестьянина одного из его имений, возымевшего желание сделать ему подарок. В разговоре, однако, Аслам узнал его и пожаловался, что из-за него он вынужден сидеть взаперти. Тогда Ибн Кулайб отстранился от него, но вскоре тяжело заболел и просил своего друга устроить ему посещение Аслама. «Он взял свой плащ и пошел со мной. Ибн Кулайб жил в конце длинной улицы. Аслам же, дойдя до половины улицы, остановился, покраснел и сказал: „Клянусь Аллахом, я не могу больше сделать ни шага и не способен заставить себя сделать это“. Я напирал на него: „Теперь-то уж ты не можешь уйти, когда ты уже почти что у его дома“. Он, однако, ответил: „Клянусь Аллахом, я должен“,— и быстро повернул обратно. Я схватил его за плащ, но он стал тянуть его, и плащ порвался, кусок его остался у меня в руке. С этим я и пришел к Ибн Кулайбу, которого его слуга уже известил о нашем прибытии, так как он видел нас наверху улицы. Когда же я вошел один, Ибн Кулайб переменился в лице и -спросил: „А где Абу-л-Хасан?“ — Я рассказал ему, как было дело, после чего он впал в беспамятство и стал бормотать что-то невнятное. В конце концов я пошел прочь, и когда прошел половину улицы, то услыхал траурный плач по случаю его смерти». Аслама же позже видели, как он в дождливый день, когда никого не было на улице, печально сидел у его могилы. Ибн Кулайб подарил ему Китаб ал-фасих с таким посвящением: «Эта книга о хорошем арабском языке со всеми его оборотами. Покорнейше дарю ее тебе точно так же, как я подарил тебе самого себя»[2444].
Другую историю рассказывает сирийский поэт ас-Санаубари (ум. 334/945): «В Эдессе жил некий книготорговец (варрак) по имени Са‘д, в лавке которого собирались литераторы. Он был образован, умен и сочинял нежные стихи. Я, сирийский поэт Абу-л-Ми‘вадж и другие поэты как Сирии, так и Египта не выходили из его лавки. А один купец-христианин в Эдессе имел сына по имени ‘Иса. Не было среди всех людей прекраснее его лицом, а кроме того, обладал он сладчайшим телосложением, тончайшим умом и наделен был даром речи. Этот юноша имел обыкновение сидеть вместе с нами и записывать наши стихи. В то время был он еще школяром, и все мы его очень любили. А книготорговец страстно в него влюбился, сочинял в его честь стихи… так что его любовь к нему стала известна по всей Эдессе. Когда же мальчик подрос, его охватило желание удалиться в монастырь. Он поговорил об этом со своим отцом, с матерью и приставал к ним до тех пор, пока они не уступили; они купили ему келью, передав деньги за нее настоятелю монастыря. Там и остался юноша, а книготорговцу Са‘ду мир стал слишком тесен, он закрыл свою лавку, покинул своих друзей, пребывал в монастыре возле юноши и сочинял стихи, посвящая их ему… Но монахи с неудовольствием смотрели на постоянное общение юноши с Са‘дом, запретили ему приводить книготорговца в монастырь, пригрозив, что в противном случае они выгонят его самого. Когда же Са‘д увидал, как его друг стал его сторониться, это нанесло ему такую рану в самое сердце, что он стал заискивать перед монахами, настаивая на своем. Однако монахи не соглашались и говорили ему: это был бы грех и позор, а кроме того, мы еще и боимся правительства. И когда он приходил к монастырю, они запирали ворота перед его носом и не допускали, юношу с ним говорить. Тогда тоска его по нему настолько усилилась, а страсть так возросла, что Са‘д впал в безумие. Он разодрал на себе одежды, отправился в свой дом, предал огню все, что в нем было, ютился в пустыне близ монастыря, нагой и неистовый, сочиняя стихи и проливая слезы. Однажды я возвращался вместе с Абу-л-Ми‘ваджем домой из одного сада, где мы провели ночь, и увидали его сидящим в тени монастырской стены — нагого, с длинными волосами и переменившимся лицом. Когда мы с ним поздоровались и стали его упрекать, он сказал: „Оставьте меня в покое с этими бесовскими нашептываниями! Видите вы эту птицу? Так вот с раннего утра я заклинаю ее залететь в монастырь, чтобы я мог передать с ней весточку ‘Исе…“. Затем он оставил нас и подошел к монастырским воротам, которые, однако, оставались, запертыми перед ним. Через некоторое время его нашли близ монастыря мертвым. Правил городом в ту пору эмир ал-Аббас ибн Кайгалаг. Когда он и жители Эдессы услыхали об этом, они пришли к монастырю, говоря: „Его убили монахи", а Ибн Кайгагалаг сказал: „Этому юноше нужно отрубить голову, тело его сжечь, а монахов отхлестать плетьми“. Он твердо стоял на своем решении, так что христиане и их монастырь вынуждены были откупиться от него суммой в 10 тыс. дирхемов. Когда юноша после всего этого пришел как-то в Эдессу навестить своих родителей, то мальчишки кричали ему вслед: „Ты убийца книготорговца Са‘да!“ — и бросали в него камнями. В конце концов он вынужден был покинуть этот город и переселился в монастырь Сам‘ана. Что с ним сталось — я не знаю»[2445].
Пожалуй, из страха перед такими любовными историями некоторые учителя не терпели присутствия безбородых на своих лекциях, так что иному стремящемуся к знаниям юноше приходилось тайком проникать на занятия с наклеенной бородой[2446].
Проституция отнюдь не является, как полагают наши социологи-рационалисты, какой-то заменой брачной жизни для неженатых. Наоборот, по своему происхождению она представляет иррациональное религиозное установление, почти такое же, как и институт кастратов. Процветала она также и в мире ислама, хотя многоженство и обычай позаботились о том, чтобы неженатые мужчины и незамужние девушки были редким исключением. И несмотря на это, закон настолько позволял себе действовать на основе «серой теории», что наказывал неверность супруга побитием камнями. Правда, для этого требовались такие точные доказательства, что приговор к этому наказанию так никогда и не удалось вынести[2447]. Некий путешественник-мусульманин, описывая около 300/912 г. регламентированную законом проституцию в Китае с ее специальным на то ведомством и налогом, заключает свое описание следующими словами: «Мы возносим хвалу Аллаху за то, что он избавил нас от подобных искушений»[2448]. Однако уже пятьдесят лет спустя ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982) мыслил в достаточной мере чуждо исламу, когда обложил налогом в Фарсе танцовщиц и проституток и сдал на откуп сбор этих налогов[2449]. Фатимиды в Египте последовали его примеру[2450]. Согласно одной легенде, возникшей, вероятно, около 400/1009 г., ‘Адуд ад-Даула принудил принцессу Джамилу, отвергнувшую предложение стать его женой, переселиться в квартал проституток (дар ал-кихаб), после чего она утопилась в Тигре[2451].
Один из своеобразных обычаев в жизни Лаодикеи состоял в том, что начальник рынка ежедневно публично продавал с аукциона чужестранцам проституток, и в доказательство сделки каждый получал кольцо, называвшееся епископским. Если чужестранца захватывали ночью с женщиной и он не мог предъявить такого кольца, то его наказывали. Правда, надо отметить, что об этом порядке мы имеем сведения из той эпохи, когда город этот вновь стал византийским[2452]. Ал-Мукаддаси, впрочем, видел публичные дома, расположенные в непосредственной близости от мечетей, также и в Сусе — главном городе Хузистана[2453], в то время как Ибн Хаукал сообщает, что в Магрибе нет публичной проституции[2454].
В 323/934 г. ханбалиты — крайнее консервативное крыло в исламе — ежедневно выступали в столице против безнравственности: они вторгались в дома знатных особ, выпускали вино из бочек, избивали певиц, разбивали их музыкальные инструменты и запрещали мужчинам появляться на улице с женщинами или юношами[2455]. «Ибо если это твоя жена,— упрекали одного человека за то, что он разговаривал с женщиной на улице,— то отвратительно говорить с ней на людях, если же это не твоя жена, то это еще более отвратительно»[2456]. Обычаи благочестия: вообще весьма неодобрительно относились к тому, чтобы женщина выходила за пределы дома. Халиф ал-Хаким, намеревавшийся возродить ранний ислам, запретил всем без исключения женщинам выходить из дому, а сапожникам — шить им туфли. Повивальные бабки и женщины, занимающиеся обмыванием покойников, должны были доставать себе письменное разрешение[2457]. Из обычая благочестия это превратилось впоследствии в аристократический обычай также и в Испании, и «через влияние испанцев около середины XVII в. на улицах Италии не было видно женщин»[2458].
«Троекратных побоев заслужил тот, кто, будучи приглашенным в гости, обращается к хозяину с такими словами: „Позови хозяйку, чтобы она села есть вместе с нами!“» — говорилось в IV/X в.[2459] Как и у древних греков, ее место за общим столом занимала гетера, причем не какая-нибудь дилетантка, а получившая в высших сферах блестящую подготовку мастерица светской обходительности, вооруженная всеми средствами красоты, образованности и искусства, а также вполне могущая помериться с мужчинами в крайне вольных разговорах. Создается впечатление, что при этом разделении как дом, так и светские запросы были между собой в ладу. Большинство гетер были рабынями, правда, встречались уже и такие, в большинстве своем, конечно, вольноотпущенные, которые за вознаграждение исполняли свою службу. Одна такая знаменитая гетера, славившаяся своим умением играть на лютне, приходила днем за два динара, а ночью — за один[2460]. Одному глупцу, который докучал такой даме в Багдаде своими любовными письмами, рассказывая в них о том, что из-за нее он не может ни есть, ни пить, ни спать, и умолял явиться ему хотя бы во сне, она велела передать: пусть он пошлет ей два динара, и она сама придет к нему наяву[2461].
Также, впрочем, и в этом случае наряду с каноническим учением продолжали держаться общие для данной страны обычаи. Да и самим арабам бросалось в глаза, какую большую свободу предоставляют копты, своим женщинам. При этом объясняли они себе это следующим образом: после уничтожения знаменитого Фараона в стране остались только женщины и рабы, которые затем вступили в брак. Однако женщины поставили при этом условие, что они и впредь остаются их госпожами[2462]. Кое-что из этого мусульманские женщины Египта сумели сохранить: «Женщина имеет двух мужей»[2463],— констатирует, например, в одном месте ал-Мукаддаси. Женщины Шираза тоже получают у него дурную характеристику[2464], а о женщинах из Герата он говорит, что «в пору цветения гелиотропов они сгорают от страсти, как кошки»[2465].
В то время, т.е. около 300/912 г., должно быть, дали себя знать претензии женщин на более высокие должности, ибо Ибн Бассам поет в своих стихах: «Какое отношение имеют женщины к делам писаря, сборщика податей и проповедника? Это принадлежит нам»[2466]. В то время уже встречались женщины-богословы, лекции которых усердно слушали, и проповедницы[2467]. Находились также юристы, объявлявшие, что женщина вполне способна отправлять судейскую должность.
Для среднего сословия непременной предпосылкой всех сообщений и рассказов является упоминание моногамии. Так, например, в макамах ал-Хамадани один купец приглашает к себе гостя и по дороге к дому расхваливает свою жену: «Господин мой, если бы ты только видел ее, как она, подвязав передник, управляется по дому, снует от печки к горшкам и от горшков обратно к печи, ртом раздувает огонь, а руками толчет пряности. А если бы ты видел, как дым покрывает копотью ее прекрасное лицо, оставляя следы на ее гладких щеках, то взору твоему представилось бы зрелище, которое заставило бы тебя вытаращить от удивления глаза. Я люблю ее, потому что и она меня любит»[2468]. Передают, что фатимидский халиф ал-Му‘изз советовал своим вельможам довольствоваться одной женой: «Одному мужчине достаточно одной женщины»[2469]. Поэт Абу-л-‘Ала также считает за лучшее никого не присоединять к жене, «ибо если компаньоны были бы чем-то добрым, то были бы они и у Аллаха»[2470]. Знать предавалась многоженству лишь при посредстве рабынь, являвшихся сожительницами мужа. У всех халифов IV/X в. матери были рабынями. Они настолько редко брали себе в жены свободных женщин, что такая жена даже получала особое имя — ал-хурра, т.е. «свободная»[2471]. Один старый автор заявляет: рабыни потому пользуются большей любовью, чем свободные женщины, что мужчина сам выбирает их себе, а тех осматривают женщины, которые ничего не смыслят в женской красоте[2472].
Повторный брак вдовы законом, правда, разрешался, однако обычай относился к нему в высшей степени неодобрительно. Одна история из III/IX в. считает невероятно трудной задачей для секретаря, когда ему надо написать своему другу, что его мать после смерти отца вновь выходит замуж. Выход из этого положения был найден в следующем пожелании: «Судьбы следуют не теми путями, как желают того создания… Аллах выбирает их для рабов своих, так пусть же он изберет для тебя ее смерть, ибо могила это наиблагороднейший супруг»[2473]. Нечто подобное писал ал-Хваризми (ум. 393/1003) историку ал-Мискавайхи, когда его мать второй раз вышла замуж: «…Раньше я молил Аллаха, чтобы он подольше сохранил тебе ее жизнь, но теперь я молю его, чтобы он как можно скорее ниспослал ей смерть, ибо могила это благородный тесть, а смерть — строгая скромность… Хвала Аллаху! — отсутствие благочестия и грубость [нрава] на ее стороне»[2474].
При всех прочих обстоятельствах все же желают счастья при рождении дочери; так, например, поэт ар-Ради обращается к своему брату:
Прискакали кони счастья в один сияющий счастливый день
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ребеночек, которого все целуют, видя его красоту, и которого ты, о зависти достойный, заключаешь в свои объятия![2475]
Однако ал-Хваризми послание, в котором он выражает соболезнование по поводу смерти девочки, заключает таким пожеланием: «И пусть Аллах заменит ее братом!»[2476].
Тот факт, что в языке южных народов дозволено многое из того, что нам не нравится, коренится не только в одной лишь общественной изоляции женщин от мужчин. Если сопоставить рассказы и анекдоты, речи и стихи староарабской эпохи с подобными же III/IX и IV/X вв., то мы увидим, что в более поздние эпохи потрясающе возрастает смакование всяческой грязи. И в этом случае вкусы доисламского неарабского Востока опять-таки стали играть главенствующую роль, ибо еще и в наши дни бедуин считается целомудреннее, чем люди тех времен[2477]. Особенно подпадают под неограниченную власть непристойности стихи, поносящие противников. Более ранние такие стихи, собранные в хамасах, по сравнению со стихами ал-Бухтури — а он еще считался старомодным — являют пример аскетически строгой чистоты. Аббасидский принц и поэт Ибн ал-Му‘тазз (ум. 296/909) писал ответ на обратной стороне любовного письма, «так что мое послание вступило в содомскую связь с его посланием»[2478].
В последующем столетии дело зашло еще дальше. Еще в начале века — в 319/931 г. везир мог быть свергнут «за легкомысленность своих речей и грубые выражения, для коих везир слишком высокая фигура»[2479]. Однако в конце века везир Рея, известный ас-Сахиб ибн Аббад, сыплет грубейшими намеками[2480], облекая даже признанное литературное суждение в форму грубой непристойности[2481]. А когда во время его официального визита в Багдад тамошний везир не тотчас принял его, он пишет государственному секретарю ас-Саби следующий стих:
Я бессилен перед этой дверью, как кастрат, а другие входят и выходят sicut membra virilia[2482].
И этот самый государственный секретарь, гордость арабской прозы, охотно пользуется самым что ни на есть грязным выражением, чтобы иметь возможность плюнуть им в лицо своим врагам[2483]. На основании этого можно себе вообразить, что же представляли из себя скабрезности таких явных и откровенных муджжан, как, например, Ибн ал- Хаджжадж.
Один поэт рассказывает о том, как он совратил не одного мальчика в большой соборной мечети Басры, и заканчивает свое повествование советом, как поступать, если кто-либо совсем недоступен:
Тогда подходи к нему с чеканным дирхемом, и ты получишь его.
Ибо дирхем заставляет спуститься вниз то, что живет в воздухе, и ловит то, что живет в пустыне[2484].
А ал-Хамадани издевается:
Ты по натуре своей поденщик, который падает на колени, когда видит медную монету[2485].
И это совершенно справедливо в отношении многих его современников. Вновь всплыл на поверхность старый мир, где всеподавляющая сила денег стирала в прах все остальные ценности, где все было продажным. Это корыстное бесчестие проникало вплоть до высших сфер империи. Так, в 321/933 г. халиф ал-Кахир запретил вино и песни и приказал продать рабынь-певиц. Воспользовавшись падением цен на них, он дешево скупил их через подставных лиц, ибо сам был великим охотником до пения[2486]. Напротив, истории, которые рассказывают об эмире Египта того времени, несколько более отрадны. С непосредственной скаредностью он просто-напросто забирал у людей их вещи. Музахим ибн Ра’ик рассказывает: «Я сшил себе шубу за 600 дирхемов. Ради красоты ее, а также и потому, что я был доволен ею, я надел ее в Дамаске, отправляясь к Ихшиду. Едва увидав мою шубу, он принялся выворачивать ее, восхищаться ею и сказал: „Ничего подобного я еще не видывал!“. Лишь только Ихшид удалился, как ко мне подошел Фатик и сказал: „Садись, Ихшид соизволил пожаловать тебя почетной одеждой“. Затем они принесли целый тюк одежды, сняли с меня шубу, сложили ее, унесли прочь и оставили меня одного. Через некоторое время они вернулись и сказали: „Ихшид сейчас спит, приходи завтра вечером!“. Когда же я собрался идти и потребовал свою шубу, они сказали: „Какую шубу? Мы не брали никакой шубы!“. Вечером я опять пришел к Ихшиду и вдруг вижу, что на нем моя шуба. Увидав меня, он засмеялся и сказал: „Ты делаешь такое бесстыжее лицо, но ведь ты же сын своего отца! Сколько раз я ни давал тебе понять мое желание, все было безуспешно, пока я, наконец, не забрал свою шубу, не поблагодарив тебя“»[2487].
Во время праздника, устроенного в саду ал-Мадара’и в честь Ихшида, на берегу пруда перед эмиром были расстелены ковры, расставлены золотая и серебряная посуда и фигурки из камфары и амбры, певцы и певицы пели песни. Под конец ему подали два серебряных блюда: одно полное золотых, а другое серебряных монет, предназначавшихся для разбрасывания народу. Динары он велел поставить позади себя и разбросал одни лишь дирхемы. Когда он уходил, то все, на чем он сидел и что перед ним стояло, все, на чем он ел и из чего пил, отправили ему вслед на двух лошадях под золотыми седлами, убранными золотой сбруей[2488].
Отсутствию какого бы то ни было чувства собственной чести соответствовало ничтожное понятие о чести других. В 268/881 г. Ибн Тулун вынужден был покарать своего сына ‘Аббаса за поднятое им восстание. Был сооружен высокий эшафот, где на высоком сидении помещался сам эмир, а перед ним — его сын, в полосатом кафтане, с повязкой на голове, в туфлях и в руке — обнаженный меч. Против него были выстроены в ряд его друзья, его пособники во время восстания, попавшие теперь в плен. И наследник эмира должен был сам отсекать им руки и ноги, а тела их сбрасывали с эшафота[2489].
Сыну везира Ибн ал-Фурата попался в руки предшественник его отца по должности, и «он учинил над ним нечто такое бесчеловечное, что ни благочестивый, ни даже просто здравомыслящий человек не мог счесть это за правильное»: он натянул на него обезьянью шкуру и заставлял его плясать во время своих попоек[2490].
Когда пророк выравнивал перед битвой при Бадре свои боевые ряды и при этом грубо коснулся одного араба, выдвинувшегося вперед из ряда, тот потребовал у него удовлетворения. В ответ на это Мухаммад обнажил грудь и предложил этому воину отомстить за себя[2491]. Эта легенда хорошо отражает арабское понятие о чести. Однако в эту эпоху (т.е. IV/X в.) телесное наказание едва ли считалось чем-то бесчестящим. Во второй половине IV/X в. впервые один везир в Багдаде был подвергнут телесному наказанию и преспокойно остался на своей должности. А в V/XI в. в Каире везиром даже был человек, которому ранее за растрату были отсечены кисти обеих рук. Тем самым приблизились к точке зрения негров, полагавших, что только высеченные люди могут вновь стать начальниками караванов[2492].
Обращение с противниками, взятыми в плен с оружием в руках, определялось мерой их прегрешений и накопившейся против них злобой. Следует отметить, что с военнопленными из числа внешних врагов поступали по-иному, чем с мятежниками в своей стране. Вождей бедуинов, засыпавших колодцы вдоль пути паломничества и обрекавших тем самым тысячи верующих на смерть от жажды, кормили солью и привязывали на берегу Тигра, где они погибали от жажды.
В 289/901 г. одному взятому в плен предводителю карматов сначала повыдергивали все зубы, затем вздернули его за одну руку на блоке, подвесив одновременно камень на другую; в таком положении он висел с полудня до вечера. Затем ему отрубили руки и ноги, потом голову и, наконец, туловище водрузили на кол[2493]. В 291/903 г. вселявший ужас военачальник карматов — «тот, что с бородавкой» <сахиб аш-шама>, резавший верующих, как скот, был доставлен вместе с несколькими начальниками его отрядов в Багдад. Халиф никак не мог придумать, как бы показать его народу так высоко, чтобы все его видели. Сначала он хотел провезти его по улицам привязанным к длинному шесту, укрепленному на спине слона. И он уже издал было приказ сорвать все арки на предполагаемом пути следования процессии. Затем он решил, что это будет безвкусно, и велел прикрепить к спине слона сидение высотой в 2,5 локтя и посадить на него «того, что с бородавкой». Впереди него, верхом на верблюдах, ехали остальные пленники, связанные по рукам и ногам и одетые в шелковые халаты и бурнусы. Вторым по своей известности после их предводителя был безбородый юноша. Ему вложили в рот деревянную палку, привязав ее поводом, как узду у лошади, на затылке, ибо когда его доставили в Ракку, он поносил всех и плевал в проклинавший его народ. Бунтовщики были доставлены в тюрьму. Тем временем построили эшафот высотой в 10 локтей. В тюрьме «тот, что с бородавкой» разбил чашу и вскрыл себе вены при помощи осколков, однако ему наложили повязки, а казнь отложили на несколько дней, пока он опять не набрался сил. Его военачальникам отрубили руки и ноги, а головы, туловища и члены были сброшены с эшафота. Перед «тем, что с бородавкой», после того как ему отрубили руки и ноги, разожгли большой костер, раскалили в нем деревянный шест и воткнули ему в тело. Он открыл глаза, поморгал ими, затем потерял сознание и умер. После этого ему отсекли голову, водрузили ее на шест и все присутствующие кричали: Аллах велик! Всем остальным пленникам просто отрубили головы. Все головы и туловище «того, что с бородавкой», были выставлены напоказ на мосту[2494].
Сто лет спустя, в 397/1007 г., египетский халиф ал-Хаким заполучил в свои руки бунтовщика Абу Ракву, который знатно потряс основы его государства. «Он посадил его на двугорбого верблюда, нахлобучив ему на голову остроконечную шапку из лохмотьев (туртур), позади него посадили обезьяну, которую научили колотить его кулаками. В таком виде его доставили к месту казни, когда же его снимали с верблюда, то выяснилось, что он уже мертв»[2495]. Вместо этого интересного рассказа поздних источников живший в ту пору в Египте Йахйа ибн Са‘ид сообщает: «Его провели напоказ через город, а затем убили у мечети ат-Тибр, тело его было посажено там на кол и сожжено»[2496].
Таковы были самые жестокие и самые устрашающие наказания, применяемые правительством к бессердечным и в высшей степени опасным мятежникам, руки которых были обагрены кровью тысяч жертв. Если же мы примем во внимание, что отсечение руки и ноги являлось старым каноническим законом, применяемым к мятежникам в Марокко еще и в наше время, и рассмотрим при этом страшный перечень истязаний, бывших в подобных случаях в распоряжении позднего европейского средневековья, то окажется, что как Багдад, так и Каир обнаруживают отрадно малую степень изобретательности в сфере жестокостей власть имущих.
Возить напоказ по городу пойманных мятежников на мулах[2497], слонах[2498], но охотнее всего на двугорбом верблюде[2499] было повсеместно принятым обычаем. Одевали при этом наказуемых очень различно — то в покаянное облачение с бурнусами из войлока и красными власяницами[2500], то с издевательской роскошью в парчу и шелк[2501], с лисьими хвостами[2502] в лентах или с колокольчиками[2503], прикрепленными к одежде; в длинные бурнусы и цветные платья, которые носят женщины[2504]. В IV/X в. это шествие по улицам сочетали с позорным столбом. На спине верблюда укрепляли деревянную подставку (никник) и привязывали к ней злодея[2505]. Подставку Хамданида Хусайна, которого в 303/915 г. возили по улицам Багдада, вращал то вправо, то влево человек, спрятанный под шелковой юбкой наказуемого[2506].
Когда же власть халифов утратила свою силу и эмиры сражались в «обители ислама» уже не как бунтовщики, а как воюющие стороны, подобные наказания для военнопленных вышли из употребления. В 307/919 г. был взят в плен Йусуф ибн Абу-с-Садж, восставший против халифа и основавший на северо-западе Ирана свое собственное государство. Когда его возили напоказ по Багдаду верхом на двугорбом верблюде в парчовом халате и длинном бурнусе, увешанном лентами и колокольчиками, то жителям Багдада было жаль его, ибо он никогда не обрекал такому позору своих пленников[2507],— уже настолько утрачено было чувство, что дело идет не о враге, а о наказании мятежника.
Имперский военачальник, выступивший против Бунда ‘Имада ад-Даула в Фарсе, захватил с собой бурнусы, увешанные лисьими хвостами, цепи и наручники, чтобы с триумфом доставить своего противника. Однако он сам был разбит, взят в плен, и Бунду посоветовали облечь его самого во все эти позорные принадлежности. Тот же, однако, заявил, что это будет преступлением и проявлением низости[2508].
Жестокость судебного следователя, сыгравшая весьма печальную роль в нашей истории, серьезно сдерживалась тем, что мусульманское каноническое право рассматривало как незаконное признание, выжатое под пыткой или хотя бы при помощи крика и запугивания. Напротив, светский суд имел право вести допрос с пристрастием, применяя «плеть, кусок каната, палку, битье ремнем по спине, животу, затылку, заднему месту, по ногам, суставам и мышцам»[2509], причем палка считалась более милостивым орудием, чем плеть[2510]. Другие способы пытки применяли только налоговые и правительственные чиновники, чтобы выжать деньги. Самым любезным для них делом было подвешивать преступника за руку или за ногу, причем его оставляли висеть до тех пор, пока он не делался уступчивым[2511]. Самым суровым наказанием, к которому мог приговорить мусульманский судья, было побитие камнями за разврат. Дело, однако, до этого почти никогда не доходило, так как юрисдикция требовала почти невозможных доказательств. Затем шло отсечение руки и ноги за грабеж на большой дороге[2512] и отсечение руки за кражу.
Так как существовало представление, что душа и после смерти связана с телом, то обесчещение трупа считалось моментом, значительно отягчающим меру наказания. Труп преступника часто привязывали к позорному столбу с раскинутыми в стороны в виде креста руками[2513], выставлялась стража, а по ночам перед ним зажигали костры[2514]. В то время никто из приговоренных к смертной казни не был заживо распят на кресте или посажен на кол.
В отношении первейшего еретика ал-Халладжа, казненного в 309/921 г., в ряде определенных источников имеются утверждения, что он был посажен на кол, отчего и умер[2515]. На основании же более достоверных сведений он в начале своей деятельности был выставлен к позорному столбу, а затем посажен в тюрьму, однако это случилось за восемь лет до его смерти, которую он претерпел через наказание плетьми.
В числе бесчеловечных мерзостей, которые учиняли в Багдаде восставшие негры, Ибн ал-Му‘тазз называет «сажание на кол до смерти»[2516]. Самым тяжким наказанием считалось сожжение тела, ибо это означало уничтожение души. Эта высшая степень физического уничтожения нашла свое отражение еще и в том, что за сожженного уже больше нельзя было расплатиться вирой[2517]. В 312/924 г. схваченный во дворце и изобличенный в государственной измене перс был сначала казнен, затем распят, причем сверху его обвязали покрывалом из конопли и пакли, которое облили нефтью и подожгли[2518]. В 392/1001 г. был убит ненавистный чиновник, его тело народ извлек из могилы и сжег[2519]. Насколько мне известно, ни один мусульманин не был в то время заживо сожжен[2520].
Что же касается сдирания кожи, то здесь упоминают только африканских Фатимидов. Один мятежник, разоривший весь Запад и в одной только Бискре срубивший 300 тыс. пальм, был схвачен в 341/952 г., с него живьем содрали кожу, набили ее соломой и выставили напоказ[2521]. Некий зачинщик смуты, который причинил много хлопот Джаухару — фатимидскому завоевателю Египта, будучи взятым в плен, покончил с собой в тюрьме, а после его смерти с него в тюрьме содрали кожу и выставили ее на дороге между Каиром и Старым Каиром <в 360/971>[2522]. Передают также, что фатимидский халиф ал-Му‘изз приказал высечь плетьми и живьем содрать кожу с одного благочестивого мужа из Дамаска за его слишком оппозиционную речь. Однако сдиравший с него кожу еврей из сострадания сразу же вонзил ему нож в сердце — эта легенда прямо противоречит всему тому, что мы знаем об ал-Му‘иззе[2523]. Настолько же фантастично и то, что рассказывает о Египте ал-Макризи: к концу правления ал-Малика ан-Насира излюбленнейшей пыткой было помещать на голову преступника навозных жуков и повязывать сверху огненно-красный платок. Через час жуки вгрызались в мозг и убивали несчастного[2524]. И все же только в Египте могли терпеть на троне такого безумца, который, желая отказаться от женщин, велел заколотить в ящики нескольких своих жен и утопить их в Ниле[2525]. Главным образом христиане создали себе на его счет ряд жутких и назидательных легенд. Так, передают, что это он зверски пытал, а затем убил Ореста — патриарха иерусалимского. Церковь торжественно отмечает в мае день св. Ореста-мученика, в то время как его современник — христианин Йахйа ибн Са‘ид трижды заверяет, что он умер своей смертью в Константинополе[2526].
Династийные беспорядки в Багдаде протекали не без зверств, порожденных, пожалуй, главным образом религиозной боязнью пролить кровь халифа[2527]. Однако эти случаи были единичны, а кроме того, уже в самых ранних рассказах принимала участие народная фантазия. В 255/869 г. халиф ал-Му‘тазз был свергнут. Родившийся вскоре после этого ал-Мас‘уди уже пишет, что о его смерти существовали самые противоречивые мнения: одни говорили, что он умер естественной смертью в тюрьме, по мнению же других — его уморили голодом, согласно третьим — в него вливали кипяток, чем и убили его, еще другие утверждали, что он задохся в нестерпимо жаркой бане, и, наконец, еще рассказывали, что ему дали в этой бане выпить холодной как лед воды, отчего у него разорвало печень и кишки[2528]. А Абу-л-Фида, жившему еще позже, известно даже, что он, мол, был заживо замурован[2529].
Еще более хаотичны сведения о смерти его преемника <256/870>: передают, что он был убит ударами кинжалов, или задушен, или задохся под наваленными на него коврами и подушками, или что ему сжимали тисками мошонку, пока он не умер, или что его положили между двумя досками и стягивали их веревками, пока он не умер[2530]. Более поздний Ибн ал-Асир рассказывает, что убитого в 296/909 г. халифа Ибн ал-Му‘тазза отправили на тот свет также сдавливанием мошонки[2531], о чем все более ранние историки ничего не говорят.
В IV/X в., вероятно, следуя примеру Византии, начали ослеплять претендентов на трон, чтобы сделать невозможным их вступление на престол. Открывает этот ряд ослепленных свергнутый халиф ал-Кахир, который первым испытал эту участь, когда он отказался освободить людей от присяги и отречься от престола, в присутствии кади и нотариусов (год 322/934)[2532]. Его ослепил раскаленной иглой Ахмад ибн Абу-л-Хасан, сабеец[2533]. Вторым идет халиф ал-Муттаки, который был ослеплен начальником тюркской гвардии; во время этой процедуры начальник распорядился бить в барабаны, чтобы заглушить вопли искалеченного и его жен (год 333/944)[2534]. В истории Бундов — ок. 400/1009 г. — эта процедура стала весьма излюбленной, в то время как в 357/967 г. один халиф велел всего лишь отрезать нос одному опасному аббасидскому принцу, а в 366/976 г. один бундский султан поступил так же со своим отстраненным от должности везиром[2535]. В этом также сказалась византийская школа.
Казнь через повешение не была принята; мне известен лишь один подобный случай в 450/1058 г.[2536] Отравление ядом также не играло той роли, какую можно было бы ожидать, принимая во внимание древний, насчитывающий тысячелетия навык. Кто знает, как далеко заходит в этом фантазия современного Востока, однако даже и из числа немногих дошедших до нас случаев отравления следует еще отнять половину. Вот один из них: отравление печеными яйцами представлено в самом раннем, относящемся к той эпохе источнике как субъективное подозрение умирающей жертвы, которой, между прочим, было уже далеко за 80 лет[2537]. В более поздних источниках это выдается за несомненный факт[2538], в то время как черпающая из самых достоверных источников Китаб ал-‘уйун сообщает, что причиной смерти был просто понос[2539]. Уже в одной из первых историй с отравлением в годы халифа ал-Хади (169—170/785—786) говорится: «Впрочем, сообщают также и другое»[2540]. О пересудах, возникших при смерти халифа ал-Му‘тадида, рассказывает современник ал-Мас‘уди: «Его смерть приписывали яду Ибн Булбула, другие же говорили, что он пал жертвой непомерного физического напряжения во время похода против Васифа, а еще другие считают, что одна из его рабынь отравила его при помощи платка, которым он вытирал пот; другие говорят еще и иное»[2541].
Соответственно, чаще всего яды применялись в истории династии бухарских правителей, как изображает живший позднее Мирхонд. Тщательное сравнение с более ранними сведениями во всяком случае значительно уменьшило бы приведенные у него дозы.
Жестоким нравом среди правителей того времени, как передают, отличались ал-Му‘тадид и ал-Кахир. О первом рассказывают, что он затыкал своим жертвам рот, нос и уши, затем в их кишки при помощи мехов нагнетали воздух, пока они не раздувались, как бурдюки. После этого жертвам взрезали височные артерии, откуда со свистом вместе с кровью вырывался воздух[2542]. Более правдоподобны и более соответствуют и в прочем отталкивающему нраву этого человека гнусные злодеяния ал-Кахира. Так, однажды он приказал бросить в своем присутствии двух человек в колодец, а когда один из них с мольбой о пощаде уцепился за край колодца, он велел отсечь ему руку[2543]. А когда пал военачальник Мунис, он распорядился сначала отрубить голову сыну Йалбака и отнести ее отцу, который поцеловал ее. Затем отрубили голову и ему, и обе головы были отнесены Мунису, а сам Мунис был зарезан в присутствии халифа в отхожем месте, как овца. Все три головы были показаны народу на большой дворцовой площади. Затем их соответствующим образом препарировали и поместили в кладовую для хранения голов (хизанат ар~ру‘ус), которая с давних пор существовала при дворце[2544]. Один только Ибн ал-Асир, живший позднее, утверждает, будто бы даже солдаты испытывали чувство жалости, помогая халифу в его гнусных делах[2545]. Этот же ал-Кахир был единственным халифом, который распорядился заживо замуровать в стене человека — одного аббасидского наследного принца и претендента на престол[2546]. Эмир ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982) приказал растоптать слонами изменившего ему везира и его пособников[2547] — это единственный пример подобной смертной казни в те времена.
На протяжении всего этого периода, как рассказывают, было всего два случая добровольного лишения себя жизни, за исключением случаев, когда человека ждала мучительная смерть. Так, некий писарь, сын одного из самаиидских везиров, автор ядовитых пасквилей, очутился в таком положении, когда все стали сторониться его из-за них; и в конце концов он впал в нищету и наложил на себя руки[2548]. Второй случай — врач Ибн Хассан, он утопился близ Калвазы, снедаемый болезнью и любовью к чужому рабу. Правда, он был христианином[2549].
Известно, что уже около 100/719 г. халиф дал приказ не терзать заключенных наложением шейных оков[2550]. Во времена Харуна ар-Рашида учителя права определили, что казна должна кормить и одевать арестантов: ежемесячно должно было отпускаться по 10 дирхемов на заключенного. Была даже определена разная форма одежды в зависимости от времени года и пола заключенного, но зато арестантам запрещалось выходить в цепях и просить подаяния[2551]. В бюджете халифа ал-Му‘тадида (279—289/892—902) на тюрьмы Багдада — питание, воду и прочее содержание заключенных — ассигновалось по 1500 динаров в месяц[2552]. В качестве работы заключенных многократно упоминается вышивание шнуров для штанов (тикак), что еще в наши дни является самым изящным художественным ремеслом Багдада.
Я научился в тюрьме вышивать шнуры для штанов[2553].
В начале IV/X в. везир назначил тюремных врачей, которые должны были ежедневно посещать заключенных и давать им лекарства[2554].
Напротив, в Египте при Фатимидах тюрьмы сдавались на откуп, и это было излюбленнейшим правительственным откупом, так как на них можно было много заработать. Откупщик тюрьмы взимал с каждого заключенного по 6 дирхемов в месяц, которые надлежало уплачивать при поступлении в тюрьму и которые не возвращали обратно, даже и в том случае, если заключенный оставался в тюрьме очень недолго[2555].
Благотворительности мусульманина был канонически определен высокий минимум: ежегодно он должен был расходовать на нужды благотворительности не менее 2,5% своего состояния, а не дохода[2556]. Сообщается, однако, и о красивых поступках на ниве благотворительности, причем поступавшие так были движимы побуждениями как религиозного, так и светского чувства. Один богатый ученый в Герате (ум. 378/988) выпускал золотые монеты собственной чеканки, стоимость которых была в полтора раза выше стоимости обычных. «Бедняк радуется, когда я даю ему бумажный пакетик, ибо он думает, что в нем серебряная монета. Затем раскрывает его и радуется при виде желтого блеска золота и радуется он еще больше, когда замечает, что монета эта имеет лишний вес»[2557]. Некий богатый купец, бывший в то же время и ученым (ум. 351/962), послал другому ученому книгу, вложив в нее через каждые два листа по золотой монете[2558]. Золотых дел мастер в Багдаде послал знаменитому народному проповеднику на следующий день после того, как тот произнес проповедь о сладостях, 500 штук печений, в каждом из которых было по золотой монете[2559]. Поэт ал-Джахиза (ум.. 324/936) испытывал жесточайшую нужду, дом его был совершенно пуст. И вот однажды его посетил один чиновник, который привез с собой все необходимое: ковры, утварь, продовольствие и рабов. После того как они провели ночь в беседе, чиновник вручил поэту 2000 дирхемов, распорядился нести себя домой и распрощался с гостеприимным хозяином такими словами: «Береги свой дом, все, что в нем, принадлежит тебе!»[2560]. Набожная мать одного секретаря с детства приучила своего сына каждый вечер класть под голову фунтовый хлебец, а поутру отдавать его как милостыню. Так поступал он всю свою жизнь[2561]. В богатом финиками Кермане местный обычай запрещал подбирать опавшие плоды, оставляя их беднякам, «так что в сильный ветер беднякам доставалось, больше фиников, чем их владельцам»[2562].
Сложные тонкости существовали в порядке обмена скромными подарками между влюбленными. Посылать лимон, например, считалось неприличным, ибо снаружи он красив, а внутри кислый, и тем самым этот подарок может оказаться роковым знаком. Возлюбленная часто посылает яблоко, «на котором отпечатались следы укуса, подобные клешням скорпиона»[2563]. Это практиковалось еще в древнем Риме[2564]. Или какой-нибудь поэт велит вышить своими стихами кусок драгоценной ткани и дарит его своей любимой певице[2565].
Поскольку сам пророк был сирота, то особую заботу проявляли в отношении сирот, не собирая их, однако, в сиротские дома. В Исфагане, например, каждый набожный обычно приводил сирот по пятницам к себе домой, чтобы там им умастили головы[2566].
Напротив, учреждение больниц было делом чисто светским, так как, мусульмане и знать ничего не хотели о медицинском обслуживании. Название больниц — бимаристан — персидское, и оно не заимствовано из языка Корана. Сообщают, что первым, кто построил в эпоху ислама больницу, был ал-Валид, сын Абд ал-Малика, наименее благочестивый среди всех халифов[2567]. Позднее Бармакиды, очень далекие от ислама, основали больницу, которой заведовал индийский врач[2568]. В своем известном письме ат-Тахир советует сыну: «Строй для больных верующих, дома <где они находили бы приют>, назначай в них управителей, которые бы о них заботились, и врачей, которые лечили бы их болезни»[2569]. В 259/873 г. Ахмад ибн Тулун построил в Египте первую большую больницу. В ней была мужская и женская баня, и предназначена она была исключительно для бедных слоев населения; ни солдат, ни придворный не имели права получить там лечение. При поступлении в больницу одежда и деньги сдавались на хранение управителю, а при выписке из больницы пациент получал в качестве последнего рациона одну курицу и один хлеб. Правитель отпускал на нужды этого госпиталя 60 тыс. динаров и посещал его каждую пятницу[2570]. Кроме того, Ахмад учредил также при своей дворцовой мечети аптеку, в которой, каждую пятницу врач бесплатно лечил больных[2571]. В его госпитале было также отделение для умалишенных, в то время как Багдад имел, специальный большой сумасшедший дом — старый монастырь Иезекииля, расположенный на расстоянии нескольких дневных переходов южнее, по дороге на Васит[2572]. Главной принадлежностью подобного, заведения, как, впрочем, и у нас всего лишь несколько десятилетий назад, были цепи и кнут[2573]. В Багдаде при ал-Му‘тадиде (279—289/892—902) на жалованье врачам, служителям и глазным врачам — единственным узким специалистам того времени,— персоналу, ухаживающему за душевнобольными, и привратникам, на выпечку хлеба, на питание и лекарства отпускали по 450 динаров в месяц[2574]. Большой подъем больничное дело столицы получило благодаря деятельности одного немусульманина: в 304/916 г. Синану ибн Сабиту было поручено руководство «пятью госпиталями Багдада»[2575]. Благодаря влиянию этого знаменитого врача в 306/918 г. были одновременно открыты еще два больших госпиталя: один — самим халифом у «Сирийских ворот», а другой — на средства матери халифа на самой дорогой строительной площадке восточной стороны города — близ рынка св. Иоанна на берегу Тигра. Обоими заведовал Синан. На содержание госпиталя халифа было положено в виде пожертвования 2 тыс. динаров в месяц, а для госпиталя его матери — 600 динаров[2576]. Везир Ибн ал-Фурат также основал в 311/923 г. в Багдаде госпиталь, которому он лично выплачивал 200 динаров в месяц[2577]. По побуждению Синана, его покровитель Беджкем начал в 329/941 г. постройку еще и третьего госпиталя[2578] на красивом небольшом холме, расположенном на западном берегу Тигра, где в свое время стоял дворец Харуна ар-Рашида. Постройка долгое время оставалась незаконченной, и лишь в 368/978 г. за нее вновь взялся ‘Адуд ад-Даула и открыл в 371/981 г. лечебное заведение со штатом врачей, санитаров (му‘алиджин), слуг (хуззан), привратников (баввабин), управителей (вукала) и надзирателей (натурин)[2579]. Еще одну больницу близ моста через Тигр велел построить в 355/966 г. Му‘изз ад-Даула и пожертвовал на ее содержание недвижимое имущество, которое, вместе взятое, приносило 1000 динаров[2580]. Провинциальные города, такие, как Шираз, Исфаган, Васит, также имели свои больницы[2581].
В 319/931 г. халифу ал-Муктадиру стало известно, что некий врач неправильно лечил одного пациента, в результате чего тот умер. Он приказал тогда Абу Батихе, инспектору промыслов, запретить практику всем врачам, кто не был проверен Синаном — его лейб-медиком, и не получил свидетельства, разрешающего ему заниматься искусством врачевания. Количество подвергшихся испытаниям перевалило за 800 человек кроме тех, кто благодаря своей репутации стоял выше недоверия или находился на государственной службе. Экзамен протекал в крайне вежливой форме: «Мне хотелось бы услыхать от господина что-нибудь, что я смог бы сохранить в памяти»[2582]. Предание, относящееся к этому веку, не раз рассказывает, что лейб-медик повелителя отвечал головой за его лечение. В 324/935 г. врач христианин Бохт Йешу попал под подозрение, что он умышленно неправильно лечил умершего брата халифа. Даже за такое подозрение он поплатился всего-навсего тем, что был удален от двора[2583].
В то время в Мосуле считалось, что для скромного существования супружеской четы необходима сумма в 300 дирхемов в год[2584], а 5-7 тыс. динаров считались уже приличным состоянием[2585]. Некий молодой человек из семьи чиновника, промотавший доставшееся ему от отца состояние с певицами и унаследовавший затем еще 40 тыс. динаров с другой стороны, взялся теперь за ум и поместил свои деньги следующим образом: за 1000 динаров он восстановил пришедший в упадок отцовский дом, на 7 тыс. купил обстановку, ковры, одежду, трех рабынь и прочее, 2000 дал одному надежному купцу пустить в оборот, 10 тыс. он зарыл в землю в расчете на непредвиденный случай и, наконец, за 20 тыс. купил имение на доходы с которого существовал[2586].
Раскопки в Самарре познакомили нас с типом постройки месопотамского дома III/IX в. «Дома Самарры построены по определенному плану: крытый вход ведет с улицы или из переулка в просторный прямоугольный двор, спланированный в излюбленной пропорции 2:3. По короткой стороне двора лежит Т-образный главный зал с небольшими комнатами по углам. В остальной же своей части двор окружен рядами прямоугольных жилых и хозяйственных построек. В большинстве домов бывает еще несколько небольших смежных дворов с хозяйственными помещениями. Во всех домах есть бани и канализация, нередки и колодцы… В ряде, случаев бывали открытые беседки с колоннами (тарма) и подвальные жилые помещения (сардаб) с вытяжными каминами… Все дома были одноэтажными. Там же, где местность была неровная, рельеф искуснейшим образом использовался под террасы. Количество помещений в одном доме доходит до пятидесяти… Окна встречаются, они были застеклены большими цветными круглыми стеклами от 20 до 50 см в диаметре»[2587].
В месопотамской литературе IV/X в. еще нет упоминаний, свидетельствующих о существовании в те времена летних квартир в подвалах; ни в одном из многочисленных рассказов того времени действие не разыгрывается в таком помещении[2588]. Обычай искать таким образом спасения от ужасающей жары исходит из Центральной Азии, где в 981 г. н.э. Ван Янь-дэ отметил, что летом уйгуры живут в подземных квартирах[2589]. В мусульманских же областях только Зерендж — столица Афганистана и персидский город Арраджан[2590] имели в то время сардабы с проточной, водой, приспособленные под летние квартиры. Еще в V/XI в. путешественнику Насир-и Хусрау бросилось в глаза своеобразие Арраджана, выражавшееся в том, что там столько же квартир под землей, сколько и на поверхности. Через подземные помещения (сардаб) протекает вода, так что летом здесь можно отдыхать[2591]. Лишь несколько веков спустя ал-Макризи имеет возможность с похвалой отозваться о Египте, где летом нет нужды «спускаться в недра земли, как в Багдаде»[2592]. Вместо сардаба в то время роскошным летним жильем считался «дом из войлока» (байт или куббат ал-хайш). Говорят, что персидские шахи отдыхали в часы полуденного зноя в комнате с двойными стенами, между которыми был набит лед. Так же, как передают, обстояло дело и у Омейядов, однако позднее, при ал-Мансуре, появился новый способ добиваться прохлады. Растягивали очень грубый войлок и по нему пускали литься воду, которая, испаряясь, давала прохладу[2593]. Первое время войлок натягивали поверх палатки, а позднее — над жалюзи[2594]. Во дворце ‘Адуд ад-Даула в Ширазе войлок непрерывно поливался из укрепленных сверху труб[2595]. По-видимому, в Багдаде этот способ охлаждения был очень распространен; так, в начале IV/X в. один военачальник считал негодными для серьезного похода рекрутов, набранных из Багдада, ибо они «привыкли к домам на берегу Тигра, к вину, льду, мокрому войлоку и певицам»[2596]. Дополнительную прохладу в этих летних домах давали укрепленные на опорных арках опахала (мирвахат ал-хайш), пропитанные благовониями полотнища, которые, «как паруса, висели на потолке»[2597]. Даже во время прогулки на лодке по Тигру брали с собой лед и мокрый войлок, причем последний драпировали занавесями из цветного газа (кара’иш)[2598]. В летние ночи жители Багдада спали на крышах[2599]. На Севере, в Амуле, напротив, из-за обильных дождей были больше приняты крыши со скатами[2600]. В Йемене и в летнее время в домах так прохладно, что во время полуденного отдыха приходится накрываться; отправляются в спальню на свое ложе и затягивают полог. Говорят, что это происходит от глины, которой изнутри обмазаны дома. «В доме светло как днем, потому что крыша и стены из мрамора, ну, а если еще для крыши использован мрамор чистый, то можно изнутри наблюдать тени пролетающих над ней птиц»[2601].
В середине III/IX в. для больших построек получил распространение архитектурный стиль, заимствованный из Хиры, иными словами, эллинистический, с трехчастным фасадом и воротами в центральной части фасада и обоих его крыльев (арабск. кумм — «рукава»). Халиф ал-Мутаваккил устраивал в своих дворцах по три огромные арки, «через которые мог проехать всадник с копьем»[2602]. Этот стиль построек имел успех, повсюду «люди строили себе хирские дома»[2603]. Согласно предварительному отчету о раскопках Самарры, средняя арка превосходила боковые по высоте и ширине, воплощая таким образом мотив эллинистических уличных и триумфальных арок[2604]. Выстроенный сорок лет спустя в Багдаде дворец «Корона» (тадж), пожалуй, является дальнейшим развитием этой формы. Его фасад состоял из пяти арок, опирающихся на 10 мраморных колонн высотой в пять локтей каждая (ок. 2,5 м)[2605]. Фасад дворца Ибн Тулуна в Египте также имел трое ворот, расположенных рядом, причем все сразу открывались лишь в дни самых больших праздников[2606]. Ибн Тулун, вероятно, заимствовал этот архитектурный стиль, как и стиль своих минаретов, с Востока. Территория дворца на восточной стороне Багдада представляла целый город, простираясь на 12 км в глубь от берега Тигра, и окружена была стеной[2607]. Дворцы вельмож также состояли из разных построек. Везир Ибн ал-Фурат, который около 300/912 г. затратил на свой дворец 300 тыс. динаров, позволил себе истратить еще 500 тыс. динаров на прилегавший ко дворцу летний дворец с садом (дар ал-бустан), в котором он поместил своих жен, племянниц и малых детей[2608]. Сразу же за воротами возвышалась самая высокая часть дворца — бахв[2609], вызывающе украшенная зубцами:
Дворец халифа имел сады, дома, беседки, купольные здания, дворы, и все это оживлялось прудами и ручьями. В «Свинцовом доме» халиф давал свои торжественные аудиенции. Перед этим домом протекал ручей, который впадал в Тигр[2611]. Дворы назывались по месту сбора там гвардейских частей — «сороковой», «шестидесятый», «девяностый»[2612]. Купольной постройкой наряду с другими был «Лимонный дворец» (дар ал-утруджжа)[2613] и «Ослиный купол»[2614]. Вплоть до Дар-ас-Салама эмиры обычно заезжали в этот город дворцов верхом, а здесь они должны были сойти с коней[2615]. В более поздних источниках идет речь о каких-то подземных ходах, связывавших между собой дворцы. Фатимидские дворцы, описываемые Насир-и Хусрау, также состояли из больших и малых построек, связанных подземными ходами[2616]. Однако в многочисленных весьма подробных рассказах, действие которых разыгрывается во дворцах, мы ни разу ничего не слышим о подобных потайных ходах и тайниках, и это дает нам право считать, что в данном случае имеет место явное преувеличение.
Дворец ‘Адуд ад-Даула в Ширазе ал-Мукаддаси осмотрел вскоре после смерти его строителя. Он утверждает, что слышал от главного камердинера, будто во дворце 360 комнат и эмир каждый день пользовался другой комнатой, пока не заканчивался год[2617]. Сообщают, что маяк Александрии имел 366 комнат[2618], а замок Эльденбург в Бранденбургской марке тоже имел столько комнат, сколько дней в году[2619].
К концу III/IX в. стали возникать причудливые затеи, быстро распространявшиеся от одного двора к другому,— они явились как бы предшественницами начинающейся в литературе манерности. Так, в тулунидском дворце в Египте был устроен пруд из ртути, площадью 50×50 локтей. По углам пруда высились столбы из массивного серебра, на которых при помощи серебряных колец были укреплены шелковые шнуры, державшие надутый воздухом кожаный матрац; на этом ложе обычно спал повелитель. «Одна из великолепнейших мыслей царственного ума! Как это было чудесно, когда лунными ночами сияние луны сочеталось со сверканием ртути»[2620]. В Багдаде халиф показывал в «новом павильоне» греческому послу 305/917 года озеро из олова, «прекраснее, чем полированное серебро», величиной 30×20 локтей, а на нем четыре красивых таййара, обитых и накрытых златотканым и расшитым золотом египетским полотном[2621].
«В Риме императора Августа появилась мода на так называемые египетские сады, которые в древние времена представляли собой примерно то же самое, что позднее называли английским парком. Это была как бы реакция на строгую архитектонику паркового стиля, продолжавшего планировку дома и в природе»[2622]. А когда правитель Испании устраивал близ Кордовы свой увеселительный замок Захра, то и в нем не могли обойтись без пруда из ртути[2623]. У Тулунида Хумаравайхи эта египетская традиция сочеталась с тюркской страстью к цветам, что сделало его крупнейшим специалистом по садоводству среди мусульманских правителей. На учебном плацу своего отца он велел высадить всевозможные сорта цветов и деревьев. Там имелись экземпляры редкой прививки, например, миндаль был привит на абрикосовые деревья; различные сорта роз, красный, голубой и желтый лотос. Высев цветов производился в виде разных картин и начертаний слов, а садовники обязаны были с ножницами в руках заботиться, чтобы ни один лист не торчал отдельно от других. Пруды, фонтаны, искусственные родники и — как это уже имело место в античном египетском садовом стиле — павильоны, которые оживляли парк. Что же касается стиля «английского парка», в соблюдении которого, пожалуй, и в античном мире не так далеко ушли, то о нем думали так мало, что самый страстный любитель цветов, египетский халиф последующего столетия, приказал застелить дорожки своих садов иракскими циновками[2624]. Стволы пальм облицовывали вызолоченными металлическими пластинками — вот где сказывались вкусы древнего Востока! Еще персидские цари давали аудиенции в тени платанов, целиком облицованных серебром[2625]. Так же и в «новом павильоне» Багдада вокруг пруда из олова стояло 400 пальм, все одинаковой высоты в 5 локтей, стволы которых до самой кроны были облицованы резным тиковым деревом, скрепленным вызолоченными металлическими обручами[2626]. Больше всего радости халифу ал-Кахиру доставлял его померанцевый сад, для которого он ввозил деревья из Басры и Омана, куда эти деревья лишь совсем недавно были завезены из Индии[2627]. И приблизительно в эту же эпоху в Сирии жили поэты ас-Санаубари и ал-Кушаджим, поэтические провозвестники прелести садов, цветов и деревьев. Однако возможности садоводства были не так уж велики: розы, нарциссы, кроваво-красные анемоны, белый мак, фиалки, жасмин, гранаты, мята, гвоздики, лилии, мирта, желтая ромашка (бекар) и на прудах — лотос. Тюльпаны еще продолжали оставаться в степях Центральной Азии. Что же касается разведения розы, то оно достигло больших успехов. Автор Нишвар ал-мухадара (ум. 384/994) утверждает, что он видел розу густого черного цвета, издающую прелестный аромат, а также видел в Басре розу, которая была наполовину ярко-красная, а наполовину чисто-белая, причем полоска, разделяющая цвета на лепестке, была как бы проведена каламом[2628]. Единственным деревом, культивировавшимся наряду с пальмой, был кипарис.
В Египте, где зародилась эта сильная страсть к цветам, она продолжала существовать на протяжении всего этого времени в самой яркой форме. В V/XI в. путешественник Насир-и Хусрау видел в Каире садовников-торговцев, которые постоянно держали на своих складах плодоносящие деревья в кадках, чтобы их можно было тотчас же высадить. Ничего подобного он больше нигде не видал. Один богатый еврей выставил на крыше своего дома 300 деревьев в серебряных горшках[2629].
Во дворце в Багдаде, посреди круглого пруда с прозрачной водой, стояло дерево с восемнадцатью сучьями, ветви которых были из серебра — небольшое количество было из золота,— и на них висели разноцветные листья, которые трепетали, подобно листьям настоящего дерева, трепещущим на ветру. На ветвях сидели разные птицы из серебра и щебетали. Рассказывают, что в 305/917 г. это поразило византийского посла больше, чем все остальное[2630]. Однако нам известно, что в императорском дворце в Византии вокруг трона императора стояло несколько кресел, и епископ Лиутпранд, посол германского короля Оттона, сам слышал, как поют сидящие на этих креслах птицы. Византийский император, кроме того, держал перед собой даже двух больших вызолоченных львов, охранявших его трон. Во время приемов эти львы по временам разевали пасти, рычали и били хвостами по земле. Но этого еще мало —императорский трон мог быть поднят при помощи механизма до потолка зала[2631] — явная безвкусица, чуждая восточному нраву.
Упомянутое выше дерево в Багдаде превозносит на все лады также современник и наследник престола Ибн ал-Му‘тазз[2632].
Дома в Багдаде, должно быть, нередко имели выступы и эркеры на первом этаже, избегать которые плохой верховой осел не умел[2633]; кроме того, они пользовались дурной славой как опасные потайные закоулки[2634]. На узких улочках Шираза, где не могут разойтись два животных, постоянно натыкаешься на эти эркеры[2635].
Входные двери делали из красивого резного дерева, а дверным молотком служило кольцо[2636]. Вообще, дерево использовалось широко, причем в домах знати излюбленным было индийское тиковое дерево. Из-за этого интерьеру дома был присущ, вероятно, почти немецкий «уют», как в домах наших крестьян. Такое впечатление производит и выставленная в Каирском музее экспозиция комнаты. Однако комнаты там были пусты, что выгодно выделяло фигуру, движения и одежду человека. Рисунки и расцветки ковров и занавесей имели из-за этого свободу гармонии. Единственной мебелью были лари (тахт, мн.ч. тухут), в которых хранилась одежда[2637]. Шкафы, а также кровати были неизвестны. Стол вносили только на время еды, причем в домах знати III/IX в. для этой цели особенно охотно использовали плиты из оникса[2638]. Столы на ножках появились позднее[2639]. Абу-л-Касим превозносит такие столы из краснобелого хорасанского дерева халандж, говоря, что они «подобны букету гвоздики». Постепенно столы стали приобретать огромные размеры. Так, в 305/917 г. халиф послал везиру три стола, самый большой из них имел в окружности 50 пядей, так что для него пришлось расширять дверной проем[2640].
При дворе Фатимидов были в употреблении колчаны (тайафир), также изготовленные из дерева халандж[2641], которое поставлялось главным образом из Джурджана на берегу Каспийского моря[2642]. Уже в III/IX в. ал-Джахиз поет хвалу распространенной на Востоке посуде из каймакского (тюркского) дерева халандж, которая наряду с китайской посудой повсюду пользовалась популярностью[2643]. Кухонную посуду называют просто «медь» (суфр)[2644]. В Каире в V/X в. одна женщина имела 5 тыс. больших медных сосудов для воды, которые она давала напрокат за один дирхем в месяц[2645].
В строительстве многочисленных заведений с горячими ваннами ислам продолжал развивать традицию греко-римского мира. В жизни древнего Востока они не получили широкого распространения. Персидский царь Балаш (484—488 гг. н.э.) навлек на себя гнев своих священнослужителей, когда построил в городах своего царства общественные бани[2646], «ибо купание есть профанация священного начала»[2647]. Позднее, когда царь Кубад после взятия Амиды пошел в общественную баню и получил от этого огромное удовольствие, он приказал построить такие заведения во всех городах Персии[2648]. А один старый арабский автор сообщает даже, что до ислама персы вообще не имели бань[2649]. Однако и у мусульман, строго соблюдавших предписания ислама, бани всегда рождали подозрения. Абу Бакр ас-Сулами (ум. 311/923) был не уверен, посещал ли пророк когда-нибудь хаммам (баню)[2650]. Муж не должен давать своей жене денег на баню, ибо тем самым он способствует поступку, заслуживающему порицания[2651]. А еще в 322/934 г. халиф назвал их «ромейскими банями» (хаммамат румиййа)[2652]. Внутреннее убранство бань было целиком немусульманским. В банях Самарры цоколи украшены росписью, а не лепкой — «это сирийско-эллинистическая традиция»[2653]. Ал-Mac‘уди замечает, что в банях часто можно встретить изображение сказочного животного ал-‘Анка. Это херувим древнего Востока: птица с человеческим лицом и орлиным клювом, по бокам — четыре крыла и две руки с когтями[2654]. А в уста ‘Али вложены слова, что он не видел в бане ни одного изречения из Корана[2655]. На одной только восточной стороне Багдада в III/IX в. насчитывалось 5 тыс. бань[2656] и 10 тыс. во всем Багдаде еще в первой половине IV/X в.[2657], а во второй половине столетия, как сообщают, их было всего лишь 5 тыс.[2658] Позднее эта цифра неуклонно уменьшалась, и в VI/XII в. приводят всего 2 тыс.[2659] Снаружи бани так обильно покрывали асфальтом, который добывали из источника, расположенного между Куфой и Басрой, что казалось, будто они построены из черного мрамора[2660]. В Египте горячка банного дела никогда не достигала той степени, как это было в Сирии. Говорят, что Старый Каир имел 1170 горячих бань, а Новый Каир около 685/1286 г.— всего лишь 80[2661]. Персонал бани состоял по меньшей мере из пяти человек: банщик (хаммами), служитель (каййим), человек, приготовляющий кизяк (заббал),— бани топились главным образом сушеным навозом,— истопник (ваккас) и разносчик питьевой воды (сакка)[2662].
Пояса и высокие шапки, которые у арабов-язычников считались принадлежностью одежды персов[2663], ввел при своем дворе уже ал-Мансур (II/VIII в.), что побудило одного придворного к следующим язвительным стихам:
Мы надеялись на прибавку от правителя, а он взял да прибавил к шапкам,
Которые сидят на черепах людей, как горшки иудеев, украшенные вуалью[2664].
Через участников крестовых походов эта высокая шапка с покрывалом пришла на Запад и стала женским головным убором[2665].
При ал-Муста‘ине (248—252/862—866) шапки вновь стали ниже, только кади сохранили высокие колпаки (акба‘)[2666]. Передают, что тот же самый ал-Муста‘ин ввел широкие рукава — шириной в три пяди, которые до этого никогда не были в ходу[2667]. Они служили карманом, куда клали все, что нужно: деньги[2668], книги. Математик, когда он намеревался что-нибудь начертить, извлекал из рукава грифель[2669], банкир засовывал в него чек[2670], портной свои ножницы[2671], кади доставал из рукава бумагу, которую публично зачитывал с минбара[2672], а писарь — прошение[2673]. Другие пользовались вместо кармана обувью; так, везир ал-Му‘тамида извлекал из туфли инвентарную опись казначейств[2674], а придворные уносили домой с обеда во дворце наполненные супом бутылки в туфлях своих рабов[2675].
Мы располагаем сведениями, относящимися к началу, а также и к концу IV/X в., говорящими о том, что порядочному человеку не пристало носить пеструю одежду, что такая одежда для рабов и женщин. Мужчина мог надевать ее в крайнем случае в четырех стенах своего дома, в дни лечения кровососными банками или во время попойки; выходить же в такой одежде на улицу было просто неприлично. Одежда благородного человека должна быть белого цвета, что рекомендуют также и богословы, потому что в раю носят, мол, белые одежды[2676]. Между тем певец Ибн Сурайдж (эпоха Омейядов) бродил по улицам Медины в пестрой одежде, держа в руке привязанную за ниточку саранчу, которой он то давал взлететь, то притягивал обратно[2677]. Неприличным считалось носить грязное вместе со стираным, новое с уже стираным, полотно или шерсть — с шелком: «самой красивой является одежда, где все подходит друг к другу»[2678]. Кроме мужчин белые одежды носили разведенные жены, все же прочие женщины должны были избегать этого цвета, за исключением белых шаровар, но одежда должна была быть натурального цвета, а не крашеной. Крашеные одежды носили крестьянки и рабыни-певицы. Голубыми на Востоке были одежды вдов и траурные платья[2679], а в Испании траурные одежды были белого цвета[2680]. Шаровары, эта никак не арабская часть туалета, были принадлежностью более дорогой одежды[2681]. Все три главные группы государственных служащих отличались также и одеждой: «секретари» носили дурра‘а[2682] — вырезанную на груди длинную рубаху; богословы — накидку (тайласан)[2683], а военные — короткую персидскую куртку (каба). Такая куртка около 300/912 г. являлась придворной одеждой, и, отправляясь в мечеть, придворные надевали черные куртки. Некий человек рассказывает, как он хотел проникнуть в дурра‘а в придворную ложу мечети и как его не пустили чернокожие привратники: доступ сюда, мол, только в черной куртке. И такого порядка придерживались во всех дворцовых ложах мечетей. Однако около 400/1009 г., добавляет ал-Хатиб, положение изменилось, и теперь в черной одежде появляются только проповедники и муэззины[2684]. Богатый купец или частное лицо носили две рубахи (камис) и халат (рида) поверх штанов. Так был одет и принц ал-Кахир, когда в 320/932 г. ему объявили, что он избран халифом[2685]. А суфий ал-Фаргани (ум. 331/943), разыгрывавший из себя богатого человека, хотя был беден, также носил две рубахи, халат, штаны, изящные туфли, повязку и вертел ключ в руках, хотя никакого дома у него не было[2686]. Вместо арабского рида встречался уже и кафтан (хафтан). В начале IV/X в. один египетский поэт едет в нем зимним днем ко двору[2687]. Он был выходным платьем сирийских литераторов[2688]. В кафтан облачен и халиф ал-Муктадир, когда он садится на коня, отправляясь в свой торжественный выезд на смерть (320/932 г.).
Из Китая пришли дождевые плащи из клеенки[2689], которым ничего не делалось даже во время сильного ливня. Уже поэт ал-Бухтури (ум. 284/897) просит у своего покровителя такой плащ[2690]. А ал-Мукаддаси, чтобы охарактеризовать отсутствие дождей в Йемене, рассказывает, что там никто не говорит ни слова о дождевиках[2691].
Чулки носили как женщины[2692], так и мужчины[2693]. Красные туфли считались дурным тоном, потому что носили их греческий император и простые мусульмане, однако при этом щеголь мог себе позволить носить одну желтую и одну черную туфлю, как это делал наследник престола в Византии[2694].
Среди юношей и девушек очень долго держалась мода зачесывать вперед волосы на висках, «подобно букве нун»[2695] или наподобие скорпиона, «который изогнулся оттого, что подошел слишком близко к пламени щеки»[2696]. Эта мода была еще сто лет назад воспета Абу Нувасом[2697].
В свое время остготы нагоняли страх на жителей юга Европы своими выкрашенными в зеленый цвет волосами; светлые волосы красили в голубой цвет и фракийцы[2698]. Также и на Востоке — как в Аравии, так и в Иране — обычай красить волосы был настолько распространен, что даже богословы спорили о допустимости этого обычая с точки зрения канонов ислама. Абу Ну‘айм (ум. 430/1039), например, в своей «Истории Исфагана» в каждой приводимой им биографии точно сообщает, красился ли ее герой или нет. Даже аскет, сорок лет не ложившийся на ложе, красил себе волосы и бороду[2699]. Однако в высшем обществе этот обычай, кажется, был редким исключением, что видно из того, что Фихрист в своих кратких сведениях о жизни придворного и литератора ал-Мунаджжима особо подчеркивает, что красился он до самой смерти[2700].
Еще в эпоху поздних римских императоров характерным для господствовавшего вкуса было появление на аренах цирков окрашенных в пурпур баранов, выбеленных быков, львов с вызолоченными гривами и покрытых киноварью страусов[2701]. В IV/X в. ни один арабский источник не упоминает о чем-либо подобном, но поскольку я сам видел в современном Багдаде ослов, выкрашенных наполовину красным, и голубей, окрашенных в нежно-розовые тона, взмывающих вверх к зеленому вечернему небу, то можно предположить, что это имеет какую-то связь с упомянутым обычаем античной эпохи.
Лишь в IV/X в. при погребении возрождается совершенно чуждый исламу обычай, когда великие мира стали сооружать для себя надгробные памятники (турба). Первой поставила себе памятник в Русафе мать ал-Муктадира, «гречанка»[2702], затем — халиф ар-Ради (ум. 329/940) — там же[2703], за ним Му‘изз ад-Даула (ум. 356/966) поставил памятник на могилах курайшитов[2704] и халиф ат-Та’и‘ — опять-таки в Русафе[2705]. Впрочем, на протяжении этого отрезка человеческой жизни и в другом стойко сохранялся ряд чуждых исламу обычаев. Так, все снова и снова приходилось запрещать обычай оплакивания покойников (впрочем, безуспешно). Около 250/864 г. в Египте[2706] было запрещено рвать на себе одежду, мазать сажей лицо и остригать волосы, а женщин, нанимающихся оплакивать покойника, сажали в тюрьму. В 294/907 г. это повторилось снова[2707]. Ал-Хаким запретил женщинам следовать за телом покойного с открытыми лицами, запретил плач и стенания и шествия плакальщиц с барабанами и флейтами[2708]. В Багдаде женщины оплакивали умершего, вычернив себе лицо и распустив волосы[2709]. Когда в 305/917 г. скончался брат матери халифа, она велела разрушить зеленый павильон, который он построил себе, разломать его брандеры и таййары на Тигре[2710]. В 329/941 г. халиф ар-Ради настолько близко принял к сердцу смерть евнуха Зирака, что переселился на несколько дней из своего дома в другой — также обычай, хорошо известный у самых разных народов,— и в ознаменование траура распорядился выпустить в Тигр 400 бочек (динан) старого вина[2711]. Ал-Хамадани в наброске своего завещания определил, чтобы его не оплакивали, не били себя по щекам, не расцарапывали лица, не распускали волосы, не окрашивали черным двери, не ломали мебель, не вырывали растений и не разрушали построек. Он завещал, чтобы его завернули в три белые египетские пелены, причем они должны быть не из шелка, на них ничего не должно быть вышито или выткано золотом[2712]. Это было вызвано совершенно чуждой исламу роскошью, с которой тела знатных покойников обряжали в саваны и бальзамировали. В 356/967 г. умер Хамданид Сайф ад-Даула; так его девять раз обмывали: сначала чистой водой, затем духами из лотоса, сандалом, зарирой[2713], потом амброй, камфарой, розовой водой и под конец — два раза дистиллированной водой. Обтирали его куском дабикской ткани, стоимостью в 50 динаров, причем ткань эту получил сверх платы производивший обмывание кади Куфы. Бальзамировали его миррой и камфарой, щеки и шею обработали 100 мискалями галиа <ароматичная мазь. — Д.Б.>, в уши, глаза, нос и под затылок положили 30 мискалей камфары, а его погребальные одеяния стоили 1000 динаров. Его положили в гроб и всего засыпали камфарой[2714]. Умерший в 374/984 г. сын халифа ал-Му‘изза был обернут шестнадцатью саванами[2715], а бальзамирование египетского везира Ибн Киллиса (ум. 380/990), как передают, обошлось даже в сто тысяч динаров[2716]. Модификацией плача по покойнику в канонически дозволенных рамках являлось возглашение при погребении ученых: «Это тот, кто защищал посланника Аллаха, кто отстранял от него ложь, тот, кто знал хадисы посланника Аллаха!»[2717]; или: «Прощение приобретает лишь тот, кто любит закон и общину»[2718]. Очень часто богословов хоронили сначала в их доме и лишь через несколько лет переносили на кладбище[2719]. Во второй половине IV/X в. возник продолжающий существовать и по сей день обычай шиитов отвозить своих покойников в Неджеф и Кербелу. А это также являлось возрождением древнего обычая. Так, шиитский богослов ал-Кумми (ум. 381/991) сообщает, что в его время иудеи и христиане все еще хоронили своих покойников в Палестине[2720].
Приглашения в компанию должны были удовлетворять требованиям искусства риторики. Как только не изощрялись при этом в совершенно убийственном остроумии[2721]! Так, ас-Сахиб Исма‘ил ибн ‘Аббад писал своему другу: «Мы собрались, о господин, в компании, где есть все, кроме тебя, всем довольны мы, исключая того, что нет тебя. Здесь раскрылись глаза нарциссов, зардели щеки фиалок, благоухают курильницы цитрусов, открыты коробочки померанцев, заговорили языки лютней и поднялись проповедники струн, повеяли ветерки кубков, открыт базар вежества, встал глашатай веселья, взошли звезды сотрапезников, раскинулось небо амбры. Клянусь моей жизнью, когда ты придешь, мы очутимся в райском саду вечности и ты будешь центральной жемчужиной в ожерелье»[2722]. К началу IV/X в. за столом везира Ибн ал-Фурата ежедневно собирались девять его тайных советников, и среди них четверо христиан. «Они сидели как по его сторонам, так и против него. Сначала каждому подавали поднос с самыми отборными фруктами всех сортов в соответствии с временем года. Посреди стола ставилось большое блюдо, на котором также лежали все сорта фруктов. Это блюдо предназначалось только для услады взоров. На каждом из небольших подносов лежал ножик, чтобы можно было разрезать айву, персики и груши, а рядом с подносом стоял стеклянный таз для отбросов. Когда они удовлетворяли свою потребность в фруктах, подносы уносили и вместо них приносили тазы и кувшины, и они мыли руки. Затем появлялось блюдо с кушаньем на кожаной скатерти, накрытое крышкой из бамбуковых палочек, поверх которой был наброшен кусок египетского полотна, а кругом лежали салфетки. Когда снимали крышку, присутствующие приступали к еде. Ибн ал-Фурат беседовал с ними, предлагал им кушанья и уговаривал отведать того или другого. Два часа кряду непрерывно подавали и уносили блюдо за блюдом. Затем они переходили в смежную комнату, мыли руки, причем слуги поливали им воду, и тут же стояли наготове евнухи с полотенцами из египетского полотна и флаконами, наполненными розовой водой, чтобы вытереть гостям руки и обрызгать им лица розовой водой»[2723]. Об этой последовательности в подаче блюд, пожалуй, рассказывается так подробно потому, что это было новшеством. Старый мусульманский обычай требовал, чтобы все кушанья подавались сразу, чтобы каждый мог есть, что ему угодно[2724]. Так в XVIII в. французская манера одновременной подачи всех кушаний сменилась распространенной нынче во всей Европе русской манерой. Общее мытье рук за столом перед едой было принято повсюду. Обычно это происходило в одном и том же тазу, причем хозяину дома следовало начинать, «чтобы никто не испытал чувства стыда», будто он спешит скорее приступить к еде[2725]. Омовение после еды было мытьем в подлинном смысле, во время которого хозяин дома должен был быть последним. Начинали эту процедуру с человека, сидящего слева от хозяина, и шли налево по кругу, так что он оказывался последним[2726]. Однако, если кто-либо находился в обществе не равных себе, а в среде более знатных персон, как в приведенном нами случае в компании везира, то гости, как правило, умывались в соседней комнате. Адаб ан-надим также предписывает никогда не мыть рук после еды перед правителем и знатью, а избавлять от созерцания того, «на что у себя самого смотришь с неохотой, не говоря уже о других». «Иногда хозяин просит не утруждать себя и вымыть руки за столом, однако на это может согласиться только глупец»[2727]. Обычай этот был принят повсеместно. В Вавилонии, например, ждали, пока не встанет из-за стола и не начнет мыть руки в стороне кто-нибудь из стоящих ниже по рангу[2728]. Передают, что Афшин, который не поступал так, навлек на себя из-за этого немилость халифа[2729]. Также и в Египте один знатный варвар предлагал своим гостям удалиться в соседнюю комнату, чтобы там умыться[2730]. Возник этот обычай во второй половине II/VIII в., как об этом свидетельствует следующая история: Ибн Да’б никогда не ел у халифа ал-Хади. «Я не ем там,— говорил он,— где я не могу помыть себе руки»,— потому что у ал-Хади обычно удалялись для мытья рук. Тогда Ибн Да’б получил разрешение мыть руки в присутствии халифа[2731]. Также предписывалось: «Ковырять в зубах следует только в уединении»[2732]. «Вечно скребет он зубы зубочисткой»,— описывает Ибн ал-Му‘тазз одного неприятного сотрапезника[2733].
Обыкновение везира развлекать своих гостей во время еды разговорами также диктовалось обычаями его времени. Единого мнения о том, можно ли разговаривать за едой, не было[2734], а если можно, то в этом случае речь держать надлежало хозяину, чтобы гость мог спокойно есть[2735].
Запрещалось даже произносить по окончании еды «Хвала Аллаху!», ибо тем самым принуждали вставать из-за стола тех, кто, может быть, еще не закончил еду[2736]. Ал-Джахиз рекомендовал избирать себе в качестве сотрапезника такого человека, который «не выковыривает из костей мозг, не хватает первым яйцо, лежащее поверх овощей, не захватывает себе куриную печень и грудку, мозги или почки, глаза (еще и в наши дни на Балканах самые лакомые кусочки баранины) и молодых цыплят»[2737].
А сто лет спустя считалось: «Люди знатные пренебрегают кишками, сухожилиями или жилами, почками, желудками, хрящами, брюшиной, изрезанным на куски и накрошенным, а также и суповой зеленью. Они не хлебают суп, не выискивают мозг, не наполняют руки жиром, не употребляют много соли, что у них считается самым неприличным, и не плещутся в уксусе. Они не пачкают жиром лежащую перед ними хлебную лепешку, не тянутся со своего места, не облизывают пальцы, не набивают полный рот, не берут в рот такие большие куски, что губы становятся жирными, не засовывают в рот два куска разной еды и не едят соленой закуски. Последнее считается у них позором; разве только изящные певицы и изысканные дамы иногда доставляют себе удовольствие поесть соленого на дому у своего любовника и пококетничать пренебрежительным отношением к еде и общепринятым кушаньям»[2738]. Отдельных тарелок в то время не было, только перед ученым-филологом Абу Рийашем (вторая половина IV/X в. в Басре), который имел обыкновение класть обратно на блюдо укушенный им кусок мяса, ставили отдельное блюдо. Однако, несмотря на эту меру, ему удавалось приводить в ужас гостей везира тем, что он сморкался в скатерть и плевал[2739].
Искусство приготовления пищи пользовалось большим вниманием со стороны литературы. В III/IX в. поварские книги написали: придворный ал-Мунаджжим, эмир-поэт и певец наследника Ибрахим ибн ал-Махди, настоящий поэт ал-Джахиза[2740]. Историк IV/X в., библиотекарь Ибн Мискавайхи, также написал между другими сочинение по вопросам диеты, «в котором он рассуждает как о принципах поварского искусства, так и о самых невероятных его ответвлениях»[2741]. Ал-Хамдани дает нам основание предположить наличие в то время обширной литературы о приготовлении пищи: «Кушанья и напитки Йемена следует предпочесть рецептам поварских книг (кутуб ал-матабих)»[2742]. К сожалению, все это, кажется, пропало, а все сохранившиеся арабские поварские книги являются более поздними по своему происхождению. Они рекомендуют отвратительные смеси из мяса, мускуса, камфары и розовой воды[2743], которые ценились также и в итальянском Ренессансе. Сохранившиеся рецепты более ранних времен[2744] свидетельствуют о более тонком вкусе и приберегают розовую воду, мускус и камфару для сладких блюд. Последние являлись апогеем всех праздничных пиршеств, причем и внешне они также приготовлялись с величайшим искусством — из сахара строились целые дворцы, украшавшие столы. Ал-Мутанабби, например, должен был благодарить за рыбу из сахара и миндаля[2745].
От обычного обеда или ужина резко отличалась веселая пирушка в прямом значении этого слова. Лишь она начиналась среди бокалов, и даже в самые безнравственные времена во время еды никогда не пили вино. Такая пирушка открывалась острыми закусками, которые назывались нукл, подобно греческим nogalmata и латинским nuclei, игравшим ту же роль. Налегать на них считалось дурным тоном; редьки, сельдерея, чеснока и лука из-за их резкого запаха следовало избегать, а также и всего того, что имеет косточки, как оливки, финики, абрикосы, виноград и персики, потому что, когда их едят, это выглядит неаппетитно. Гранаты, фиги, арбузы были слишком дешевы — их ел простой народ, и из-за этого «благородные» относились к этим плодам с презрением. То же самое касалось кислой пшеницы, черного изюма, «похожего на козий помет», желудей, каштанов и поджаренного кунжутного семени. У знати пользовались успехом лишь такие дорогие деликатесы, как индийские оливки, съедобная земля из Хорасана[2746], ядра фисташек, вымытый в розовой воде сахарный тростник, айва из Балха и сирийские яблоки[2747]. Несмотря на запрет Корана, питье вина было в то время широко распространено. Но все же имелись особенности, характерные для той или иной провинции. Так, уже в 169/785 г. в арабском Хиджазе был наказан некий Алид за питье вина, в то время как в Месопотамии в этом не находили ничего дурного[2748]. Кабачки процветали там так же, как и в доисламскую эпоху. Хозяин кабачка, прислужники и прислужницы чаще всего были из христиан.
На груди которых красовались кресты, как гвоздики без стебля[2749].
Так же обстояло дело и в Египте. Посетивший Старый Каир ал-Мукаддаси с неодобрением отзывается о том, что даже люди достойные уважения (маша’их) не воздерживаются от вина[2750]. Не помогали все полицейские запреты, которые при Фатимидах ограничивались лишь закрытием трактиров в канун священного месяца раджаб[2751]. Передают, что в богатом вином Марокко страсть к вину особенно сильно проявлялась у женщин[2752]. «В период сбора винограда большая часть населения пьяна»,— сообщает один путешественник в наши дни[2753]. Когда знаменитый филолог ал-Азхари пришел к еще более знаменитому Ибн Дурайду (ум. 321/933 в возрасте 90 лет), он нашел его пьяным и поэтому никогда больше не приходил к нему. А когда этот старик лежал при смерти, то посещавшие его испытывали чувство стыда при виде лютен, развешанных по стенам его дома и стоящих повсюду сосудов с вином[2754]. В том же году халиф ал-Кахир запретил пение и вино, но сам он почти никогда не был трезвым[2755]. Его преемник ар-Ради дал обет Аллаху не пить вина. Два года халиф действительно держал данное им слово и в компании пил только сироп (джуллаб), но затем его все же совратили. Он написал полный текст своего обета и представил его юристам, которые нашли обычный для того времени выход из положения: «Он послал мне,— рассказывает ас-Сули,— тысячу динаров, чтобы я роздал их как милостыню, а сам пил»[2756]. Вступивший в 333/944 г. на халифский престол халиф ал-Мустакфи, отказавшийся в свое время от вина, опять начал пить, как только пришел к власти[2757]. В знатных домах наряду с поваром имелся смотритель-виночерпий (шараби), который отвечал за вино и кубки, за фрукты и благовония[2758]. Пили также и в высших религиозных кругах. «У везира ал-Мухаллаби дважды на неделе собирались кади, среди них — верховный кади Ибн Ма‘руф, кади ат-Танухи, все убеленные сединами, длиннобородые, как и сам везир. Когда веселье достигало высшей точки, каждый получал золотой кубок кутраббульского или ‘укбарского вина, окунал в него свою бороду и друзья брызгали вином друг в друга. Кроме того, все они плясали, нарядившись в пестрые платья с венками из цветов на головах[2759]. Один кади Багдада (ум. 423/1031) пил в обществе секретаря халифа лишь фруктовый сок (карис), в то время как все присутствующие воздавали должное вину. Тогда хозяин дома велел принести бутылку, горлышко ее было запечатано, и на печати стояло: «Фруктовый сок из лавки Исхака ал-Васити», но в ней было вино. Кади осмотрел надпись на печати и выпил с литр, нашел напиток приятным и спросил, что это такое. Ему ответили: «Фруктовый сок». Он выпил второй литр и третий, всякий раз спрашивая, что это такое, и страшно рассердился, когда кто-то ответил ему, что это вино. В конце концов он упал и разбил себе нос. Тогда его завернули в его синий тайласан и отнесли домой[2760]. Накиб египетских Алидов (ум. ок. 350/961), иными словами духовное лицо наивысшего сана, писал застольные песни такого рода:
Должен я бросить пить? — Но ведь дождь все льет и льет, и капли его повисли на кустах,
Ветка от радости пляшет, как мошкара, а роза то свертывает свои лепестки, то снова их раскрывает и т.д.[2761]
С другой стороны, поэт ал-Мутанабби (ум. 354/965) отвергал вино и заявлял, что он охотнее пьет то, что пьет лоза, т.е. воду[2762]. Однако в данном случае дело отнюдь не в какой-то особой набожности, ибо он никак не был связан с исламом. Халиф ал-Хаким, намеревавшийся восстановить ислам в его исконном виде, усердно и со всей строгостью боролся с питьем вина. Источники свидетельствуют, как глубоко прав был ал-Мукаддаси, обвиняя жителей Египта (см. выше) в том, что все они пьют. Когда врач ал-Хакима христианин Ибн Анастас предписал халифу против охватившей его меланхолии вино и музыку, то и все подданные его с радостью вновь предались этому гнусному пороку. Но вскоре врач умер, и халиф стал еще более строгим противником алкоголя, так что даже запретил продажу изюма и меда и велел разбить бочки, в которых хранилось вино[2763].
Обычай пить вдвоем не имел распространения, напротив, это называлось «пила» (миншар), так как за пилой тоже сидят два человека[2764]. Если античный мир рекомендовал выбирать число собутыльников между числом муз и числом граций, то Абу Нувас желает пить вчетвером или впятером:
Трое в избранном обществе да к тому же хозяин и музыкант,
Если согласишься на шесть, то получишь шумный шум![2765]
Это число встретили с одобрением и в более поздние времена:
Среди пяти — уединение, а сверх них — базар[2766].
А над гостем, который не идет в счет <т.е. не пьет.— Д.Б.>, издевались:
Шестеро с ним будет лишь пять, а пятеро с ним — только четыре[2767].
Так же как на античных и византийских пирах, пол той комнаты, где пировали, был усыпан цветами. На головах пирующих красовались венки из цветов[2768]:
На одном венок из роз, на другом венок из шиповника[2769].
Цветы бросали друг другу в знак приветствия, причем считалось крайне неприличным дарить кому-либо только одну розу: «И ни одна изящная дама не скажет другой: Вот тебе роза! Это считается у них грубейшей ошибкой, ибо так говорит только простой народ»[2770]. «Приветствовали» друг друга во время попойки также и фруктами:
Дали мне выпить, а в руке любимой были роза и лимон.
Я выпил, и она приветила меня моим цветом и своим[2771].
К вину полагались пение и танцы. Как еще и в наше время, пирушки сопровождались обычно игрой на четырех музыкальных инструментах[2772]. Рабыни пели скрытые за занавесом (ситара — siparion), однако для того чтобы оказать гостю наивысший почет, они появлялись и в самом зале. Во время одного празднества у везира около 300/912 г. часть певиц сидела перед занавесом, а другая часть — позади[2773]. Восприимчивость к пению была очень велика — у многих «улетала душа». Когда певец Мушарик пел посреди Тигра, то все кругом плакали. Он так красиво вздыхал, что радовал этим сердце каждого[2774]. Когда же певец-эмир Ибрахим ибн ал-Махди, обвиненный в государственной измене, пел перед халифом ал-Ма’муном, то один из чиновников поцеловал край его одежды, извинившись при этом: «он должен поцеловать его ради его пения, пусть даже он поплатится за это жизнью»[2775]. В середине III/IX в. ал-Му‘тазз показывал ‘Убайдаллаху ибн ’Абдаллаху ибн Тахиру много разных чудес: пение певицы Шаны, музыкальное мастерство знаменитого флейтиста, медный водяной орган Ахмада ибн Мусы, бой льва со слоном. ‘Убайдаллах, правда, сам поэт, заявил, что пение Шаны — это величайшее чудо[2776]. Для фатимидского принца Тамима (ум. 368/978) приобрели в Багдаде певицу, которая так чудесно пела, что он был совершенно покорен ею и пообещал исполнить все, чего она пожелает. Тоскуя по родине, она попросила его разрешить ей еще раз спеть в Багдаде. Он сдержал свое слово и разрешил ей поехать туда через Мекку, где она и исчезла[2777]. Подобных историй много. Особенно впечатлительные души бросались на землю, на губах у них выступала пена, они хрипло дышали и кусали себе пальцы, ударяли себя по лицу, рвали на себе одежду, бились головой о стену[2778].
За вином обычно рассказывали разные смешные истории, короткие анекдоты, в общем изощрялись в искусстве острословия. Уже ат-Тахир (ок. 200/800), придя после еды в веселое настроение, имел обыкновение рассказывать ходившие в народе истории[2779]. «Длинные истории больше подходят для назиданий рассказчика легенд, чем для общества людей образованных»[2780].
Между кубками короткий рассказ — это чудесно, иные же речи — нет,
Когда кравчие стоят среди пирующих, подобно алифам, возвышающимся над строками,—
поет Ибн ал-Му‘тазз[2781]. Этому наслаждению тоже предавались со страстью. «Один человек должен был выбирать между беседой с мужчинами, пением и уединением с женщинами, он предпочел мужские речи»[2782]. Для ал-Мас‘уди, также «вся жизнь в интересном друге»[2783]. Как ребенок, клянчил эмир Египта рассказ — «пусть совсем маленький, длиной всего лишь в палец!»[2784]. Поэты и не поэты импровизировали рифмованные тосты за цветы, за красивые чаши, певцов и певиц, за небо. В кружке ал-Мутанабби была сделана вращающаяся кукла, которая поднимала ногу, а в руке держала букет. Каждый, к кому она, останавливаясь, обращала лицо, пил за ее здоровье, а затем давал ей толчок, чтобы она снова вращалась. А ал-Мутанабби всякий раз, как наставал его черед, сочинял несколько стихов в ее честь[2785].
Питье вина ограничивало распространение других наркотиков. Сведения об употреблении конопли (хашиш) появляются лишь в III/IX в. на страницах юридической литературы, причем шафииты ее запрещали, а ханифиты разрешали[2786]. Еще в IV/X в. гашиш не упоминается ни в одном рассказе. История ассасинов также свидетельствует о том, что это наркотическое средство было для народа чем-то совершенно новым.
Китайский чай в то время еще не пили, хотя написанное в 237/851 г. арабское описание Китая рассказывает о нем, упоминая, между прочим, что он облагался налогом[2787].
О каком бы то ни было курении для наслаждения не упоминается нигде. Жевали съедобную землю (см. гл. «Производство продуктов»). К началу IV/X в., рассказывает ал-Мас‘уди, из Индии в Мекку и Йемен проник обычай жевания бетеля[2788].
В летнюю же пору главным наслаждением была вода со льдом. В 304/916 г. вновь назначенный везир Ибн ал-Фурат расходовал на угощение поздравляющих — а день был очень жаркий — 40 тыс. ритлей льда[2789]. Даже и на корабль знатные люди брали с собой лед[2790]. Египетскому двору лед для охлаждения напитков доставлялся из Сирии[2791]. Самое знатное частное лицо Египта — бывший регент Ибн ‘Аммар (ум. 390/999) в конце IV/X в. ежедневно потреблял половину верблюжьего вьюка льда[2792]. Напротив, в Мекке[2793] и Басре подобной роскоши нельзя было себе позволить:
Мы — [живущие] в жалкой Басре, пьем самое плохое питье: лимонную воду — желтую, противную, тяжелую, густую и резкую, как холерный стул[2794].
Один рассказ IV/X в. описывает прием, который встретили в Дамаске у одного незнакомого им, крайне гостеприимного хозяина несколько чиновников, державших путь в Египет в поисках должностей. Их провели в баню при доме, где их обслуживали два безбородых раба и два очень красивых мальчика. Было подано кушанье, а два безбородых раба растирали им тем временем ноги. Затем хозяин дома повел их в зал, расположенный в прекрасном саду, и они начали пить вино. Хлопнув рукой по занавесу, за которым сидели рабыни, хозяин крикнул: «Пойте!» — и они запели так красиво и нежно. «Когда мы осушили уже не один кубок, он вскричал: „Что же вы скрываетесь от наших гостей, выходите!“. Он раздвинул занавес, и к нам вышли девушки, такие красивые, изящные и нежные, каких мы до этого не видывали. Одна из них играла на лютне, другая на флейте, одна на лире, одна была танцовщица и одна — с кастаньетами, все в роскошных одеждах, с дорогими украшениями, и стали нам петь». Когда они уже сильно опьянели, хозяин спросил: «Я же послал вам в обед рабов и слышал, что вы ничего не позволили себе с ними. И теперь происходит то же самое?». Ему угодно было, чтобы каждый запасся на ночь подругой. На следующее утро их вновь сводили в баню, где их обслуживали безбородые рабы и умащали их благовониями. Затем хозяин дома осведомился у них, предпочитают ли они совершить прогулку верхом в один из садов и там развлечься до обеденной поры или хотят сыграть в шахматы или нарды, посмотреть книги. Они выбрали шахматы, нарды и книги и за этими занятиями провели время до обеда[2795].
В то время теологи уже примирились с шахматами, враждебно встреченными ими в свое время. Сахл ибн Абу Сахл (ум. 404/1013) заявлял: «Если состоянию не грозит опасность убытка, а молитве — пренебрежение, то тогда игра в шахматы приятное занятие двух друзей»[2796]. Ас-Сули, который около 300/912 г. безраздельно господствовал в этой области, талант шахматиста открыл доступ ко двору[2797]. При дворе халифа ал-Му‘тадида в конце III/IX в. получила распространение игра, называвшаяся джаварихиша (игра в кости?), в которой действовали друг против друга шесть чувств человека[2798]. Однако терпеливое сидение друг возле друга и молчаливые игры были чужды арабскому духу и так и воспринимались всеми настоящими арабами. По мнению жителей Медины, «шахматы существуют только для варваров, которые, когда собираются, улыбаются друг другу, как скоты. Вот потому-то и придумали они себе для времяпрепровождения шахматы»[2799]. Для арабов же главным продолжала оставаться ритмическая музыка, сопровождающая поговорки, пословицы, шутки и крепкие выражения. Когда халиф ал-Ма’мун после восшествия на трон распорядился, чтобы к нему собрались все лучшие шахматисты Вавилонии, и они очень скованно держали себя в его присутствии, он нетерпеливо заметил: «Шахматы не уживаются с учтивостью, говорите же, как будто вы одни между собой»[2800]. Из такого навадир аш-шатрандж скомпонована сцена игры в шахматы у Абу-л-Касима[2801]. Впрочем, победителя в шахматы ждал также и вполне реальный выигрыш: выигрывали, например, угощение[2802]. Напротив, нарды — трик-трак на 12 или 24 полях с 30 камешками (фишками) и двумя игральными костями — были в высшей степени азартной игрой, которую поэты зачастую сравнивали с непостижимыми силами судьбы[2803]. Поэтому нарды долгое время оставались проклятыми людьми верующими. Так, Абу-л-Лайс ас-Самарканди называет их порождением сатаны наряду с бегами ослов, псовой охотой, бараньими и петушиными боями[2804]. Играли, очевидно, только на деньги: один человек выиграл в нарды 20 динаров[2805].
Трем играм соприсутствуют ангелы: забавам мужнины с женщиной, конским бегам и состязаниям в стрельбе;
— это изречение пророка во многих вариантах проходит через всю литературу; сам пророк тоже устраивал состязания своих коней[2806]. Однако богословы ставили одно условие для этого вида состязаний, пользовавшегося их благосклонностью: только не на деньги! Чаще всего мы слышим о конских бегах в Египте: так, например, около 190/806 г., как передают, победитель получал лошадь побежденного[2807]. Назначенный в 242/856 г. ханжа наместник запретил бега на деньги, а также распорядился продать беговых лошадей, которые по обычаю, существовавшему еще с доисламского времени, содержались там за счет государства. Однако уже в 249/863 г. вновь стали устраивать бега[2808]. При Тулуниде Хумаравайхи «бега считались у народа праздниками»[2809], Ихшид тоже устраивал бега[2810]. Существовала даже «Книга племенных жеребцов и ипподромов», в которой описывались все ипподромы и лошади, участвовавшие на них в бегах до ислама и при исламе[2811]. Невзирая на неодобрение богословов, с увлечением гоняли голубей[2812], причем тоже главным образом в Египте. Правда, большого размаха это развлечение достигло лишь в V/XI в.; впрочем, уже халиф ал-Му‘изз завидовал своему везиру из-за того, что его голубь летал лучше[2813]. То же можно сказать и о петушиных боях, боях собак и баранов[2814]. У Сабуктегина — тюркского военачальника Му‘изз ад-Даула — был боевой козел, которого ему поэт Ибн ал-Хаджжадж предлагал стравить с мужем-рогоносцем одной певицы, «приближающимся сюда как носорог», которому он с ней наставил рога[2815]. Развлекались еще и стравливанием перепелов[2816]. В Туркестане еще и в наше время с такой страстью увлекаются боями этих птичек, что обладатель знаменитого боевого перепела — обеспеченный человек и может с избытком заработать себе на существование, заключая пари на своего перепела[2817]. Однако чаще всего забавлялись азартной игрой в кости[2818]. Игре этой повсюду предавались со страстью, несмотря на запрет Корана. Еще во времена пророка один арабский шейх проиграл в конце концов даже свою свободу[2819]. В эпоху Харуна певец Ибн Джами‘ заявлял: «Не было бы азартной игры и пристрастия к собакам, владеющих мною, я не давал бы певцам есть их хлеб»[2820]. В конце IV/X в. вынуждены были наказать одного Алида, так как он проиграл все, что у него было, и обрек своих детей на нужду[2821]. Инспектору промыслов постоянно предлагали усилить надзор над игорными притонами[2822]. В Египте даже имелись старцы, завлекавшие игроков и получавшие за это деньги. Однажды Ихшид приказал закрыть кабачки и игорные дома, а самих игроков схватить. К нему доставили целую компанию игроков, и среди них оказался задержанным какой-то почтенный старец. Когда же Ихшид спросил: «Неужели и этот тоже игрок?» — то получил ответ: «Этот зовется „делающим веселье“, ибо он является причиной такого большого скопления народа в игорном доме. Когда кто-нибудь проиграет все свои деньги, то старик подсказывает — играй на плащ, авось и выиграешь; а проиграл и плащ, он говорит — ставь на халат, чтобы ты смог все отыграть, и так далее, пока дело не пойдет до туфель, и нередко тот проигрывает и их тоже. Старик этот состоит на жалованье, которое он ежедневно получает от арендатора игорного дома. Рассмеялся тогда Ихшид и сказал: „О старец, обрати-ка ты помыслы свои от этого греха к Аллаху единому!“. Старик покаялся, и Ихшид приказал выдать ему халат, плащ и 1000 дирхемов и велел также ежемесячно выплачивать ему по 10 динаров. Старик пошел прочь, благодаря и благословляя его[2823]; но тут Ихшид сказал: „Верните-ка его, заберите у него все, что мы ему дали, и уложите его ничком на землю!“. И приказал дать ему 100 палок, а затем сказал: „Отпустите его! А ведь правда, я умею по-иному веселить, чем ты?“»[2824].
Самым благородным видом спорта считалось, как и сегодня, поло — игра в мяч верхом на лошади, заимствованная у персов (сауладжан)[2825]. Халифы играли в поло на своих ипподромах[2826], а один везир III/IX в. играл по свободным от службы пятницам в манеже своего дворца[2827]. После игры обычно следовала горячая ванна с массажем[2828]. В ходе игры надо было уметь на полном скаку быстро осадить лошадь, остерегаясь при этом поранить участников игры, и не забивать мяч на крышу, «даже и в том случае, если полдюжины мячей стоили всего один дирхем». Не полагалось также прогонять зрителей, расположившихся на стене, окружающей ипподром, так как именно для того, чтобы их не беспокоить, и устраивали поля по 60 локтей в поперечнике[2829].
Как жители гор, дейлемиты любили примитивные физические забавы. Му‘изз ад-Даула ввел, например, в Багдаде состязания по борьбе. Он распорядился посадить посреди ипподрома дерево, на ветвях которого висели дорогие ткани, у подножия лежали кошельки с дирхемами, а на стене поместил музыкантов с литаврами и флейтами. Всем разрешалось бороться на призы. «Из-за этого бороться стали по всему городу. Если Му‘изз ад-Даула видел, как кто-нибудь одержал победу, он давал ему награду. Не один глаз пропадал от удара, не одна нога была переломлена». Кроме того, его люди занимались еще и плаванием, и жители Багдада с рвением следовали их примеру, так что в конце концов могли выполнять самые трудные упражнения. Юноши плавали стоймя, держа на вытянутой руке жаровню с огнем, на которой варилось кушанье. Заканчивалось это тем, что они ели в воде, а затем выходили на берег против дворца[2830]. Наряду со всем этим никогда не ослабевало увлечение охотой. В то время ей стали посвящаться специальные стихи[2831], которые в большинстве случаев сводились к похвале и описанию охотничьей собаки. Самой благородной дичью считался лев, который в ту пору нередко встречался в Сирии, так же как и на берегах Евфрата и Тигра; более того, львы даже бродили совсем близко возле столицы. Так, в 331/943 г. халиф отправляется охотиться на львов в предместье Багдада аш-Шаммасийю[2832]. Также и в Египте вице-король ал-Хумаравайхи «не мог слышать ни об одном льве без того, чтобы не выследить его»[2833]. Охотничьи рассказы, в которых фигурировали львы, занимали большое место в беседах[2834], а если кто-нибудь пропадал без вести, то сразу же предполагали, что его сожрали львы[2835].
Зверинцы (хайр ал-вахш) имели уже дворцы в Самарре[2836]. В качестве крупной диковинки ал-Му‘тазз в середине III/IX в. демонстрировал своим гостям бой слона со львом[2837]. Однако позднее праздное любопытство развилось до подлинно большого интереса. Так, Тулунид Хумаравайхи создал роскошный зоологический сад с собственными бассейнами для каждой клетки[2838]. При дворце в Багдаде также был зверинец[2839], куда около 300/912 г. со всех сторон вдруг стали посылать разных диковинных зверей. Египетский везир Джа‘фар ибн ал-Фурат был одержим странной страстью к змеям и всевозможным пресмыкающимся. В большом дворе, вымощенном мрамором, стояли корзины с этими тварями, за которыми ухаживали укротители и слуги. Все ловцы змей работали на него. Однажды он написал одному из своих соседей, что различные редкие и ядовитые змеи переползли в его дом и ой просит задержать их, чтобы ловцы могли бы водворить их обратно. Сосед ответил ему на это: «Пусть его жена будет трижды разведена, если он со своей семьей останется в своем доме хотя бы еще на одну ночь»[2840].
Существовал также и теневой театр. Остряк ‘Аббада, сын личного повара халифа ал-Ма’муна, пригрозил как-то поэту Ди‘билу, когда тот собирался написать на него сатиру: «Я покажу в теневом театре твою мать»[2841]. В Египте представления театра теней также помогали поднять настроение во время празднеств[2842]. Существовали также и настоящие мимические актеры-подражатели (хакийа). Подражание всегда рассматривалось как вполне полноценный вид искусства. Так, Ибн ал-Магазили собирал вокруг себя народ и рассказывал истории про бедуинов, набатеев, цыган (зутти), негров, жителей Синда, Мекки и евнухов, подражая их языку и жестам. Ему даже дозволено было предстать перед халифом ал-Му‘тадидом[2843]. В IV/X в. поэт Абу-л-Вард, собутыльник везира ал-Мухаллаби, пользовался славой искуснейшего «подражателя», он «приводил в восхищение слушателей и зрителей»[2844]. Позднее, в V/XI в., Мухаммад ал-Азди поднял подобное подражание до степени литературы, воплотив обычаи в дерзкую речь багдадца — жителя столичного города в облике Абу-л-Касима. В Хадрамауте фон Вреде видел одного «забавника, который пародировал тюрков, моряков и даже самих бедуинов»[2845], а Захау рассказывает об одном таком артисте и в наше время[2846].
Наконец, упоминаются также и комические актеры (самаджат) в Египте во время празднеств[2847], в Багдаде — на Новый год при дворе халифа, где они выступали в масках[2848].
22. Городская жизнь[2849]
Единственная классификация городов, дошедшая до нас от IV в.х., исходит из политической оценки и различает: 1) 16 главных городов и резиденций наряду с несколькими крупными городами (амсар); 2) 77 укрепленных главных городов провинций (касабат); 3) провинциальные города (мада’ин, или мудун); 4) такие города (навахи), как Нихавенд и Джезират Ибн ‘Омар; 5) деревни (кура)[2850].
Отличительным признаком города было наличие в нем минбара. Особенно строго придерживались этого ханифиты, требуя, чтобы только в действительно крупных городах пятничное богослужение производилось бы в соборной мечети. Поэтому в Мавераннахре, где господствовало это направление, было много деревень, которым только отсутствие в них мечети мешало стать городом. «Сколько усилий должны были потратить жители Байкенда, пока им было разрешено учредить минбар!»[2851]. Напротив, в Палестине, несмотря на ее небольшие размеры, имелось свыше двадцати минбаров[2852].
Подобное значение минбара для города способствовало тому, что даже в крупных городах жители держались, пока это было возможно, одной кафедральной мечети[2853]. В Багдаде около 300/912 г. было примерно 27 тыс. молитвенных мест[2854], однако главное богослужение производилось лишь в соборных мечетях правого и левого берега, а также — только с 280/893 г.— в дворцовой мечети[2855]. Естественно, что они были не в состоянии вместить толпы верующих, и поэтому каждую пятницу взору представлялось зрелище, как ряды молящихся, выливаясь через распахнутые настежь двери мечети, тянулись дальше вдоль по улицам вплоть до Тигра и как последние ряды устраивались там на лодках, как по цепи молящихся передавались слова и жесты имама при богослужении[2856]. Фустат также имел только две общинные мечети — мечеть ‘Амра и Ибн Тулуна[2857], и в той же Басре в III в.х.— 7 тыс. молитвенных домов и [две соборные мечети][2858], и даже в IV в. всего лишь 3 соборные мечети[2859]. Это кажется странным потому, что как раз в этом веке прекратило свое существование возникшее в раннем исламе понятие городской общины. Вообще надо сказать, что особое значение этой эпохи заключалось в том, что во всех сферах абсорбировался тонкий налет раннего ислама, из-под которого вновь показался древний Восток и в главном оставшийся таким же, каким он занял когда-то свои позиции. В IV в.х. в определении количества кафедральных мечетей начали считаться с потребностями горожан. Так, ал-Мукаддаси видел в Старом Каире наряду с мечетью ‘Амра уже шесть других соборных мечетей; однако из первой все еще продолжали выливаться на улицу ряды молящихся на расстоянии свыше 1000 локтей, даже все склады, молитвенные дома и лавки по обеим сторонам этих рядов были заполнены молящимися[2860]. И в 440/1048 г. Насир-и Хусрау насчитывает наряду с этими семью старыми еще четыре новые в Новом Каире[2861]. Более медленными темпами шло дело в Багдаде. Лишь в 329/940 г. там появилась четвертая соборная мечеть — мечеть в Бараса, бывшее место сборищ шиитов, разрушенная в начале века, а теперь освященная как общая соборная мечеть. Еще в 379/989 г., когда хотели открыть пятую мечеть, пришлось доказывать халифу, что она вместе со своим приходом находится по ту сторону рва, образуя тем самым как бы другой город[2862]. А уже в 383/993 г. к ним прибавилась еще и шестая —в Харбиййи, в то время как размеры города все уменьшались[2863]. В VI в. Ибн Джубайр насчитывает 11 пятничных мечетей, несмотря на то, что «от Багдада почти ничего не осталось, кроме его знаменитого имени»[2864].
Официальные реестры велись только для учета обязанных уплачивать подушную подать; также, кажется в 306/918 г., в Багдаде была проведена перепись певцов и певиц[2865]; кроме того, сообщается и о переписи неимущих[2866]. Географы III и IV вв. приводят всевозможные цифры: количество ворот и дверей, мечетей и бань, однако не проявляют никакого интереса к численности населения. В конце концов все же настал период наивных подсчетов: Ибн Хаукал сообщает лишь один раз, что в Палермо имеется свыше 150 мясных лавок, исходя из чего можно, мол, определить количество жителей[2867]. А авторитетный источник ал-Хатиба ал-Багдади, исходя из фантастических данных, что в то время имелось 60 тыс. бань, трогательнейшим образом так насчитывает число жителей Багдада в III в.: на каждую баню приходится пять мечетей, на каждую мечеть по меньшей мере — 5 человек, что составляет для того времени не меньше 1,5 млн. жителей мужского пола[2868]. В V в.х. положение меняется, и путешественник Насир-и Хусрау определяет, что в Арраджане свыше 20 тыс. мужского населения, в Джидде — около 5 тыс., в то время как в Мекке осталось всего 2 тыс., а все остальные сбежали, спасаясь от голода. Иерусалим и сирийский Триполи он также определяет в 20 тыс. мужчин — это, очевидно, его излюбленное число[2869]. Наиболее убедительно определение численности населения Кордовы, произведенное около 350/961 г.: 113 тыс. домов подданных и 3 тыс. молитвенных домов[2870].
В империи параллельно существовало четыре типа городов: эллинистический средиземноморский город, южноарабский город, как, например, Сан‘а (Мекка и Фустат также относятся к этому типу), вавилонский и восточный тип города. Характерной особенностью южноарабского города является компактность застройки и высокие дома. В Фустате были пяти-, семи- и даже восьмиэтажные дома, причем первый этаж, как правило, был нежилым. Зачастую в одном таком доме жили 200 человек[2871]. А Насир-и Хусрау даже рассказывает: «Тот, кто смотрит на город издали, думает, что это горы, ибо есть дома высотой в 14 этажей, а прочие — в семь. Там есть базары и улицы, постоянно освещенные светильниками, ибо туда не проникает дневной свет»[2872]. Иранские города состояли из цитадели (кухандиз), официальной части города (медина), имевшей обычно четверо ворот, и торгового квартала, где находились базары. Каждая из этих трех частей была укреплена своей стеной, а между мединой и наружными кварталами всегда бывали трения. С середины III в.х. к этому присоединяется еще и пятый тип: властители строили себе рядом со столицей отдельные резиденции — Самарра и Джа‘фариййа на Тигре, город Аглабидов Раккада под Кайраваном, город Тулунидов близ Старого Каира. В IV в.х. резиденциями Фатимидов были Махдиййа, Мансуриййа, Мухаммадиййа и Кахира — это была пора наиболее успешного градостроительства не только этого столетия, но и всей эпохи ислама. В Испании ‘Абд ар-Рахман построил близ Кордовы аз-Захру и приказал объявить: каждый, кто хочет построиться вблизи повелителя, получит 400 дирхемов, благодаря чему он привлек много народа[2873]. А в трех километрах от Шираза ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982 г.) основал город Фанна Хусрау, куда отвел ручей, протекавший на расстоянии одного дневного перехода, по берегам которого на протяжении одного фарсаха тянулся парк. В этом городе он поселил рабочих, занятых выделыванием шерсти и шелка; его военачальники также построили себе там имения. Правитель учредил там праздник, во время которого сооружались палаточные ряды и люди собирались «для греха и веселья». После его смерти и это создание быстро пришло в упадок[2874].
Характерной особенностью новых городов были занимаемые ими обширные пространства, что ал-Йа‘куби в своем описании Самарры неустанно подчеркивает. Главная улица Джа‘фариййи была шириной в 200 локтей да вдобавок еще по каждой из ее сторон протекали каналы[2875], а Каир, при его закладке, был прямо-таки городом-садом. Еще Насир-и Хусрау[2876] сообщает, что все дома стоят там отдельно так, что деревья одного дома не достигают стен другого[2877].
Несмотря на то что мусульманский мир высоко ценил хорошую питьевую воду, арабы не возвели таких колоссальных акведуков, как это было сделано в античном мире. Как и в западном средневековье, совесть не позволяла им проявлять такую расточительность на нужды тела. Тем больше поражали их успехи античного мира: в Китаб ал-мавали ал-Кинди (ум. 350/961) на вопрос, что в мире чудеснее всего, дается такой ответ: фарос (маяк) Александрии и акведук в Карфагене[2878], арки которого и подобные минаретам опоры превозносит Йакут[2879].
Примитивнее всего было водоснабжение египетской столицы. Старый Каир пил воду Нила, которую водоносы за полданика за один бурдюк доставляли на любой этаж[2880]. Сообщают, что около 440/1048 г. в Каир и Маср бурдюки с питьевой водой доставляли 52 тыс. верблюдов[2881]. В 382/992 г. был обнародован приказ, предписывавший всем, кто доставлял воду на верблюдах или мулах, накрывать бурдюки, чтобы они не пачкали людям одежду[2882].
Большая часть жителей Багдада пила воду Тигра, доставляемую или непосредственно из реки (причем более богатым людям ее доставляли водоносы на дом), или из питаемых каналами цистерн, служивших водохранилищами. В самый город вели даже два закрытых акведука, на которых тот, что ответвлялся от реки Кархайа, доставлял питьевую воду из Евфрата. Они были много скромнее каменных водопроводов древних римлян: построены они были всего-навсего из кирпича, а водосток был расшит известью[2883].
Так как в Мекке вода из цистерн была настолько горькой, что ее невозможно было пить, очень скоро забота о хорошей воде для священного города стала объектом благотворительности верующих. Построенный Зубайдой подземный водопровод часто выходил из строя. Это приводило, например, к тому, что около середины III в.х. бурдюк воды стоил в городе 80 дирхемов, пока мать халифа ал-Мутаваккила не распорядилась отремонтировать водопровод[2884]. Около 300/912 г. городское управление обычно реквизировало верблюдов и ослов, принадлежащих жителям, для доставки питьевой воды из Джидды. Тогда сосланный в то время в Мекку везир в отставке ‘Али ибн ‘Иса скупил большое количество вьючных животных и пожертвовал городу вместе с определенной суммой на их содержание. Кроме того, он велел выкопать глубокий колодец, дававший пресную воду, купил за 1000 динаров ключ и приказал расчистить его, так что воды в Мекке стало в избытке[2885]. Еще больше заботы о жаждущем проявляла благотворительность верующих в Самарканде: «Редко видел я постоялый двор (хан), угол улицы, площадь или группу людей у стены без того, чтобы там не было ледяной воды, которую раздавали Аллаха ради; воду раздавали в соответствии с пожертвованиями в 2000 местах — как из кирпичных хранилищ, так и из бронзовых чанов»[2886]. В город вода попадала по старому крепостному рву, посреди рынка ее уровень поднимался каменной плотиной, и дальше она распределялась по свинцовым трубам. Это устройство было сооружено еще в доисламскую эпоху и получало твердый доход с расположенных вдоль рва земельных участков. Смотрителями этой системы были зороастрийцы, которые, однако, из-за выполняемой ими работы не платили подушной подати[2887]. В отличие от этого подземные водопроводы имели большей частью города Северного Ирана, такие, как Кум[2888] и Нишапур,— в ту пору крупнейшие города Востока. Под землей проходили разные водопроводные линии, причем некоторые выходили на поверхность лишь за городом и орошали там сады, другие обслуживали городские дома. Залегали они на разной глубине, и к ним вели особые ходы, порой нужно было спуститься на 100 ступенек. Это дало возможность одному остряку высказать следующее пожелание: «Каким прекрасным городом был бы Нишапур, если бы его каналы находились на поверхности, но зато его жители были бы под землей»[2889]. К этим водоснабжающим сооружениям также были приставлены управляющие и надсмотрщики[2890].
Изобилующий ключами город Динавер, расположенный в горах, настолько далеко зашел в совершенствовании водоснабжения, что подвел свой водопровод к охлаждающимся сосудам, снабженным кранами[2891].
Сложный вопрос городской ассенизации был, кажется, наиболее предприимчиво решен в торговом городе Басре: там были крупные торговцы фекалиями. В разных местах встречаются остроты по адресу этой системы[2892].
В качестве наемного транспорта к услугам средних слоев городского населения уже в III в.х. был всегда наготове осел. В Багдаде главная стоянка ослов была у Баб ал-Карх, у входа в деловой квартал[2893]; в Фустате — у Дар ал-Хурм; одна поездка стоила два кирата[2894]. В городах, расположенных у воды, таких, как Багдад и Басра, помогали обеспечить перевозки также и наемные лодки. При ал-Муваффаке (256—279/868—892) был произведен подсчет лодок в Багдаде — их оказалось 30 тыс., и ежедневный доход лодочников был оценен в 90 тыс. дирхемов[2895].
Большую долю городского управления осуществляли, вероятно, правительственные чиновники, из коих, например, в каждом областном городе Хорасана сидело по четыре: кади, начальник почты, налоговый инспектор и начальник полиции[2896]. В Багдаде восточная часть города управлялась непосредственно двором, а вся западная часть была под началом префекта района Бадурайа, поэтому сей пост считался самым трудным, но вместе с тем и самым влиятельным среди должностей этого ранга[2897]. А в 20-х годах IV в.х. в Исфагане один и тот же катиб стоял во главе налогового ведомства и городского управления (тадбир ал-балад)[2898]. Наряду с государственным аппаратом в городах имелась еще и своя собственная администрация. Еще при основании Багдада каждый квартал города был передан под особое управление одному из придворных, а, кроме того, каждое землячество, и прежде всего персидское, имело своего начальника (ра’ис) и старосту (ка’ид)[2899]. Общественная безопасность в резиденциях эмиров и наместников обеспечивалась начальником их личной гвардии (сахиб аш-шурта), а в прочих городах — полицейским начальником (сахиб ал-ма‘уна). Наряду с этими чиновниками стоял мухтасиб — как последний представитель суверенной общины, самостоятельно соблюдающей законы. Около 300/912 г. он превратился в назначаемого на этот пост чиновника, а согласно существовавшей в Багдаде титулатуре — даже в одного из высших чиновников[2900]. Все многообразие стоявших перед ним задач впервые было описано ал-Маварди[2901] и Ибн ат-Тувайром[2902]. Нередко на него возлагались еще и аналогичные обязанности, такие, как надзор над невольничьим рынком, над монетным двором и над ткацкими мастерскими. В отношении первого приказ по Багдаду от 366/976 г. требовал безоговорочно удалять всех пользующихся дурной славой с точки зрения их нравственности и покупателей и продавцов, а также препятствовать всякой двусмысленной сделке. Что же касается инспекторов промыслов, то они должны были следить за тем, чтобы ткани изготовлялись чисто, чтобы они были правильно сотканы и прочны, чтобы на одеждах, коврах, флагах и на тесьме было помещено имя халифа[2903]. Должность мухтасиба чаще всего занимали юристы. Когда в 318/930 г. халиф назначил на эту должность одного придворного, который одновременно был еще и начальником его личной охраны, то Мунис добился его снятия, потому что на эту должность, мол, могут претендовать лишь кади и судейские помощники[2904].
Знаком отличия полицейских был длинный нож (табарзин), который они носили на поясе[2905]. По ночам полицейские патрули (тауф или ‘асас) ходили до первой утренней молитвы[2906]. Всякий, кому удалось вырваться из рук патруля, мог быть уверен в помощи горожан[2907].
Во II в.х. на Востоке еще не существовало порядка установления у городских ворот личности для въезжающих в город чужеземцев[2908]. Одно известие, датируемое III в.х., сообщает о принятой в Китае паспортной системе как о чем-то совершенно новом[2909]1. Лишь в IV в.х. ‘Адуд ад-Даула ввел в своей столице Ширазе проверку у городских ворот, причем ал-Мукаддаси подчеркивает, что вновь прибывшего задерживали и покинуть город можно было только при наличии пропуска (джаваз)[2910].
Доказательством того, насколько непрочен был внешний налет ислама, покрывавший жизнь народа, являются праздники. Мусульмане справляли также все праздники христианского церковного года, ибо большинство христианских праздников в сущности своей было отражением гораздо более древних обычаев страны. Так, многие христианские места паломничества Египта, а также и Вавилонии были древними языческими местами поклонения, а храмовые праздники возникших в этих местах христианских монастырей — лишь новой этикеткой на празднествах в честь древних богов. Мусульмане той или иной страны не могли отказаться от того, чтобы и впредь не отмечать эти дни, украшавшие радостью их языческих и христианских праотцев. Однако в противоположность церкви они чаще всего отказывались создавать новую легенду, предоставляя христианам улаживать между собой религиозную сторону дела, сами же принимали участие в приятной части, следуя обычаям своих отцов. Например, празднества, справляемые жителями Багдада, были почти всецело христианские. Прежде всего отмечались храмовые праздники различных монастырей. Однако даже и в будние дни эти святые места не были свободны от весьма светских посетителей[2911], так как их обширные сады и прохладные монастырские кабачки были излюбленными местами загородных прогулок для искавших развлечений жителей Багдада. Слова «монастырь» и «кабачок» зачастую произносились единым духом; как приятно в дождливый день «пображничать у попа»[2912], а вино святого причастия (шараб ал-курбан) пользовалось особой славой[2913]. Примерно так же обстояло дело и в Каире. В конце IV/X в. мы находим перечисление мест увеселения каирцев: у монастыря пирамид — охота на газелей, мост и кабачки Джизы, близ Макса — сад с видом на канал и дворец, поле для игр у стен монастыря Мар Ханна и особенно — монастырь ал-Кусайр, высоко, на самой вершине горы ал-Мукаттам, с его знаменитым видом: «Как часто проводил я дни и ночи в монастыре ал-Кусайр, не протрезвляясь от опьянения»[2914]. Тулунид Хумаравайхи велел выстроить там для себя наблюдательную башню с четырьмя сводчатыми окнами (такат), обращенными на четыре стороны света[2915].
Вербное воскресенье (ша‘нин — хошанна) было большим праздником для всего народа. Должно быть, это был древний праздник дерева, причем именно оливкового[2916]; в Египте он так и назывался «праздник оливы»[2917].
При дворе в Багдаде в день Вербного воскресенья рабыни появлялись в роскошных одеждах с пальмовыми и оливковыми ветвями[2918]. В Иерусалиме IV/X в. оливковое дерево переносили из церкви Лазаря в церковь Воскресения во главе торжественной процессии, предшествуемой вали города со всей его свитой[2919]. Все церкви Сирии и Египта украшались в этот день ветвями олив и пальм, которые затем разбирал народ, так как они якобы приносили благословение. Ал-Хаким запретил это, так как не желал видеть ни оливковой, ни пальмовой ветви «в руке верующего или христианина»[2920].
Страстной четверг в Египте называли «чечевичным четвергом», ибо в этот день повсюду ели чечевицу. Чечевица была поминальным кушаньем, а египетские христиане ели ее каждую пятницу[2921]. В этот день монетный двор чеканил из золота «зерна сладких рожков»[2922], которые раздавали придворным[2923]. Жители Александрии праздновали этот день у подножия маяка, где устраивали пирушку[2924]. В Сирии он назывался «голубой четверг» или «четверг яиц» — на улицах в этот день продавали крашеные яйца, «которыми рабы, мальчишки и глупцы играли в азартную игру»[2925].
В праздник Пасхи мусульмане и христиане Багдада дружно направлялись к монастырю Самалук близ Баб аш-Шаммасиййа на северной окраине восточной части города, где начиналась сильнейшая попойка, «пока я не принимал землю за корабль, и стены не начинали плясать вокруг нас»[2926].
В последнюю субботу сентября был праздник «Монастыря лисиц» (Дайр ас-са‘алиб) у Железных ворот, в западной части Багдада. Этот монастырь очень охотно посещали и христиане и мусульмане, потому что он со своими парками, деревьями и цветами лежал посреди города[2927]. 3 октября в монастыре св. Эшмуны в Кутраббуле — северо-западном предместье Багдада — справлялся один из самых больших багдадских праздников. Люди прибывали туда в соответствии со своими возможностями, кто на таййарах, кто на барках или на обычных лодках (сумайриййат), захватив с собой мехи с вином и певиц. Богатые люди разбивали палатки, и три дня и три ночи подряд на берегу Тигра шла попойка, «озаренная сиянием свечей и прекрасных лиц»[2928]. Одного чужестранца, который все добивался увидать достопримечательности столицы, обнадеживали тем, что через месяц, мол, будет этот праздник св. Эшмуны[2929].
Зима открывалась праздником св. Варвары (4 декабря)[2930], который также был знаком мусульманам, ибо ал-Мукаддаси приводит такую крестьянскую примету: «Приходит день Варвары — каменщик хватается за флейту»[2931]. Кроме того, он хвалится еще и тем, что сам принимал участие в праздновании дня св. Варвары[2932].
Рождество — 25 декабря, день рождения Христа (ал-милад) и солнца, справлялось вместе с праздником зимнего солнцеворота. «Почему христиане зажигают в рождественскую ночь огонь и забавляются орехами?» — вопрошает шиит с востока Персии Бабавайхи ал-Кумми (ум. 381/991) и сам же дает такой ответ: «Иосиф разжег огонь для мучающейся в родах Марии, чтобы согреть ее, и расколол девять орехов, найденных им в своей седельной сумке, которыми накормил ее»[2933]. Однако и мусульмане справляли праздник солнцеворота (садак, по-арабски лайлат ал-вукуд — «ночь пламени»)[2934], который согласно «Canon Masudicus»[2935] отмечался 5 или 10 бахмана[2936], а согласно Ибн ал-Асиру и Абу-л-Фида совпадал с Рождеством[2937]. «На Рождество люди, как обычно, зажигали огни»[2938],— сообщал Ибн ал-Джаузи о 429/1038 г. В IV/X в. имели обыкновение «окуривать от несчастья, а богатые обычно зажигали в эту ночь костры, гнали на них диких зверей, пускали в огонь птиц, пили и веселились вокруг костра. Пусть Аллах отмстит всякому, кому доставляет наслаждение боль других чувствующих существ, не причиняющих вреда!»[2939].
Самым прославленным в свое время было празднование зимнего солнцеворота 323/935 г. Кондотьер Мердавидж, правитель горной области на западе Ирана, приказал собирать дрова в Вади Зеринруд близ Исфагана, устанавливать огромные свечи и собрал большое количество метателей нефти (наффатин) и стрелков нефтью (заввакат). На всех возвышенностях вокруг города были выстроены из бревен высокие башни и набиты хворостом и паклей. Затем он распорядился наловить птиц и привязать к их клювам и лапкам орехи, наполненные паклей, пропитанной нефтью. В зале своего дворца он установил огромные колонны из воска и восковые фигуры, предназначенные для того, чтобы их потом зажечь. Все это было сделано для того, чтобы в один и тот же час вспыхнули огни на горах и на холмах, в пустыне, во дворце и на птицах, которых выпустят в ночное небо. Он задал великий пир, причем по его приказу было убито кроме баранов 100 лошадей и 200 быков. «Но когда он осматривал эти приготовления, он нашел все это мелким, ибо взору, устремленному вдаль, все кажется мелким, рассердился, закутался в плащ и не вымолвил ни слова»[2940].
В Египте фатимидский халиф дарил на Рождество чиновникам сладости, розовую воду и рыбу бури. Лавки и улицы освещали фонарями (фанус), которые давали даже нищим за один дирхем[2941].
С особенным блеском праздновали в Египте Крещение. Назывался там этот праздник «праздник погружения» (‘ид ал-гитас), потому что в этот день христиане купались в Ниле — в этот же день еще и в наше время греческая церковь отмечает праздник водосвятия. Существовал там старый обычай: начальник полиции Нижнего города, в роскошной одежде, сопровождаемый свечами и факелами, вечером проезжал по улицам, веля выкрикивать: «В эту ночь мусульмане не должны смешиваться с христианами!». В сумерки христиане пышной процессией, громко распевая псалмы, с крестами и зажженными свечами, направлялись к Нилу, где многие погружались в воду. «Народ, а также чиновники и ученые радовались этому празднику, как никакому другому дню года»[2942]. Ал-Мас‘уди сообщает: «Ночь погружения — это великое дело для жителей Мисра, которые в эту ночь не ложатся спать. В 330/941 г. я принимал в нем участие в Мисре, а Ихшид Мухаммад ибн Тугдж находился в своем доме, носившем название „избранный“, расположенном на одном из островов Нила. Он приказал осветить берег острова и города тысячью факелов, к тому же и жители Мисра зажгли факелы и свечи. В эту ночь на Ниле были сотни тысяч мусульман и христиан, одни — в барках и в прилегающих к реке домах, другие на берегу. Там можно было увидать все, что только мог показать человек, из еды, питья, одежд, золотой и серебряной посуды, драгоценных камней, музыки, игры на флейте и танца. В Мисре это самая прекрасная и самая радостная ночь, когда не закрывают улицы. Большинство людей погружаются в Нил, считая, что это оберегает их от болезни»[2943]. Особенно великолепно бывал обычно освещен, разумеется, свечной рынок, который и без того бывал открыт до полуночи. Здесь ночью было очень оживленно и собирались отменные проститутки, отличавшиеся особой одеждой — шароварами из красной кожи[2944]. В 415/1025 г. начальник полиции Каира приказал на Крещение установить близ моста через Нил палатку для халифа и его жен, пожелавших посмотреть на празднество. Повелитель сам дал знак зажечь костры и фонари, «и это было прекрасное и долго длившееся освещение»[2945].
Христианский канун великого поста, ночь на первое воскресенье поста, был торжественным днем также и для мусульман Багдада. Показательно, что праздновался он близ «Монастыря сестер» (дайр ал-хавват), в славившейся своим вином деревне ‘Укбара. Своего апогея веселье достигало в «Ночь ощупывания» (лайлат ал-машуш), «когда женщины смешиваются с толпой мужчин и никто и ни от чего не удерживает свою руку. [Эта ночь] полна вина, танца и шуток»[2946]. Жившему позже Ибн Халдуну еще известно, что мужчины переряжались в женское платье и, привязав к подолу оседланных деревянных лошадок, выезжали так на турнир друг против друга[2947]. В четвертое воскресенье поста народ обоих вероисповеданий направлялся к монастырю Дурмалис и праздновал там несколько дней[2948].
Большой христианский праздник жителей Египта мог без всяких затруднений стать мусульманским, например шествие к темнице Иосифа близ Джизы. Перед этим люди проходили с трубами и барабанным боем по улицам и базарам и собирали деньги на праздник. Когда в 415/1024 г. купцы отказались внести деньги из-за наступившей дороговизны, то правительство дало согласие удвоить свой обычный взнос. В этот день устраивались всевозможные развлечения, представления (самаджат), мимические сцены (хикайат), теневой театр (хаййал). Даже и халиф на два дня покидал свой дворец, чтобы посмотреть на народные увеселения[2949]. Появился он также и при освящении одной церкви, состоявшемся за три месяца до этого праздника; во время этого освящения христиане и мусульмане разбили вдоль канала палатки и развлекались едой, питьем и разными прочими увеселениями. Женщины напились тогда до такой степени, что слугам пришлось тащить их домой в корзинах[2950].
Восьмого мая был «Праздник мучеников» в Шубре, близ Каира. Каждый год в этот день в Нил бросали шкатулку с пятью пальцами одного христианского мученика, хранившуюся в христианской церкви Шубры. Туда стекался весь Каир и все певцы Египта, нередко там продавали вина на сумму свыше 1 млн. дирхемов. Отменен этот праздник был лишь в VIII/XIV в.[2951]
В то время существовало три новогодних праздника:
1) персидский и сирийский, приходившиеся на весну,
2) коптский в Египте — конец августа,
3) начало мусульманского года, передвигавшееся каждый год,
4) кроме того, остатки древнеперсидского Нового года, совпадавшего с летним солнцеворотом.
Доисламский Новый год — начало солнечного года — отмечался повсюду взаимными подарками. В Багдаде халиф между прочими подарками раздавал всевозможные фигурки, сделанные из амбры, например красные розы[2952]. Саманид в Бухаре выплачивал своим воинам стоимость летнего обмундирования[2953], Фатимиды дарили своим людям платье и продукты питания[2954]. В Багдаде давали представления (самаджат), в масках, даже перед самим халифом. Он бросал актерам деньги, причем как-то раз случилось, что один из актеров искал закатившуюся куда-то монету под полами одежды повелителя. Это происшествие вызвало неудовольствие одного старого придворного, ибо такое тесное общение с людьми в масках слишком уж благоприятствует покушению. С той поры халиф смотрел новогодние представления, сидя на возвышении[2955].
На Новый год у персов и коптов существовал обычай обрызгивать друг друга водой. На Востоке это было запрещено в 282/895 г.[2956] Однако ал-Бируни около 400/1009 г. свидетельствует о возрождении этого обычая[2957]. Китайский путешественник Ван Янь-дэ, который в 981—983 гг. н.э. совершил путешествие на Запад, видел этот обычай также и в Турфане (Канчанг): «Жители Канчанга изготовляют серебряные или медные трубки и наполняют их водой, чтобы обрызгивать друг друга. Порой они в шутку брызгаются водой при помощи рук. Они утверждают, что тем самым они лишают силы горячую влагу и предотвращают болезни»[2958]. В Египте народ провозглашал новогоднего князя (амир ан-науруз), который, вымазав лицо мукой или известкой, в красном или желтом халате верхом на осле с тетрадью в руке, «как смотритель базара (мухтасиб)», проезжал по улицам и взимал подати с богатых. Того, кто не платил, поливали водой и нечистотами. В этот день дрались ремнями (джулуд) и веревками из кожи (анта‘), причем бедняки занимались этим на улицах, а люди состоятельные — у себя в домах. Полиция не принимала по этому делу никаких жалоб. В школах ученики набрасывались на учителя и нередко бросали его в колодец, где держали, пока он не откупался от них. В 335/946 г. наместник запретил «обливание водой»; в 363/974 г. халиф запретил этот праздник, однако в 364/974 г. его праздновали еще более рьяно, три дня подряд, и наказания так ничего и не дали[2959]. Лишь в 80-х годах VIII/XIV в. этот праздник был запрещен султаном Баркуком[2960].
В этом египетском обычае отчетливо распознается карнавал, а завершавшие повсюду старый год вставные дни, стоявшие под властью шутовского короля, прошли без изменения вместе с Новым годом по всем календарям[2961]. От древнеперсидского Нового года, совпадавшего с летним солнцеворотом, около 400/1009 г. также остался обычай взаимного обрызгивания водой[2962], который в наше время сочетался еще с падающим на эти дни праздником Вознесения. Этот день еще и сегодня; называется «Четверг окропления» (хамис ар-ришаш)[2963]; я собственными глазами наблюдал этот обычай в Багдаде. «Князь карнавала» — это также и «редкобородый» (каусадж), потому что его день — когда-то он приходился на конец февраля, но из-за передвижения вперед персидского календаря теперь приходится на начало ноября — совпадает с пятью вставными днями персидского года. Верхом на муле разъезжал он по улицам иракских и персидских городов, тому, кто ничего ему не давал, вымазывали одежду красной глиной. «Говорят, что в эти дни Аллах определяет хорошую и дурную судьбы», как это издревле и подобало настоящему Новому году. Для персов это были дни ликования и радости[2964].
Также на четверть года вперед сместился древнеперсидский праздник зимнего солнцеворота (михраджан), который отныне приходился на конец сентября, однако наряду с Новым годом продолжал оставаться одним из самых больших праздников. Так же как на Новый год, в этот день все дарили друг другу подарки, двор и армия получали зимнюю одежду[2965]. И народ «сменял в эти дни ковры, утварь и большую часть одежды»[2966]. Надо отметить одну особенность: в эти праздники подданные тоже дарили подарки своим правителям; так, бывший государственный секретарь ас-Саби посылает своему повелителю подарки ко дню михраджана даже из тюрьмы — один хосрованский дирхем и книгу — «такую же большую, как моя темница, и так же крепко связанную, как я»[2967]. Зато вечно кочующий мусульманский Новый год так и не стал народным праздником и остался бледным дворцовым празднеством, во время которого также дарили друг другу подарки[2968].
Бытовавший при дворе Аббасидов обычай разбрасывать розы тоже, вероятно, ведет свое начало от какого-либо праздника природы. Передают, что любитель роскошной жизни ал-Мутаваккил приказал вычеканить для этого 5 млн. дирхемов и окрасить их в красный, желтый, черный и другие цвета, чтобы разбрасывать придворной челяди[2969]. Каирскому повелителю в какой-то определенный день тоже выстроили в Кальюбе, где выращивали особенно много роз, дворец роз, в котором состоялся великий пир[2970].
Оба канонических праздника (‘ид) — праздник жертвоприношения и праздник окончания месяца поста — наряду с персидским Новым годом были основными праздниками, когда жители Багдада предавались пиршествам[2971]. В Басре для этого на протяжении целого года откармливали баранов и продавали их на праздник по 10 динаров за голову[2972]. В Каире при большом стечении народа по главным улицам проносили роскошно убранный праздничный стол халифа, причем шествие возглавляли начальник полиции и инспектор промыслов. На столе кроме всего прочего расставлены были изделия из сахара; так, например, в 415/1024 г.— семь больших дворцов, в 439/1047 г.— апельсиновое дерево; все было сплошь из сахара; цепи из кренделей и другие лакомства наполняли эти дворцы, и народ имел право разбирать их[2973]. Оба этих ‘ида являлись единственными большими праздниками, которые в качестве мусульманских разрешалось справлять с официальной мусульманской роскошью. Таким образом, торжественнее всего они отмечались там, где сильнее было выражено чувство приверженности к исламу, как, например, в Тарсе[2974], куда со всей империи стекались поборники веры, а позднее, после потери Тарса, великолепнейшими ‘идами славилась Сицилия[2975]. Что же касается праздника жертвоприношения (‘ид ал-курбан), то он, должно быть, всегда производил отталкивающее впечатление из-за массового убиения беззащитных животных.
Рамадан был временем наиболее радушного гостеприимства. За время этих ночей везир Ибн ‘Аббад угощал в своем доме тысячи людей и за один этот месяц расходовал больше, чем за все прочие месяцы года, вместе взятые[2976]. Благодаря усилившемуся в благочестивых кругах почитанию пророка приблизительно с 300/912 г. стали праздновать день его рождения, что для людей старой веры явилось досадным новшеством. Благочестивый ал-Караджи (ум. 343/954) прерывал свой пост лишь в дни обоих ‘идов и в день рождения Мухаммада. В VI/XII в. фатимидский халиф вынужден был запретить как противозаконные уже четыре праздника дней рождения: пророка, ‘Али, Фатимы и правящего халифа[2977]. Однако, как сообщают, первым, кто торжественно справлял день рождения пророка (маулид ан-наби), был эмир Абу Са‘ид Музаффар ад-Дин из Арбелы (ум. 630/1233)[2978]. Во время этого праздника особым вниманием пользовалась легенда о Мухаммаде, а особенно история его ночного вознесения на небо (ми‘радж), что во многом соответствовало развитию жанра биографий пророка.
Из числа семейных празднеств, безусловно, самым важным был день обрезания. Этот обряд еще не стал «частным» делом, ибо в нем сохранилось многое от древних праздников по случаю достижения зрелости. Испытывали какое-то замешательство перед обрезанием одного только мальчика, поэтому халиф ал-Муктадир велел произвести этот обряд одновременно над пятью своими сыновьями, присовокупив к ним еще группу сирот, которых так щедро одарили, что это обошлось, как передают, в 600 тыс. динаров[2979]. О 340/951 г. сообщает современник ал-Джаззар: «Исма‘ил ибн Ка’им (Фатимид) приказал переписать сыновей полководцев и военачальников вплоть до сыновей рабов, солдат и нищих в городе Кайраване и в других городах, чтобы совершить над ними обряд обрезания и одарить их. Оказалось их свыше 10 тыс., так что каждый день производили обрезание, вручали подарки и угощали от 500 до 1300 человек. Каждому в зависимости от ранга вручал он от 100 динаров до 100 дирхемов и еще меньше. Праздник длился 17 дней. Я слыхал от одного придворного, что на это было затрачено 200 тыс. динаров. Такие траты и такого празднества до той поры никто не видывал»[2980]. Одним из самых великих праздников III/IX в. был также день обрезания <будущего> халифа Ибн ал-Му‘тазза, который, как передают, стоил его отцу сказочной суммы в 86 млн. дирхемов[2981]. Однако судьбе было угодно, чтобы человек, так обласканный отцовской любовью, после недолгого правления был убит, а его сын как нежеланный наследник с трудом перебивался всю жизнь и умер в нищете.
Наряду с этим обрезанием наиболее известными придворными празднествами ранней поры ислама были свадьбы. Свадьба Харуна ар-Рашида стоила 50 млн. дирхемов, а расходы на свадьбу ал-Ма’муна достигли 70 млн.[2982] В 310/922 г. одна из высокопоставленных придворных дам впала в немилость из-за того, что отпраздновала бракосочетание своей племянницы со слишком уж великой роскошью[2983]. В этих случаях и народ тоже стремился показать себя богаче, чем он был на самом деле,— для этого можно было взять напрокат украшения, ковры и утварь[2984].
Важным праздником был и день кровопускания, когда люди получали подарки от знакомых и ели лучше, чем обычно[2985]. Операцию эту производил цирюльник, получавший за это около 300/912 г. по полдирхема[2986].
24. Производство продуктов потребления
В противоположность питающимся рисом индийцам и жителям Восточной Азии почти все городское население мусульманской империи питалось хлебом. Особенно отличались они от первых еще и тем, что все употребляли в пищу молоко. Оба этих основных продукта всякого хозяйства были, таким образом, те же, что и в Европе, с той только разницей, что на Востоке хлеб сохранил форму тонких круглых лепешек, какую ему придавали также и обитатели свайных построек в Европе. И, наконец, виды злаковых культур мусульманских стран одинаковы с европейскими.
В сельском хозяйстве европейского средневековья главным событием было вытеснение пшеницей проса и ячменя, тогда как на Востоке давно уже утвердилось господство пшеницы[2987]. Ее выращивали повсюду, где было достаточно воды, а просо (дурра) продолжало ограничиваться засушливыми зонами Юга (Южная Аравия, Нубия, Керман), потому что оно, «как кунжут и овес, почти не требует воды»[2988]. «Оно — как пшеница, но едят его как рис»[2989]. Месопотамия занималась исключительно выращиванием пшеницы, в качестве доказательства наступившего вздорожания здесь неизменно приводится уровень цен на пшеницу. Рис стоял на третьем месте после ячменя. На это обратили внимание китайцы; так, «Лин вай дайда» (1178 г. н.э.) сообщает о Багдаде следующее: все люди едят хлеб, мясо и суло <кумыс>, а вот рыбу, овощи и рис — редко. Другой китаец пишет ок. 1300 г. н.э. о Египте: народ существует хлебом и мясом, риса они совсем не едят[2990]. В Хузистане пшеница также еще стояла на первом месте, однако там уже выпекали рисовые лепешки и рисом питался народ[2991]. В болотистых местностях Мазендерана вынуждены были ограничиваться одним лишь рисом[2992].
В Палестине и Египте выращивали огородную культуру, соответствовавшую нашему картофелю — колокас[2993]. Мы располагаем данными, свидетельствующими о наличии этой культуры в эпоху античной Греции на греческих островах, в Малой Азии и в Египте. Это клубни таро[2994] — мясистое, утолщенное корневище, которое в Полинезии еще до появления там европейцев было важнейшим продуктом питания. «Они имеют форму круглой редьки и покрыты кожурой; остры на вкус и жарят их в масле»[2995]. «Колокас чистят и отваривают, воду, в которой он варился, следует сливать, лишь после этого его можно жарить в масле»[2996]. Выращивали его в форме «пальцев» и «голов», причем первые были вкуснее и дороже[2997], особенно хорош он «зимой к баранине»[2998].
Из числа фруктовых культур чаще всего выращивали виноград; надо сказать, что ал-Маварди[2999], говоря о Вавилонии, отводит первое место виноградарству (карм — в древней Вавилонии это слово означало всякое возделанное поле). Эта культура уже в то время имела огромное количество разных сортов: «Если кто-нибудь в пору ранней юности покинет дом и вплоть до старости будет странствовать по земле в поисках лозы от города к городу, чтобы изучить ее сорта и стать знатоком ее особенностей, пусть даже в пределах одного только климата или одной только местности, то и то не сможет он с этим справиться; слишком много будет это для него»[3000]. В Южной Аравии было обычным выращивать гигантские виноградные грозди; говорят, что из тех мест один из наместников Харуна ар-Рашида доставил как-то на верблюде две грозди винограда — по одной в корзине. С армянских и индо-иранских гор вывозили крышки для столов из дерева виноградной лозы по 20 пядей в окружности[3001]. Названия сортов винограда были частью народные, как, например, «коровий глаз», «сахар», «кончики пальчиков монашки», «бутылочки», но чаще всего обозначали место происхождения сорта: мулахитский, джурахитский, славянский. Виноградная лоза, которую, по Страбону[3002], впервые принесли в Вавилонию и Персиду (Фарс) македоняне, распространилась таким образом по всей империи, а арабское нашествие в свою очередь принесло на Восток новые сорта. Так, например, разикитский виноград из Та’ифа (близ Мекки) возделывался как в Вавилонии[3003], так и близ Герата в Афганистане[3004]. Источник с берегов Мертвого моря особо подчеркивает, что крестьяне там производили искусственное опыление лозы, как это делается с пальмами и как магрибинцы делают это с фиговыми деревьями[3005].
III/IX век добавил к ассортименту плодов империи сразу же два вида цитрусовых, среди которых самым важным был лимон, другим же являлся померанец (нарандж). Оба этих фрукта наряду с другими дорогими сортами фруктов были предложены гостям во время одного дворцового празднества в Самарре приблизительно в середине III/IX в., причем источник, писавший в IV/X в., особо упоминает о померанце, замечая, что в то время он был большой редкостью[3006]. Эти плоды воспевает принц Ибн ал-Му‘тазз в конце III/IX в.[3007], однако они, кажется, так и остались в узком кругу потребителей. В 332/944 г. ал-Мас‘уди пишет: «Померанцевое дерево и дерево круглого цитруса (утруджж мудаввар) были ввезены из Индии после 300/912 г. и высажены в Омане. Затем они были доставлены в Басру, Месопотамию и Сирию, пока их не стало много в домах Тарса, Антиохии, сирийского побережья, Палестины и Египта, где их раньше не знали. Но они лишились тонкого винного аромата и красивой окраски, которые они имели в Индии»[3008]. Померанцевые деревья (нарандж) стояли у халифа ал-Кахира (320—322/932—934 г.) в его небольшом дворцовом саду, и он к ним привязался всем сердцем. Привезены они были туда из Индии через Басру и Оман[3009]. А во времена ал-Мукаддаси их выращивали уже и в Палестине[3010]. Что же касается лимона, то в IV/X в. Ибн Хаукал должен был впервые представить его своим читателям: «В Синде, самой южной провинции империи, нет ни винограда, ни яблок, ни орехов, ни груш, а только сахарный тростник, и, кроме того, есть у них плод, имеющий форму яблока, называемый лимон, очень кислый»[3011]. То же мы находим и у ал-Мукаддаси: «К числу особенностей Синда относится их лимон — это плод, похожий на абрикос, очень кислый»[3012]. На протяжении всего IV/X в. лимон оставался предметом ввоза[3013] и лишь позднее, пройдя из Индии через Оман, нашел себе новую родину в Месопотамии[3014]. Позднее в Египте выращивали «яблоко-лимон» (лимун туффахи), «настолько мало кислый, что его можно было есть без сахара»[3015], «зимний лимон» и «плакучий лимон» (лимун са’ил)[3016]. Однако на приготовление лимонада этот новый плод еще не употребляли, и в IV/X в. новым достижением утонченной жизни являлось скорее питье воды со льдом, как это делали в Багдаде, «мы же, в жалкой Басре, пьем омерзительнейший напиток: цитрусовую воду, противную, тяжелую, тягучую и резкую, как холерный стул»[3017].
Больше всего была распространена торговля арбузами, и поэтому городские фруктовые хранилища просто назывались «арбузный дом»[3018]. Особенно известностью пользовались арбузы Северо-Восточной Персии: арбузы из Мерва доставлялись в Вавилонию нарезанными на куски — факт, неизвестный в отношении какого-либо другого города[3019]. «Дыни из Шубаркана (между Мервом и Балхом),— подтверждает Марко Поло,— нарезаются на тонкие пластины в форме спирали, как у нас тыква, а затем, когда они высохнут на солнце, их посылают в больших количествах на продажу в соседние страны»[3020]. Дыни доставляли в Багдад также в свежем виде на льду в свинцовых ящиках. Если они прибывали целыми и неповрежденными, то за них платили по 700 дирхемов за штуку![3021]
Роль, которая в наши дни принадлежит американскому томату, играл в то время гранат. Наряду с плотами леса и плотами, груженными маслом, упоминаются также огромные суда с этими фруктами, «плывущие с Евфрата в Багдад»[3022].
Самыми лучшими яблоками считались сирийские[3023], их вывозили в Египет[3024], причем ежегодно ко двору халифа доставляли 30 тыс. штук в мехах[3025]. На Востоке яблони не принимались, «так как они не в состоянии переносить горячие сухие ветры пустыни»[3026].
Торговля финиками приводила в движение огромные количества грузов. Основными производителями фиников были Вавилония[3027], Керман и Северная Африка. Высококачественным товаром считался месопотамский финик. В документах называется много разных сортов фиников. В финиковых районах Северной Африки в хороший год можно было получить верблюжий вьюк этих плодов за 2 дирхема[3028]; в Кермане цена 100 манов фиников порой падала до 1 дирхема, а надо сказать, что Керман снабжал ими всю Персию. Ежегодно около 100 тыс. верблюдов большими караванами тянулись на юг, чтобы достать там этих с нетерпением ожидаемых плодов. Погонщики караванов были буйные парни, «распутство в караванах было велико», и жителям Кермана они так досаждали, что те давали каждому хорасанскому погонщику по одному динару, когда он снова покидал их страну[3029]. Точно так же и караваны, тянувшиеся через Сахару в страну негров, были нагружены в основном финиками, взамен они доставляли обратно рабов и золото. Главным пунктом этой торговли финиками была Сиджилмаса в Южном Марокко[3030].
Оливковое дерево — растение средиземноморское; Сирия и Северная Африка снабжали оливковым маслом всю империю. Самое лучшее масло поступало из Сирии[3031], особенно большое количество оливковых деревьев насчитывал г. Набулус[3032]. В Алеппо масло хранилось в больших цистернах. При взятии города в 351/962 г. греки влили в них воду, чем заставили масло вытечь наружу[3033]. Тунис снабжал оливковым маслом еще древний Рим. В IV/X в. в Сфаксе добывали так много оливкового масла, что за один динар можно было получить 60 и 70 кафизов[3034], и в наше время ни в одной из средиземноморских стран не умеют так ухаживать за оливковым деревом, как там[3035]. Жители прочих провинций выходили из положения, употребляя редечное и репное масло в Египте[3036], кунжутное — в Вавилонии и Афганистане[3037], но в Фарсе уже опять выращивали оливковые деревья.
Вследствие высоких цен на сахар сахарный тростник сажали всюду, где только можно, даже в Галилее и близ Тира[3038]. Несмотря на то что разведение сахарного тростника в Египте уже для II в.х. доказано данными папирусов[3039], географы IV/X в. не говорят о нем ни слова; но в V/XI в. эта культура, кажется, приобрела большое значение — может быть, из-за прекращения политической связи с Востоком, ибо Насир-и Хусрау сообщает в 440/1048 г.: «Египет производит много меда и сахара»[3040]. Главной областью разведения сахарного тростника был Хузистан, причем самый прославленный тростник произрастал в районе Гундайсабура <Джундишапур>[3041]. В Вавилонии разведение тростника играло наибольшую роль в окрестностях Басры[3042]. Даже и в Испании верующие мусульмане сделали сахар продуктом местного производства[3043]. Совершенно особым образом упаковывался йеменский столовый сахар: его сушили на солнце, затем им набивали ивовые трубки и в таком виде на несколько дней ставили в ледник, пока он не затвердевал. Отверстия трубки заделывали гипсом. При употреблении трубки разламывали, а сахар резали ножом на подносе или на хлебной лепешке. Этот сахар вывозили в Вавилонию и Мекку[3044].
В роли нашей трески выступал осетр (тиррих; греч. thrissa) из оз. Ван, которого в засоленном виде доставляли вплоть до Алеппо и даже до Афганистана[3045]. На Западе его место занимал тунец (тунн; греч. thynnos), которого ловили у берегов Испании и лежащей напротив Африки (главным образом у Сеуты) и оттуда в сушеном виде продавали дальше. Охотились на него при помощи гарпуна[3046]. В народе жило поверье, будто тунец ежегодно уходит от берегов Африки в Средиземное море, чтобы там совершить паломничество к какой-то скале[3047].
Изысканным кушаньем была «съедобная земля», которую ели после обеда в качестве десерта. Самой лучшей считалась зеленая, как брюква, но более блестящая[3048], воспевается также и обычная — белая[3049]. Зеленую землю добывали главным образом в Кухистане[3050]; 1 фунт ее порой стоил в Египте и Магрибе 1 динар[3051]. Из Толедо «съедобная земля» проникла вплоть до областей, населенных тюрками[3052]. Между прочим, употребление в пищу этой земли было запрещено разными учеными[3053].
«Все жители Сиджистана <Сеистан> добавляют во все свои кушанья вонючую камедь (asa foetida), которая «растет в пустыне между Сиджистаном и Мекраном»[3054]. Еще и в наше время эта отвратительно пахнущая приправа является основным предметом вывоза из Пенджаба через Кветту в Афганистан[3055], откуда она еще в средние века доставлялась в Китай[3056].
Камфару, эту драгоценнейшую и излюбленнейшую специю, привозили как на Запад, так к в Китай с островов Борнео и Суматры мусульманские мореходы[3057]. Ладан же, который раньше поставлял как главный товар Йемен, в исламском мире вышел из моды. Он, правда, еще упоминается[3058], однако уже полностью вытеснен амброй, лучшие сорта которой также приходили из Южной Аравии[3059].
Веселая пестрота восточной одежды происходила оттого, что первоначально каждая местность употребляла краски, непосредственно находящиеся под руками. Так, бедуин использовал черный цвет козьей шерсти и белый — овечьей. В IV/X в. жителей Северо-Африканской Барки[3060], «которая совсем красная из-за красной земли»[3061], отличали в египетской столице от остальных жителей Запада по их красной одежде[3062]. В общем же надо сказать, что торговля уже произвела свое выравнивающее воздействие и распространила два основных красящих вещества, дающих отличные синий и красный цвета,— индиго и кермез (откуда немецк. karmoisin, совр. karmesin — karmin) по всей империи. В одном только Кабуле ежегодно продавалось на 2 млн. динаров индийского индиго[3063], причем это драгоценное сырье, как и сахарный тростник, разводили на любом мало-мальски пригодном участке земли. В Верхнем Египте индиго составляло основную культуру оазисов[3064], в Палестине близ Зо‘ара и в Базане[3065], в Кермане, на Мертвом море, «где велась большая торговля индиго, заменявшим крашение кабульским индиго из Кабула»[3066]. В Египте индиго можно было срезать каждые 100 дней, однако на первый год его надо было поливать раз в 10 дней, на второй — 3 раза, на третий — четыре раза[3067]. Из этого видно, что культура эта пришла из страны с десятичной системой.
Основным источником, откуда поступал кермез, была Армения, особенно провинция Айрарат[3068]; отсюда его доставляли вплоть до Индии[3069].
Для окраски в желтый цвет употребляли натуральный шафран (за‘фаран), сафлор (‘усфур) и арабский шафран (варс) — похожее на кунжут растение, которое росло только в Йемене[3070]. Йеменские верблюды, «сплошь покрытые желтой пылью» от их драгоценной ноши, тянулись на север. Наряду с другими красителями варс[3071] едва принимали в расчет, и все же, несмотря на это, итальянцы назвали по нему бразильское <красное.— Д.Б.> дерево — verzino. Шафран ценился столь высоко, что в 246/860 г. посол халифа привез его в виде дара императору Византии[3072]. Из-за его отличных качеств шафран выращивали во многих местах — в Сирии и на юге Персии, но основным местом его добычи была древняя Мидия[3073]. На Западе его вывозили в больших количествах из Толедо[3074].
Что же касается неорганических веществ, то бура добывалась в оз. Ван, на севере Персии, откуда ее, вероятно, доставляли пекарям в Месопотамию и Вавилонию. Называлась она хлебная бура (бурак ал-хубз) и шла для глазировки печенья[3075]. Наряду с ней в оз. Урмия имелась еще и белая, ювелирная бура (бурак ас-сага), которую с большой для себя прибылью транспортировали вплоть до Египта[3076]. Основным продуктом области оз. Чад (Судан)[3077] были квасцы (шабб), которые вывозили как в Марокко, так и в Египет[3078]. Соль, добываемая в копях Сахары, приводила в движение тысячи верблюдов и носильщиков, а морская соль с берегов Атлантического океана проникала глубоко в Судан[3079].
Единственные значительные месторождения нашатыря (нушадир), этого основного вещества химии той эпохи, были расположены в противоположных концах мусульманского мира — в Мавераннахре и в Сицилии[3080]. Первое месторождение было много более важным; по нему, в частности в Европе, это лекарство с давних пор называлось татарской солью[3081]. «В горах Буттама есть пещера, над которой построен дом с закрытыми дверями и окнами. Из этого провала подымается пар, который днем похож на дым, а ночью — на пламя. Когда пар осаждается, из него выпадает аммиак. Входящие в этот дом люди должны закутываться в мокрые войлочные покрывала, в противном случае они сгорят[3082]. Пар этот переходит с места на место; и когда он исчезает в одном месте, то в поисках его начинают копать в другом месте, пока он вновь не покажется на поверхности. Если нет постройки, мешающей ему улетучиваться, то к нему можно приблизиться без вреда, но если он находится под давлением в постройке, то он сжигает входящего своим непомерно высоким жаром»[3083]. Удивительные сведения о долине аммиака сообщает ал-Мас‘уди в 332/944 г.: «Там, где берут свое начало большие реки Китая, находятся аммиачные горы. Летом, в ночную пору, уже за сто фарсахов виден огонь, днем же из-за большой яркости солнечного света он кажется паром. Оттуда вывозят аммиак. Тот, кто хочет летом проехать из Хорасана в Китай, попадает в эту местность и находит между этих гор долину протяженностью в сорок-пятьдесят миль. Он приходит к людям, живущим в начале долины, и обещает им (нужно читать йургибухум) хороший заработок. Они взваливают его багаж на плечи, в руках у них палки, которыми они бьют по обоим бокам идущего впереди носильщика и путешественника, чтобы они без устали шли, не останавливались и не погибли бы от тягот этой долины. В конце долины — болота и пруды, в воды которых бросаются от больших страданий и жары, причиняемой аммиаком. Ни одно животное не может пройти этой дорогой. Летом аммиак горит ярким пламенем, и тогда вообще уж никто не может вступить в эту долину. Но зимой, когда выпадает много снега и дождя, которые понижают жар и тушат огонь, люди входят в эту долину, однако животные не могут. Кто спускается из Китая, того бьют так же, как подымающегося туда (читай: биссадир вместо билма’ир)»[3084]. В 982 г. н.э. китаец Ван Янь-дэ посетил рудник, где добывали аммиак, и сообщил о нем: «Аммиак добывают в горах севернее Петина, откуда постоянно вздымаются столбы пламени. По вечерам видны огни, как бы исходящие от факелов, так что можно разглядеть птиц и полевых мышей этих гор, которые кажутся тогда целиком красноватыми. Собиратели [аммиака] носят обувь на деревянной подошве, потому что кожаные сгорели бы»[3085].
Согласно китайским источникам, место добычи аммиака лежит в восточной части Тянь-Шаня, в 200 ли на север от Кучи. В одном китайском сочинении 1772 г. сказано: «Аммиак поступает с одной аммиачной горы на севере от города Куча, изобилующей пещерами и трещинами. Весной, летом и осенью эти отверстия наполнены огнем, так что по ночам кажется, будто гора освещена тысячами ламп. В эту пору к ней никто не может приблизиться. Только зимой, когда большие массы снега приглушат огонь, местные жители занимаются сбором аммиака»[3086]. Также и писавший в XI в. афганец ал-Худжвири рассказывает в одном своем мистическом сочинении, что он видел на границе ислама в одном тюркском городе горящую гору, из которой вырывались пары аммиака, «посреди пламени была мышь, которая издохла, когда покинула раскаленный зной»[3087]. Этот аммиак настолько высоко ценился также и в Китае, что местные жители выплачивали им императору подать[3088].
Тридцать лет тому назад эта гора была обследована. Вот что пишут об этом официальные «Туркестанские ведомости»: «Гора Пейшан, или Пайшан, не является вулканом, как это установила специально направленная для этой цели русская экспедиция. Дым исходит из горящих пластов каменного угля. Склоны Пейшана покрыты трещинами, из которых со страшным шумом вырывается дым и содержащий серу газ». Я нашел это в только что цитированной работе Фридрихсена, который добавляет: «Этому соответствует и то, что Регель[3089] сообщает согласно сведениям направленного для ботанических изысканий садовника Фетисова: Пайшан — это гора конусообразной формы, не имеющая на вершине кратера, но зато изобилующая боковыми отверстиями». Поэтому Фридрихсен склонен рассматривать эту гору как горящий угольный пласт[3090].
Что касается обоих благородных металлов, то различные области, мусульманской империи наилучшим образом дополняли друг друга. Так, Восток поставлял серебро, а западная часть — золото. Клондайком того времени была знойная пустыня на восток от Верхнего Нила, между Асуаном и ‘Айзабом. Столицей золотоискателей был <Вади> ал-‘Аллахи, на расстоянии 15 дневных переходов от Асуана[3091]. Ночью при слабом лунном свете выходили золотоискатели на разведку и отмечали те места, где они замечали что-нибудь блестящее[3092]. На следующий день они промывали песок на этих участках, смешивали золото со ртутью и расплавляли его[3093]. Искатели счастья устремились туда лишь начиная с середины III/IX в., после того как в 241/855 г. энергично проведенный поход правительственных войск небольшими, но отборными силами образумил непокорных до той поры буджжа. С того времени датируется поглощение тамошнего местного населения арабскими племенами[3094]; так, уже в 332/944 г. распространил свою власть над золотой страной вождь арабского племени раби‘а[3095]. Абу-л-‘Ала ал-Ма‘арри (ум. 449/1057) прямо так и сказал египетскому халифу, предложившему ему деньги: «Я богат, как самый богатый человек, а потому оставь меня со своим рудником Асуана»[3096]. Второй значительный золотой источник изливался в Судане: «Золото — основной товар у чернокожих, от мала до велика все живут им»[3097]. Все караваны, которые шли с юга через Сахару, везли золото и рабов; носильщики несли туда соль, а обратно — золото, и притом все на голове, «так что они становились совершенно лысыми»[3098].
В 390/1000 г. было открыто месторождение золота и на Востоке — в Афганистане[3099], однако позднее о нем ничего не слышно. Самый богатый серебряный рудник ислама был расположен на восточном конце империи, в Гиндукуше, так называемое «пятихолмие» — Пенджхир. В то время там насчитывалось 10 тыс. рудокопов, «которые с головой погрязли в распрях и пороках»[3100].
«Серебряные монеты там настолько в ходу, что почти все стоит целый серебряный дирхем, пусть даже это будет ломтик овощей. Серебро таится в недрах вершины одной горы, возвышающейся над городом, которая из-за сплошных ям выглядит как решето. Рудокопы идут только лишь по ходу тех жил, которые определенно ведут к руде. Когда они нападают на такую жилу, то они неустанно копают, пока не натыкаются на серебро. Случается так, что кто-нибудь выкапывает там около 300 тыс. дирхемов, нередко кто-нибудь находит и такое, что его самого и его потомков делает богатыми людьми, нередко зарабатывает он по меньшей мере стоимость своих издержек, но часто бывает и так, что он становится нищим, когда, например, вода и другие препятствия одерживают верх. Порою один рудокоп идет по ходу жилы, а другой пробирается к ней по другой расселине, и они начинают копать вместе. В этом случае существует обычай, что тот, кто первым нападет на руду и станет поперек дороги своему сопернику, имеет право на рудник и на его разработку. Копая так наперегонки, они работают, как дьяволы,— ведь если один из них первым доберется до руды, то пропали все старания другого. Нападут они на руду одновременно, тогда они делят добычу поровну. Они углубляются в землю только до тех пор, пока горят свечи и фонари, когда же они доходят до такой глубины, что тухнет огонь, они перестают углубляться. Кто же проникает глубже, погибает в самый короткий срок. Бывают такие случаи, что кто-нибудь утром богат, а к вечеру беден или утром беден, а вечером богат»[3101].
Серебряные рудники под Исфаганом в III/IX в. были уже давно заброшены[3102]; вынуждены были отказаться и от более удаленного серебряного рудника в Бадгисе (Афганистан), так как кончились дрова[3103].
Напротив, медные рудники под Исфаганом в III/IX в. платили налог в сумме 10 тысяч дирхемов[3104]. Медь для сверкающих куполов минаретов поступала из Бухары[3105]. Областью наиболее высоко развитой добычи железа и самого высокого уровня железообрабатывающих промыслов был Фарс[3106], однако и Бейрут[3107], Керман[3108] и Кабул[3109] имели железные рудники. Железные орудия из Ферганы пользовались такой славой, что их вывозили вплоть до Вавилонии. «Железо из Ферганы легко обрабатывается»[3110]. На Западе крупный железный рудник находился в Сицилии[3111], а из Африки, где издревле существовала обработка железа, поступало железо, которое в Индии перерабатывалось в высококачественные товары[3112]. Что же касается Передней Азии, то там железо все еще продолжало оставаться редкостью. В 353/964 г. карматы из Аравийской пустыни отправили экспедицию в Тивериаду к Сайф ад-Даула с просьбой снабдить их железом. Эмир велел сорвать железные ворота Ракки, собрал все железо, которое только нашел, даже гири у торговцев, и отдал им. Они спустились с ним вниз по Евфрату до Хита, а затем доставили его через пустыню[3113].
Самые важные ртутные месторождения мусульманской территории лежали в Испании, близ Толедо. «На руднике работало свыше 1000 человек. Одни спускались в шахту и рубили горную породу, другие доставляли дрова для выжигания минерала, третьи изготовляли тигли для плавки, сосуды для дистилляции и, наконец, четвертые обслуживали печи. Я видел эти разработки и узнал, что дно рудника лежит на глубине в 250 человеческих ростов под землей»[3114].
Каменный уголь, «черные камни, которые горят, как древесный уголь», находили в Бухаре и Фергане[3115], однако их расценивали скорее как диковинки природы.
Асбест, который встречался близ Фарвана в Хорасане, называли фитильным камнем, потому что из него, как и в наше время, вырабатывали главным образом фитили для ламп. Кроме того, из него ткали скатерти, которые для чистки достаточно было засунуть в печь[3116]. Оценка драгоценных камней была в то время иной, чем сейчас. Один автор IV/X в. перечисляет самые благородные камни в следующем порядке: бирюза из Нишапура, яхонт с Цейлона, жемчуг из Омана, смарагд из Египта, рубин из Йемена и бизади из Балха[3117]. Аналогичным образом располагает их около 400/1009 г. ал-Бируни: яхонт, смарагд, жемчуг[3118]. Значит, алмаз не занимал в то время того особого, исключающего едва ли не все прочие драгоценные камни положения, как в наше время. Яркие камни, светящиеся спокойным ровным светом, ценили тогда выше. В Хорасане и в Вавилонии алмаз использовали только для сверления и в качестве яда[3119]. Знатные люди использовали его для самоубийства: когда они попадали в руки к врагам, их ожидали неизбежные мучения и унижения, они проглатывали этот камешек и умирали от этого[3120]. Голубая бирюза (фирузадж) добывалась только под Нишапуром[3121]. Фрезер посетил в 1821 г. холм, расположенный приблизительно в 60 км на северо-восток от города. Этот драгоценный камень извлекается примитивнейшим образом при помощи молотков в небольших ямах. И все же видно, что ранее работа здесь велась в более крупных масштабах[3122].
Двести лет спустя вкусы изменились, и этот драгоценный камень стал так широко применяться для колец с печаткой, что знать не стала им больше пользоваться[3123]. Такая же участь постигла и высоко ценившийся в IV/X в. рубин. В VI/XII в. он был так распространен в народе, что люди знатные использовали только крупные куски на баночки под благовонные притирания, кубки и т.п.[3124] Самые красивые рубины добывались в Южной Аравии под Сан‘а — «порой выходит на поверхность кусок со скалу, а порой вообще ничего»[3125]. Афганские Альпы также доставляли драгоценные рубины[3126], которые выкапывали в рудниках, как золото или серебро[3127].
Единственные в империи разработки смарагда находились в восточно-египетской пустыне, на расстоянии семи дневных переходов от Нила[3128], камень там добывали мотыгами глубоко в горе[3129]. Эти разработки упоминаются уже Страбоном, и принадлежали они в 332/943 г. предводителю племени раби‘а <Бисиру ибн> Исхаку, который также владел золотыми россыпями[3130].
В художественном промысле особой популярностью пользовался пестрый, полосатый оникс, который вывозили из Йемена. Его перерабатывали на подносы, рукоятки мечей и ножей, чаши[3131], и его пестрый блеск украшал почти все столы знатных людей.
Драгоценный коралл вылавливали, как и в наши дни, у берегов Северо-Восточной Африки (Марса ал-хараз), в Сеуте и т.д.[3132] Его добычей были заняты обычно от пятидесяти до двадцати человек[3133]. Они бросали в море деревянные гарпуны, крестообразной формы, обмотанные свободно свисающими льняными нитями. Нити эти зацеплялись за коралловые рифы, и, когда корабль поворачивал обратно, отламывали большие куски стоимостью от 10 до 100 тысяч дирхемов[3134]. Кораллы были главным предметом торговли в Судане[3135], однако особенной популярностью они пользовались у индийских женщин[3136], и во времена Марко Поло их ввозили в Кашмир из Европы[3137]. Еще и теперь предназначаемые для России итальянские кораллы, чтобы сэкономить на взимаемой на западной границе пошлине, совершают невероятный крюк через Индию и Восточный Туркестан[3138].
Жемчуг Аравийского <Персидского> залива считался лучшим даже в Китае[3139]. Ловцы жемчуга работали, как еще и в наши дни, с апреля по октябрь, главным образом — август и сентябрь[3140]. Ловля жемчуга была организована совершенно на капиталистический лад: предприниматель нанимал ныряльщиков на два месяца из расчета по 30 дней, за которые он исправно платил им. Прибыль, которая при удачных обстоятельствах была огромной, доставалась целиком ему[3141]. В эпоху Вениамина Тудельского (ок. 1170 г. н.э.) этот промысел был в руках одного еврея[3142]; сегодня добыча всех лодок принадлежит сообща одному племени или союзу племен, а прибыль от этого получают индийские купцы, которые скупают раковины по очень низким ценам[3143]. Предприятие это было крайне трудным. Доисламский поэт ал-А‘ша описывает ловца жемчуга, как он «во главе четырех, различных по цвету [кожи] и телосложению ловцов выезжает на утлой лодке, затем со стиснутыми зубами, выпуская изо рта масло, опускается в море, которое уже убило его отца. Потом его осаждают вопросом: Не продашь ли? — но он обеими руками прижимает к груди драгоценную добычу»[3144].
В начале IV/X в. ал-Мас‘уди сообщает следующее: «Ныряльщики питаются исключительно рыбой, финиками и т.п. Им протыкают отверстия у основания ушей, чтобы дыхание могло выходить там вместо ноздрей, потому что на нос насаживают нечто похожее на широкий наконечник стрелы из панциря морской черепахи или рога — но не из дерева,— которое его сжимает. Уши затыкают хлопком, смоченным в каком-то масле. Небольшое количество этого масла выжимают внизу под водой и тогда оно светит им. Ступни и голени они красят черным, чтобы их не хватали морские звери, ибо они убегают от черного. Внизу в море ныряльщики лают, как собаки, чтобы слышать один другого»[3145].
В IV/X в. места ловли жемчуга близ Цейлона утратили свое значение: там почти перестали находить раковины, думали даже, что жемчужницы перекочевали от Цейлона к Африке[3146]. Это и является причиной того, что географы и путешественники в это время ничего не говорят о ловле жемчуга. Позднее раковины вновь появились, и мы имеем подробное сообщение от VI/XII в.: более 200 кораблей сразу покидают город, на каждом корабле в отдельных каютах по 5-6 купцов, каждый со своим ныряльщиком и его помощниками. Во главе этого флота идет предводитель, который в каком-нибудь месте останавливается, ныряет и если результат покажется ему хорошим, то бросает якорь. Тогда и все становятся на якорь вокруг него, ныряльщики затыкают себе носы воском, растопленным в кунжутном масле, берут с собой нож и мешочек и становятся на камень, который помощник держит на веревке и на котором ловец спускается в пучину. Рабочее время длится два часа в день. Жемчужины измеряют и продают под контролем правительства в определенно установленный день. Для измерения служат три расположенных друг над другом сита с разными отверстиями[3147]. Вениамин Тудельский добавляет, что ныряльщики могут выдержать под водой от 1 до 1½ минут[3148].
А вот китайский рассказ, относящийся к тому же периоду: «Употребляют 30 или 40 лодок, каждая с командой в несколько дюжин человек. Ловца жемчуга, обвязанного вокруг пояса веревкой, с заткнутыми желтым воском ушами и ноздрями, опускают в воду на глубину 200 или 300 футов, или даже еще глубже, веревки закрепляют на борту. Когда кто-нибудь подает знак подергиванием веревки, его вытягивают. До этого в кипящей воде распаривают, насколько это только возможно, мягкое одеяло, которое набрасывают на ныряльщика в тот момент, когда он выйдет из воды, чтобы предотвратить наступление судорог и смерть. На ныряльщиков нападают также крупные рыбы, драконы и другие морские чудища, которые распарывают им животы или крушат члены». «Нередко ловец жемчуга подает знак веревкой, и человек, держащий ее на судне, не может его вытянуть. Тогда вся команда тянет изо всех сил и вытаскивает его наверх, а у него ноги отгрызены каким-то чудовищем». «В общем, жемчужина считается ценной, если совершенно круглая. Доказательством этому считалось, если она целый день непрерывно катается на подносе. Зарубежные купцы, прибывающие в Китай, обычно прячут жемчуг в подкладке своей одежды и в ручках зонтиков, чтобы избежать таким образом уплаты пошлины»[3149].
Обычно хорошо осведомленный китаец Чан дэ, совершивший в 1259 г. путешествие на Запад, приводит следующий рассказ о ловле жемчуга: «Ловцы жемчуга залезают в кожаный мешок, так что остаются свободными одни только руки. Вокруг их бедер обвязывают веревку, и в таком виде они опускаются на дно морское. Они собирают жемчужные раковины вместе с песком и землей и кладут их в этот мешок. Порой на них внизу нападают морские чудища, тогда они брызгают в них уксусом и тем самым отгоняют их. Когда мешок полон раковин, они дают знать об этом людям наверху дерганьем за веревку, и их вытягивают на поверхность. Порой случается, что ловцы жемчуга гибнут в море»[3150].
Слоновую кость арабские купцы закупали в Восточной Африке и завозили ее вплоть до Китая[3151]. За нее платили дороже, чем за слоновую кость из Аннама и Тонкина, которая состояла из более мелких и красноватых бивней[3152]. Ал-Мас‘уди утверждает, что ее было много в странах ислама, если бы спрос на нее на Востоке не был бы так высок[3153]. Из Восточной Африки поступали также и черепахи, из которых изготовлялись гребни более высокого качества — простые делали из рога. Оттуда же получали и шкуры пантер для чепраков[3154]. Вообще, надо сказать, что чернокожие являлись поставщиками кож для всей Передней Азии. Египет и Южная Аравия, пожалуй, научились у них искусству изящной выделки кож, в котором они отлично преуспели[3155]. Ал-Мукаддаси, умевший переплетать книги на сирийский лад, похваляется тем, что в Южной Аравии он получал иногда по два динара за том[3156], настолько хорошо там знали толк в подобной работе. Заманчиво было бы считать, что современная форма книги, сменившая античный свиток, пришла из черного континента. Еще в III/IX в. ислам имел традицию подобного рода. «От чернокожих идут три вещи: тончайшие благовония, именуемые галийа, паланкин, называемый на‘ш, лучше всего скрывающий женщин, и форма книги, называемая мусхаф, надежнее всего сберегающая ее содержание»[3157].
На западе империи леса были вырублены еще в древности, на востоке леса сохранились лишь в недоступных местах; выше уже шла речь о том, что горное дело на Востоке было парализовано из-за отсутствия дров. «Земля Бухары была настолько заболочена, что там совершенно не было высоких деревьев»[3158]. «Зато это способствовало там такому буйному росту травы, что в ней целиком исчезала лошадь»[3159]. Чтобы исправить положение с топливом, на помощь приходила мощно развитая лесоторговля. Афганский лес, главным образом кипарис, продавался по всему Хорасану[3160]. Корабельный лес поступал из Венеции и Верхнего Египта[3161]. Для строительства домов в Багдаде и на всем Востоке самым ценным считался лес из индийского тикового дерева (садж), который шел на богатую резьбу по дереву во всех домах вельмож. На Средиземном море эту роль играла пиния (санаубар). Форт ат-Тинат близ Александретты был транзитным торговым центром сирийской сосны, откуда она вывозилась в другие порты Сирии, в Египет и Киликию[3162]. В Испании самым знаменитым считался сосновый лес Тортосы. Это дерево «красное, со светлой корой, твердое, гниет не скоро и его не точат жуки, как другие деревья. Из этого дерева был сделан потолок мечети в Кордове»[3163]. Частично сохранившиеся еще и в наше время леса Мазендерана давали бело-красную древесину дерева халандж, из которой согласно требованиям моды IV/X в. изготовляли мебель[3164]. Горные жители Табаристана резали из его твердой древесины сосуды и подносы[3165], из Кума доставляли знаменитые табуреты (курси), по образцу которых в главном городе Кермана на юге изготовляли поддельные[3166], а из Рея шли пестрые подносы[3167].
Египет, Южная Аравия, Вавилония, северо-восток Персии, Мавераннахр и Афганистан являлись теми областями империи, в которых приходилось решать важные ирригационные проблемы. Законодательные акты по вопросам водопользования часто представляли собой искуснейшие сплетения тончайших определений. Однако, пожалуй, общим для них всех было основное положение канонического права: «Воду нельзя ни покупать, ни продавать». Таким образом, делать дела на одном только орошении не имели права ни отдельные лица, ни государство[3168]. Большая часть европейских правил пользования водой уходит своими корнями в эти восточные законы. В различных местах они породили различную технику. К сожалению, нам известно слишком мало точных данных, а поэтому вопрос об их взаимосвязи, о том, исходят ли они из одной отправной точки, не может быть решен.
В Вавилонии правительство должно было заботиться о поддержании в исправности плотин, дамб и шлюзов[3169], для чего существовал целый класс правительственных чиновников-инженеров (мухандис). Это была трудоемкая работа, так как дамбы строились из камыша и земли, «часто мышиная нора являлась причиной прорыва плотины, которую затем размывала вода; один час мог уничтожить усилия целого года»[3170]. Рачительный правитель Му‘изз ад-Даула настолько серьезно относился к этому делу, что однажды во время прорыва дамбы собственноручно носил землю в подоле своей одежды, являя тем самым достойный подражания пример своему войску[3171]. Весьма совершенным был, кажется, порядок пользования водой в Восточной Персии. В Мерве имелось ведомство воды (диван ал-ма)[3172], у главы этого ведомства в подчинении было 10 тыс. служащих, и он пользовался большим весом, чем начальник полиции этой области[3173]. Единицей измерения воды служило количество воды, истекающее из отверстия в 60 квадратных локтей. Согласованное по договору суточное количество воды для орошения также делилось на 60 частей[3174]. Водомерное устройство было поставлено на расстоянии 1 фарсаха от Мерва. Это была доска с продольной прорезью, в которой перемещалось вверх и вниз лежавшее в ней ячменное зерно. Если этот указатель стоял на 60 «ячменных зернах», это означало урожайный год, люди радовались, и норма отпуска воды увеличивалась, но если он поднимался только на два «ячменных зерна», то год грозил быть голодным. Уровень этого указателя постоянно сообщался водному ведомству, которое соответственно с ним устанавливало нормы расхода воды и передавало их всем смотрителям шлюзов. «На плотине ниже города было занято 400 сторожей, которые караулили ее денно и нощно. Часто в сильный холод им приходилось лезть в воду, тогда они натирались воском. Каждый из них должен был ежедневно заготовить определенное количество леса и хвороста для того момента, когда это понадобится»[3175]. Районы Восточной Персии, расположенные в стороне от основных рек, снабжали водой совершенно гениальные оросительные сооружения. Там дело шло о том, чтобы при наличии незначительных речек и ручейков собрать до последней капли воду, образуемую осадками и просачивающуюся из трещин горных склонов, а также грунтовые воды. Этой цели служила так называемая система кяризов. В земле рыли длинные, еще и сегодня достигающие длины в 50 км штольни со слабым уклоном, причем на определенном расстоянии на поверхность выходили вентиляционные колодцы. Знамениты были такие сооружения Кума и особенно кяризы восточноперсидского города Нишапура, где нужно было спуститься на 70 ступеней по специальным лестницам, чтобы попасть в штольню. Благодаря этим сооружениям город снабжался чистой всегда прохладной питьевой водой[3176]. Выполнение этих работ требовало высокого мастерства, «водоносные слои должны встретиться с водоводом в том месте, где они соприкасались с водонепроницаемым подстилающим слоем, и далее этот слой должен был иметь достаточный угол падения, чтобы ускорять сток воды»[3177].
Что же касается ирригационных машин, то применялись дулаб, далийа, саррафа, зурнук, на‘ура и манджанун[3178]. Из них зурнук («скворец») был черпалкой самого простого типа, которую, например, в Медине обслуживали верблюды[3179]; далийа — черпальная машина, приводившаяся в движение животными; на‘ура — устанавливаемое на реке и приводившееся в движение водой черпальное колесо[3180], а дулаб — персидское название для греческого манджанун (manganon). На‘ура, кажется, еще не была распространена к западу от Вавилонии[3181].
Эти сооружения, были ненадежны, так как были сделаны из дерева (даже знаменитые плотины в Бухаре). Однако район распространения южноперсидской культуры, Хузистан и Фарс, имел ирригационные сооружения из камня. Там, ниже Тустара, находилась плотина, имевшая, по арабским данным, 1000 локтей длины, а по европейским — 600 шагов, которую, согласно легенде, царь Шапур I заставил возвести пленного римского императора Валериана[3182] и служившую для отвода от реки Дуджайл канала Машрукан. В IV/X в. одним из наиболее знаменитых ирригационных сооружений была постройка, возведенная ‘Адуд ад-Даула на реке Кур в Фарсе. Постройкой мощной плотины, основание которой было залито свинцом, он перегородил воды этой реки, и образовалось озеро. По обоим берегам реки он установил 10 черпальных колес, приводимых в движение водой, и под каждым колесом поставил мельницу. При помощи трубопровода он оросил 300 деревень[3183]. Эти плотины имели шлюзы: «при высоком стоянии воды створы открывались, и грохот низвергавшейся воды большую часть года мешал людям спать. Половодье бывало зимой, ибо происходило оно от дождей, а не от [таяния] ледников»[3184].
С другой стороны, в Южной Аравии, где дело шло о том, чтобы собирать для использования непостоянную воду, имелись выложенные галькой плотины (масани‘)[3185], а дальше в горах — как, например, близ Сан‘а — напротив, плотины (садд), имевшие внизу отверстия, через которые вода распределялась по каналам. Эти плотины были чем-то настолько специфически южноарабским, что Ибн Руста[3186] считает в этом месте необходимым разъяснить значение слова.
В Мавераннахре строительство каналов располагало идеальным материалом: лесс, который в сыром виде пластичен, как глина, а на солнце высыхает до прочности камня,— это желтая земля искусных китайских крестьян. Но все же поражают сведения источников о том, какие тонкие ирригационные работы делает там крестьянин при помощи одной лишь своей мотыги (кетмень), без каких бы то ни было приспособлений для нивелировки. «Их специалисты (устад — «мастер») обладают достойным удивления опытом в распознавании самой незначительной разницы в уровнях, которая от простого наблюдателя чаще всего полностью ускользает»[3187]. Своеобразием этих ирригационных сооружений является то, что они должны считаться не с равнинами, как в Египте и Вавилонии, а с холмистой местностью, иными словами, проводить их много труднее. Различные системы каналов зачастую расположены в несколько ярусов друг над другом и многократно перекрещиваются. Верхний канал в таких случаях идет над нижним по открытому деревянному желобу, лежащему на опорах из дерева. Однако затворы им неизвестны[3188]. Здесь господствовало древнейшее водное право, в котором мусульмане ничего не поколебали, а русские кое-что изменили, но лишь себе же во вред. Классическим местом сельского хозяйства такого типа была Ферганская долина, расположенная на широтах Южной Италии, но континентальная по своему положению, а поэтому почти тропически знойная. Самое широкое место долины едва достигает 100 км между горами высотой в 4-7 тыс. м, ледниковые воды которых летом берут на себя орошение долины. Луга там удобряются, поля орошаются, туда наносят ил, а по временам даже и минералы. Чиновники водного ведомства выбираются крестьянами и имеют долю в урожае. Основное правило существовавшей там ирригационной системы заключалось в разводе при помощи запруд стоков воды обоих склонов, причем так, чтобы она не достигала протекающего посреди долины основного русла. И здесь, так же как и в Афганистане, плотины умышленно построены так непрочно, что в половодье их тотчас же сносит и тем самым автоматически устраняется опасность наводнения. Небольшие каналы повсюду проложены так, что у них незначительный уклон, и лишь в конце они совершают скачок до уровня долины, где крутизна падения используется для мельниц[3189]. В IV/X в. в Мавераннахре имелись виноградники и посевы, которые не облагались земельным налогом, но зато владельцы должны были содержать в порядке плотины и протекающие там реки[3190].
Поддающаяся возделыванию часть Афганистана в конечном итоге совпадает с дельтой реки Хильменд, которая, как и Иордан и все (с одним только исключением) реки Персии, не находит выхода в море, а теряется в обширной заболоченной местности. Эта река, подобно теряющимся в песках потокам пустыни, часто меняла свое русло, а потому поставила перед ирригационной системой совершенно особые задачи. Майор Сайкс нашел ее в начале апреля такой же широкой, как Темза под Лондоном[3191]. Один за другим ответвлялись от реки каналы, в конце стояла плотина, препятствовавшая воде уйти в озеро. А когда во время таяния снегов уровень воды подымался, то излишний поток срывал плотину и устремлялся сквозь нее, не причиняя вреда[3192]. Поэтому плотина не должна была быть прочной и имела, вероятно, конструкцию главной плотины Бенд-и Сеистан в наше время: строят ее около 1000 рабочих, в дно реки рядами забивают тонкие колья из акации, переплетают их хворостом, закрывают грубо сделанными фашинами, а отверстия замазывают глиной[3193].
На нижнем Ниле в IV в. н.э. были две плотины, сооруженные из земли и тростника (халфа), одна — под Гелиополисом, а другая, большая по размерам, еще ниже — близ Сардоса. Первая закрывалась перед тем, как в Ниле прибывала вода, и гнала воду на поля. «В праздник Воздвижения креста, когда виноград становится сладким», правитель Египта выезжал к плотине и приказывал пробить ее, прибрежные жители заделывали свои каналы, чтобы вода с их полей не сошла в реку, и все щедроты Нила изливались теперь только на север[3194].
С древнейших времен водомерные устройства действовали здесь следующим образом: воду отводили в пруд и определяли уровень стояния воды по высеченной в камне шкале, имеющей деления на локти и пальцы. Самым важным был водомер на острове Рауда (Рода), близ Старого Каира, смотритель которого должен был каждый день докладывать правительству об уровне воды. Если вода прибывала до уровня в 12 локтей, то глашатай ежедневно возвещал по всему городу: «Аллах поднял сегодня благословенный Нил на столько-то; в минувшем году подъем воды в этот день был таким-то — Аллах пополнит его»[3195]. Со времени реставрации водомера в 247/861 г. в здании было забранное решеткой окно, на котором спускали черный «халифский» занавес, когда уровень воды в реке достигал 16 локтей[3196]. В период половодья Египет бывал затоплен и деревни сообщались между собой лишь при помощи судов[3197]. На эти четыре месяца заготовляли провиант как для осады, пекли хлеб впрок и сушили его на солнце[3198].
Водяные часы, называвшиеся в Персии тарджехаре, были распространены повсеместно: медные стояли в Биййаре (Северный Иран) и Арраджане (Фарс)[3199], другие — в Северной Африке. В одном из оазисов Сахары три подводящих канала сначала делились на 6 рукавов каждый, и уже от них ответвлялись отдельные оросительные желоба-канавы, причем все одинакового сечения: две пяди в ширину и один дюйм в высоту; выложены они были камнем. «Всякий, чей черед настал в орошении, берет сосуд (кадас, лат cadus — „кувшин“), в дне которого имеется отверстие толщиной со струну чесалки для льна; этот сосуд он наполняет водой, подвешивает его и орошает [свое поле] до тех пор, пока вода не выбежит из сосуда. Орошение в течение целого дня длилось 192 кувшина, значит, 8 кувшинов в час. Плата вносилась ежегодно, а именно — по одному мискалю за 4 кувшина»[3200].
Борьбу с движущимися песками необходимо было вести в одном лишь Афганистане, где и развилась особая наука, занимавшаяся этим вопросом. Вся страна состояла из песка, а ветры дули с неслыханной силой и постоянством. Так, в 359/970 г. главная мечеть столицы Афганистана Заранджа была полностью занесена песком и над городом нависла бы серьезная опасность, если бы какой-то человек за сумму в 20 тыс. дирхемов не изменил направления ветра. Так рассказал об этом Ибн Хаукалу один путешественник, прибывший оттуда. Однако он узнал также и еще кое-какие подробности: когда люди хотят там прогнать песок, не сгоняя его при этом на соседние земли, они сооружают стену из дерева и хвороста достаточной высоты, чтобы задержать песок, и в нижней части стены оставляют отверстие. В это отверстие врывается ветер, песок вздымается столбом, как волна во время бури, и уносится ввысь, исчезая из поля зрения, туда, где он им уже не вредит[3201].
Техника возделывания земли в империи халифов, когда почти каждая деревня и долина придумывали свои собственные варианты, носила, вероятно, в то время достаточно пестрый характер. В области Ардебиля, например (между Тебризом и Каспийским морем), пахали на восьми волах, причем каждая пара имела своего погонщика, но вовсе не из-за присущей земле твердости, а потому что она была промерзшей[3202]. «Напротив, в персидской местности Абаркух жители не пахали на коровах, хотя и держали их в этой местности в большом количестве»[3203]. Удобряли землю повсюду очень усердно навозом из-под коров и овец, а также и человеческими фекалиями. Первый продавался в Вавилонии корзинами (сабал)[3204], а о широком применении фекалий упомянуто выше. По соседству с персидским Сирафом, в Куране и в Ирахистане, пальмы приходилось сажать в такие глубокие ямы, что над поверхностью выглядывали только их верхушки: в углублении задерживались зимние воды, которые и поили деревья. В связи с этим спрашивали: «Где пальмы растут в колодце?». Ответ гласил: «В Ирахистане»[3205].
Огородного пугала никогда не знали и не знают в наши дни во всем мусульманском мире. В Вавилонии дети карматов сдавали коммунистической общине жалованье, которое они получали за то, что отгоняли от полей птиц[3206]. А в Туркестане в настоящее время «местные жители стараются защитить свои поля и сады от птиц тем, что сооружают посреди каждого поля глинобитную пирамиду высотой около 2 м, на которую ставят мальчишек. Здесь, чаще всего полуголые или даже совсем голые, проводят они целый день под палящими солнечными лучами и должны отгонять птиц криком, ударами в барабаны или в старые подносы, а также и швырянием глиняных шариков. А так как эти живые пугала в летнее время установлены на каждом поле и в каждом саду, а то еще по два и по три, и каждый стремится перещеголять другого, то с раннего утра и до вечера здесь царит такой адский шум, что от него можно сойти с ума»[3207].
В отношении Марокко см. описания художника Франца Буксера в его «Картинках из Марокко»[3208].
В IV/X в. Вавилония была еще страной крупного скотоводства. Живших там «набатейцев» дразнили «коровьими наездниками». Лишь с ростом заболачивания земель стали распространяться буйволы. Буйвол был привезен арабами с его индийской родины, при Омейядах был доставлен из Синда в вавилонские болота. Более того, правительство даже направило на северную сирийскую границу четыре тысячи буйволов, ибо тамошние жители жаловались на убытки, которые они терпят от львов, а буйвол считался смертельным врагом льва. Еще в IV/X в. ал-Мас‘уди сообщает, что тип упряжки буйволов в районах Антиохии тот же самый, что и в Индии[3209]. Позднее сирийские арабы доставили это «домашнее животное», которое прекрасно чувствует себя в болотах, в Италию и Испанию. Еще во II/VIII в. в Вавилонии употребляли в пищу мясо крупного рогатого скота, позднее от этого отказались[3210] и этих животных держали только ради молока[3211]. Говядина считалась плохим мясом[3212], врачи даже считали ее ядовитой; так, ар-Рази рекомендует лишь овечье молоко и баранину[3213]. Ибн Руста (ок. 300/912) с изумлением сообщает, что жители Йемена предпочитают говядину жирному барану[3214]. А в наше время в том же самом Йемене считается оскорблением подать говядину даже слуге[3215].
О ввозе убойного скота упоминается только в отношении Египта, где, как передают, этот скот в большинстве случаев доставлялся из Барки[3216].
Местом, где разводили самых лучших одногорбых верблюдов, все еще продолжала оставаться Аравия. Словарь терминов, связанных с верблюдом, в том виде как его составили филологи, показывает, с какой невероятной ловкостью использовались, изменялись и подавлялись на пользу человеку малейшие проявления инстинкта и движений этого животного. Вся природная хитрость арабов в значительной мере нашла себе применение в области выведения верблюдов. Что же касается двугорбых верблюдов, то славу древних Бактр сберег Балх[3217]. И тем не менее для разведения из Синда ввозили верблюдов-производителей вида фалидж, который был крупнее обычного двугорбого верблюда. «Держали его только самые богатые люди»[3218]. Посредством скрещивания этих двугорбых производителей с арабскими одногорбыми матками получали двугорбых беговых верблюдов, называвшихся бохти, и «иноходцев» (джаммазат). Между собой эта помесь потомства не давала[3219].
Лошадей разводили во многих местах, причем арабы и персы придерживались в этом деле своих традиций и имели свои конские родословные. В Багдад лошади чистых кровей поступали из Аравии, прочие же главным образом из Мосула[3220]. Насколько мне известно, первым, кто упоминал о крайне важной и в наши дни торговле лошадьми между Индией и Аравией, был Марко Поло, считавший это, между прочим, наиболее значительной торговой связью этих стран. В Южной Индии можно продать любую лошадь за 100 марок серебром. Ежегодно ввозят 5 тыс. голов, из коих через год остается в живых едва 300. Причиной этого, по мнению этого венецианца, является то, «что климат этой страны неблагоприятен для лошадей, поэтому-то их не разводят в самой стране и их так трудно сохранить. В качестве корма они дают им мясо, которое варят с рисом. Крупная кобылица, покрытая прекрасным жеребцом, приносит всего лишь маленького, уродливо сложенного жеребенка с вывернутыми ногами, непригодного для верховой езды»[3221].
Согласно доисторическим обычаям в отдельных местах Северной Африки, как Сиджилмаса (Тафилелт[3222]), все еще продолжали откармливать на убой собак.
Египет издавна славился искусственным разведением кур и главным образом своими замысловатыми инкубаторами. Техника разведения кур, кажется, так никогда и не распространилась на соседние провинции, во всяком случае еще в 1200 г. н.э. ее подробно описывает багдадский врач ‘Абд ал-Латиф как одну из многих особенностей Египта[3223].
Голубей держали в голубятнях, чтобы уберечь их от змей и прочих хищников[3224], главным образом из-за их драгоценного помета, идущего на удобрение; в пищу их не употребляли.
Что же касается продукции рыболовства, то замечу только, что в Тивериадском озере ловилась рыба бунн, которую через Васит пересадили туда из Тигра[3225].
Из числа трех основных потребностей человеческого тела — пищи, одежды и жилья — для жителей Переднего Востока самым важным являлась одежда. Искусство одеваться достигло высшего совершенства, а почти все внутреннее убранство сводилось к бесчисленным цветным занавесям. Вести роскошный образ жизни означало здесь прежде всего хорошо одеваться, а жить в уюте — иметь на стенах и на полу красивые ковры. В жизнеописании аскета ат-Туси (ум. 344/955) особо отмечается: «У него совсем не было ковров»[3226]. Таким образом, ковроткацкое производство было распространено повсюду и считалось самым важным ремеслом. Отдельные типы ковров являлись прямо-таки составной частью национального убранства, ибо совершавший путешествие по империи мог по обстановке комнаты определить, в какой провинции он находится. В то время ковры подразделялись на три основных типа: 1) ковры на стену (ситр), 2) ковры для пола (бусат) и дорожки (нахх) и 3) ковры, которые не были предназначены, чтобы по ним ходить (намат)[3227]. К этому присоединялись еще и более мелкие разновидности: молитвенные коврики, стеганые одеяла, подушки под спину, под голову и прочие подушки[3228].
Несмотря на то что в Верхнем Египте уже давно возделывался хлопок[3229], в IV/X в. он не выступает как египетский продукт, и создается впечатление, что в теперешней стране лучшего хлопка он в то время не играл никакой роли[3230].
Текстильной специальностью Египта был лен, произраставший главным образом в Файюме[3231] и даже вывозившийся в Персию[3232]. Мумии запеленывались исключительно в полотно. Техника обработки волокна была настолько направлена на производство тончайшего полотна, что даже немногие шерстяные товары производились аналогичным способом: Таха в Верхнем Египте славилась своими тонкими шерстяными тканями[3233]. Центрами производства полотна в Египте были Файюм и «озеро Тинниса» в устье Нила с населенными пунктами Тиннис, Дамиетта, Шата и Дабик. Раньше именно последний был главным местом: производства этого полотна, так как самая прославленная ткань называлась по нему «дабикской», но в IV/X в. важнейшими центрами полотняной промышленности стали Тиннис и Дамиетта. Специфически египетской особенностью было производство некрашеного белого полотна. «Египетские ткани белы, как пленка вокруг содержимого яйца, йеменские — как весенние цветы»,— говорили в эпоху Омейядов[3234]. Эти ткани ценились на вес серебра[3235]. Они были настолько плотно сотканы, что это давало возможность громкий crepitus ventris сравнивать с шумом, возникающим при их разрывании[3236]; их использовали как материал для географических карт[3237]. Стоимость куска этого полотна доходила до 100 динаров, но так как в нем часто имелись еще и золотые нити, то иногда он обходился вдвое дороже[3238]. Роскошные изделия ткачей из Тинниса, так называемые бадана, вырабатывавшиеся для халифа, сразу же ткали в форме облачения, так что их не нужно было ни кроить, ни шить. В них содержалось всего лишь 2 унции льняной нити, все остальное было золото; стоили они 1000 динаров[3239]. Дорогие завесы из Файюма длиной 300 локтей стоили 30 динаров пара[3240].
В IV/X в. мода запретила мужчине появляться в крашеной, пестрой одежде, и поэтому дабикские одежды повсюду упоминаются на первом месте[3241]. В одну только Вавилонию Тиннис вывозил вплоть до 360/971 г. тканей на сумму от 20 до 30 тыс. динаров в год[3242]. Затем Египет перешел под власть Фатимидов, и вывоз был запрещен[3243], но зато в самой стране появилось пристрастие к длинным (сто локтей!) дабикским тюрбанам, длившееся с 365 по 385 г. (976—995)[3244]. Наряду с этими тканями существовала еще и редкая льняная ткань, «ажурная, как сито»[3245], называвшаяся касаб. Ее тоже красили, причем весь крашеный касаб поступал из Тинниса, а белый — из Дамиетты[3246]. Из него изготовляли повязки на голову, но главным образом накидки и покрывала для женщин[3247]. А в V/XI в. появилось новое модное изделие — абу каламун — переливающаяся разными цветами материя, которая изготовлялась в одном Тиннисе[3248].
По своему типу промышленность в дельте Нила была кустарной: женщины пряли, а мужчины ткали полотно. Торговцы тканями выплачивали им поденную заработную плату, а продавать они имели право только назначенным правительством посредникам. В начале III/IX в. ткач получал полдирхема в день, так что «ему не хватало на хлеб насущный»,— так, по крайней мере, жаловались местные жители проезжавшему патриарху Дионисию из Телльмахры[3249]. Из-за всевозможных поборов товары дико дорожали[3250].
На Востоке, в Фарсе, также был район производства полотна, главным городом которого был Казерун, называвшийся «Дамиеттой Фарса»[3251]. Там тоже различали египетские сорта ткани, дабикский, шерб и касаб — признак того, что оба эти производства были взаимно зависимы. А так как ал-Мукаддаси[3252] сообщает, что раньше лен ввозился из Египта в персидский прибрежный город Синиз, славившийся своим льняным касабом, в то время как теперь для этого чаще пользуются местным[3253], то это доказывает, что полотняное производство было пересажено туда из Египта и при этом — морским путем. Сначала оно было сконцентрировано на побережье: в Синизе, Дженнабе и Таввадже; лишь позднее, когда производство обрело независимость от египетского сырья, оно проникло в глубь страны. Так, например, лучший сорт персидского полотна еще назывался «тавваджским», в то время как он уже по большей части изготовлялся в Казеруне[3254].
Ибн ал-Балхи, составивший ок. 500/1106 г. свое описание Персии, следующим образом излагает процесс изготовления тавваджского полотна в Казеруне: лен мочили в прудах, затем трепали и пряли из него нить. Эту льняную нить отмывали в воде канала Рахбан; несмотря на то что воды в этом канале мало, она имеет свойство отбеливать льняную нить, в то время как в другой воде нить никогда не становится белой. Этот канал Рахбан является собственностью шахской казны, и доход с него принадлежит эмиру, так как казна разрешает пользоваться им только ткачам, которые ткут материал по ее заказу. Инспектор от казначейства осуществляет надзор, а посредники устанавливают настоящую цену ткани, опечатывая кипы, прежде чем их вручат чужеземным купцам. Последние полагались на маклеров и покупали эти необшитые кипы в том виде, как они перед ними лежали, и в каждом городе, куда эти кипы доставляли, интересовались исключительно лишь сертификатом казерунского маклера и продавали кипы, не вскрывая. Таким образом, нередко случалось, что партия казерунских кип свыше десятка раз переходила из рук в руки, причем кипы так и не распечатывались. Но теперь, в эти последние дни <т.е. во времена Ибн Балхи>, появился обман, люди стали нечестными и пропало всякое доверие, ибо товары с печатью казны зачастую оказывались низкосортными, и поэтому чужестранные купцы стали избегать казерунских изделий[3255].
За этим лишь исключением хлопчатобумажная ткань была для Востока тем же, чем для Запада полотно[3256]. Даже и касаб Казеруна порой изготовляли из хлопка. Хлопок пришел из Индии прямо на север, еще задолго до того, пока он распространился на запад и на восток. В Китае в XIII в. н.э. он был еще очень мало известен. Путевые записки Чан-чуня (1221 г. н.э.) говорят о нем в долине р. Или: там имеется сорт материи, именуемый тулума. Люди говорят, что соткана она из растительной шерсти. Эта шерсть похожа на пушок нашей ивы — очень чистая, тонкая и мягкая. Из нее делают нити, веревки, материю и стеганые одеяла[3257].
Еще в IV/X в. знаменитые хлопчатобумажные ткани (сабаниййат) шли из Кабула в Китай и Хорасан[3258]. В Вавилонии хлопок не выращивали. Ввозили его туда из Северной Персии — надо сказать, что еще и сегодня одна только Трансоксания ежегодно производит хлопка на 400 млн. марок,— из Месопотамии[3259], причем в Месопотамии эта культура распространилась из-за враждебной крестьянам плантаторской политики Хамданидов[3260]. В IV/X в. хлопок переселился также и в Северную Африку[3261] и Испанию[3262]. Все основные центры производства хлопчатобумажных тканей были расположены на востоке Персии: Мерв, Нишапур и Вам (восточный Керман). Спецификой последнего были покрывала с вытканными гирляндами стоимостью около 30 динаров за штуку, которые расходились вплоть до Египта[3263]. Напротив, тканью, изготовлявшейся в Мерве, была мягкая фланель[3264], слишком толстая для одежды. Поэтому ал-Мутанабби называет ее одеждой для обезьян[3265], а Абу-л-Касим издевается по ее адресу — «грубо сотканная, суровая мервская материя домашней работы, как повернешься, так и вылетит ветер»[3266]. Зато она ценилась как материал для повязок на голову[3267]. Даже и Туркестанская область хлопководства поставляла ткани в Вавилонию[3268], тогда как в Трансоксании самым редким материалом было полотно. Саманид Исма’ил подарил каждому офицеру в качестве драгоценного подарка по платью из полотна[3269].
Шелкоткацкая промышленность в противоположность хлопчатобумажной распространялась с запада, из Византии,— на восток. Традиция этого существовала еще и в рассматриваемое нами время[3270]. Все еще продолжался ввоз греческого атласа, больше того, это был самый важный предмет ввоза, поступавший через Трапезунд[3271]. В IV/X в. этот атлас все еще считался самым красивым[3272]. Большинство шелкоткацких предприятий в это время еще было сосредоточено в провинции Хузистан, где Сасаниды насадили это ремесло, заимствованное из Византийской империи. Вырабатывали камку, атлас, плюш и материалы из шелка-сырца. Напротив, шелкомотальное производство было на севере, на бывшем китайском тракте. Там, в Мерве и особенно в Табаристане, в горной стране южнее Каспийского моря, мотали крепкую абришимовую нить, которую вывозили во все стороны[3273] и из которой в расположенной по соседству Армении изготовляли прославленные пояса для штанов, стоившие 1-10 динаров[3274]. Тяжелые шелковые ткани (сийаб харир), которые вывозил Табаристан, указывают на прямое родство их с Китаем, ибо персидская шелковая промышленность предпочитала более легкие ткани.
Что же касается шерстяных ковров, то прежде всего различали персидские, армянские и бухарские. В Фарсе ткали подлинно «художественные ковры» (ал-бусут ас-сани‘а), причем самыми лучшими считались ковры, изготовленные с применением техники сусанджирд[3275]. Однако в ту эпоху выше всего ценили армянские ковры, т.е. малоазиатские, предшественники наших ковров из Смирны[3276]. Уже в доме омейядского халифа ал-Валида II пол и стены были покрыты армянскими коврами[3277]. Супруга ар-Рашида восседала на армянском ковре, а ее женщины — на армянских подушках[3278]. У одного ювелира, который около 300/912 г. был самым богатым человеком в Багдаде, превозносят лишь одни армянские и табаристанские ковры[3279], то же самое и в сокровищнице матери ал-Муктадира[3280]. Некий вассал подарил халифу ал-Муктадиру, между прочим, семь армянских ковров[3281]. Из персидских ковров также больше всего ценились те, что не уступали армянской работе[3282], хвалили лучшие персидские ковры и из области Исфагана за то, что они более всех остальных приближаются к роскошным армянским; правда, и сами по себе они также вполне удовлетворительны[3283]. Еще Марко Поло[3284] заметил: «В Армении ткут самые лучшие и самые красивые ковры». Вероятнее всего, причиной этой высокой оценки была армянская шерсть, которую ас-Са‘алиби ставит на первое место после египетской[3285], но в первую очередь это был знаменитый армянский красный цвет. «Красный — это цвет женщин, детей и радости. Красный цвет — самый лучший для глаз, так как от него расширяется зрачок, в то время как от черного он сужается»,— поучает ал-Мас‘уди в 332/943 г.[3286] На складе ковров в Каире чаще всего расхваливали красные ковры[3287], а о «малиновых коврах» египетского города Асьюта сказано: «Они похожи на армянские»[3288].
Покрывала, называвшиеся танафис, уже одним названием выдают свое греческое происхождение (tapetes). Вероятно, в Вавилонии раньше их ткали главным образом в христианском пограничном городе Хире, потому что позднее изделия ан-Ну‘маниййи все еще называли «хирские ковры»[3289]. Узоры на них продолжали оставаться теми же: чашечки цветов, слоны, лошади, верблюды, львы и птицы[3290].
По всей мусульманской империи маты плели из альфы (халфа), причем больше всего славились циновки из ‘Аббадана, небольшого острова, расположенного в устье Шатт ал-‘Араба[3291]. Их подделывали в Фарсе[3292], а также и в Египте[3293].
Местности, славившиеся своими товарами, снабжали их вытканной фабричной маркой — «производство (‘амал) такой-то местности», причем, естественно, что без мошенничества дело здесь не обходилось. Так, например, совершенно неизвестные местечки проставляли на своих занавесях хорошо себя зарекомендовавшие названия Басинна, а на ткани для одежды из Хузистана ставили штамп Багдада[3294].
В персидской провинции Сабур, как во французской Ривьере, процветала особая отрасль промышленности — парфюмерное производство. Там изготовляли десять сортов масел из фиалок, лотоса, нарциссов, карликовой пальмы, лилий, белого жасмина, мирты, майорана и померанцевой корки[3295]. Пробовали заняться этой прибыльной отраслью также и в Вавилонии: Куфа прибавила еще гвоздичное масло, а в производстве фиалкового масла даже превзошла персов[3296]. Сходное производство, но резко отличавшееся от первого, имело свой центр в расположенном на юге городе Джур. Там приготовляли ароматную воду, однако из совершенно других цветов: из розы, цветов пальмы, божьего дерева (кайсум), сафлора и вайды[3297]. Оттуда розовая вода вывозилась, по всему свету, «в Магриб, Испанию, Йемен, Индию и Китай»[3298]. Эти важные отрасли промышленности, о которых ничего не сообщают античные источники, возникли, должно быть, в эпоху ислама.
В это время среди жителей деревни и города больше уже не слышно о надоедливой повинности тяжкого помола зерна на ручных мельницах: на реках стояли плавучие мельницы[3299], на ручьях постукивали водяные мельницы[3300]. Одна только «чертова река» Джируфта в Кермане <т.е. р. Халил-руд.— Д. Б.> приводила в движение 50 мельниц[3301], а в Басре даже взялись за разрешение одной из наиболее современных проблем гидравлики: в устьях каналов, почти целиком питавшихся водой за счет прилива, были выстроены мельницы, вращаемые отступающей во время отлива водой[3302]. Только там, где не было воды, зерно, мололи при помощи скота[3303]. Жители марокканского города Иджли испытывали священную робость перед закабалением воды: «У них еще до сих пор нет ни на одном ручье мельниц, и когда их спрашивают, что их от этого удерживает, они отвечают: Как можем мы заставить пресную воду вращать мельницы?»[3304]. Большие плавучие мельницы Вавилонии стояли на Тигре, а не на Евфрате, а именно в Текрите, Хадисе, ‘Укбара, Барадане и Багдаде, к этому надо еще добавить прославленные мельницы в Мосуле и Беледе. Последняя работала сезонно, только в те дни, когда в Вавилонию водным путем поступал очередной урожай зерна. Что же касается мельниц Мосула, то о них мы имеем более подробные описания: состояли они только из дерева и железа и были подвешены на железных цепях посредине протока. Каждая мельница (‘арба) имела по два жернова, каждый из которых ежедневно перемалывал по 50 верблюжьих вьюков зерна[3305]. Самая крупная мельница Багдада — мельница Патрикия — имела 100 жерноставов и, как говорят, ежегодно давала 100 млн. дирхемов дохода[3306].
О лесопильнях нигде не упоминается.
Передают, что еще убийца халифа ‘Омара I, перс родом из Нихавенда, вызвался построить мельницу, которую будет вращать ветер[3307]. Однако в IV/X в. еще только Афганистан пользовался для ветряных, мельниц своими сильными и чрезвычайно упорными ветрами, как, например, бад-и сад-у-бист руз, который называется так потому, что дует 120 дней подряд[3308]. Эти ветры держатся еще и теперь: «Северный ветер начинает дуть около середины июня и держится два месяца. Ветряные мельницы построены исключительно в расчете на него. Они имеют восемь крыльев и стоят позади двух устоев, между которыми ветер прорывается как клин. Крылья установлены вертикально на отвесно же установленном столбе, нижний конец которого приводит во вращение жернов, расположенный над другим жерновом»[3309]. Мы видим, таким образом, настоящую ветряную турбину! Сведения, приводимые ал-Гузули (ум. 815/1412), говорят о том, что их можно было регулировать подобно нашим водяным турбинам, открывая и прикрывая отверстия. «В Афганистане все мельницы и водочерпальные колеса приводятся в движение северным ветром и поэтому ориентированы только по нему. Этот ветер дует там постоянно, летом и зимой, однако сильнее и упорнее летом. Иногда он прекращается один или два-три раза на дню или в ночи, и тогда в этой местности стоят все мельницы и все водочерпальные колеса. Затем он опять дует и они тоже приходят в движение. На мельницах у них устроены люки (манафис), которые открываются и закрываются, чтобы ветра попадало то больше, то меньше. Потому что, когда он дует слишком сильно, мука горит и выходит черной, порой даже жернов раскаляется и разваливается на куски»[3310].
В области производства бумаги III и IV века хиджры также произвели великий переворот, освободивший писчее дело от монополии одной страны и существенно его удешевивший. Пока писали на папирусе — существовала зависимость от Египта[3311], теперь же «китайская бумага, изготовлявшаяся только в Китае и Самарканде, вытеснила из употребления египетский папирус и пергамент, на которых писали предки»[3312]. В конце III/IX в. ал-Йа‘куби говорит лишь о двух небольших городах Нижнего Египта, еще занятых выработкой папируса[3313]. Даже сицилийский папирус теперь в очень ничтожном количестве перерабатывался в писчий материал для правительства, большей же частью из него вили корабельные канаты[3314], как еще в эпоху Гомера[3315]. «Можно принять с большой долей вероятности, что приблизительно к середине X в. н.э. переработка в Египте папируса в материал для письма полностью заглохла. С 323/935 г. совершенно прекращаются датированные папирусы, в то время как в 300/912 г. появляются датированные документы на бумаге»[3316]. В то время лучшей бумагой в империи была заимствованная из Китая бумага кагиз, которая, однако, в руках мусульман подверглась изменению, имевшему всемирно-историческое значение. Они уничтожили зависимость бумаги от тутового дерева и бамбукового тростника, изобретя бумагу из тряпья[3317]. В III/IX в. бумагу производили в одном только Мавераннахре[3318], однако в IV/X в. бумажные фабрики имелись в Дамаске, в палестинской Тивериаде[3319] и в Сирийском Триполи[3320]. Но Самарканд все еще был основным центром производства бумаги. Ал-Хваризми в шутку извиняет одного друга тем, что тот, мол, не пишет писем, потому что живет очень далеко от Самарканда, и поэтому бумага (кагиз) слишком дорога для него[3321]. Около этого же времени библиотекарь библиотеки правителя Шираза повсюду собирает самую лучшую бумагу: «самаркандскую и китайскую»[3322].
Изготовление точных астрономических и математических приборов в Харране, этом последнем пристанище древнего звездного культа, было связано со своеобразным религиозным положением города[3323], точность харранских весов вошла в поговорку[3324]. А в городе паломничества, Иерусалиме, уже тогда вовсю шла процветающая и ныне торговля четками[3325].
Передний Восток, насколько мы его знаем, был весьма далек от обусловленного силами природы разделения труда, когда мужчина производит товар, а женщина его сбывает. Только в Египте Геродоту бросилось в глаза, что торговлей там занимаются женщины. О североиранском городе Биййар сообщается: «Базар — в домах, а продавцами — женщины»[3326]. И у татар Марко Поло нашел, что «женщины занимаются всеми торговыми делами»[3327]. Но все воинственные народы, сменявшие друг друга, всегда смотрели на торговлю свысока. ‘Омару I, как наиболее законченному представителю старой мусульманской общины, предание вложило в уста слова, что ни один мусульманин не должен быть торговцем, ибо болтовня на базарах отвлекает от ислама[3328]. Отнюдь не из побуждений религиозного рвения, а лишь потому, что они были рыцари и феодалы, Омейяды с полным безразличием относились к фигуре купца, и в анналах их эпохи купечество не играло никакой роли. Следовательно, и в этом случае в III/IX в. тоже произошел переворот, а в IV/X в. богатый купец превращается в носителя мусульманской культуры, ставшей теперь в материальном отношении крайне требовательной. К концу этого века даже один мелкий правитель с запада Ирана не погнушался приобрести лавку (хан) в принадлежавшем его «коллеге» Хамадане и вести в ней торговлю под своим именем. Он продавал там изысканные товары своих земель и извлекал из этого доход в 1,2 млн. дирхемов. Однако тамошний правитель побоялся, что налоговая мощь его города уплывет таким путем «за границу», велел напасть на управляющего этого предприимчивого князька, выгнал его прочь и забрал себе его деньги[3329]. Значительная часть отваги и энергии той эпохи удалилась на базары и в конторы, там же жила и добрая порция поэзии с ее романтическими возможностями и побуждениями. А так как почти каждый купец был еще и путешественником, то цены товаров, курс тысячекратных прибылей переплетались с приключениями во всех странах, с широчайшим знанием света и людей. Да, мусульманской торговле IV/X в. была свойственна горделивая осанка! Она стала хозяйкой в своем доме, во все стороны шли ее суда и караваны, она заняла ведущее место в мировой торговле, Багдад и Александрия устанавливали цены (по крайней мере, на предметы роскоши) для человечества того времени. Просто «морскими купцами» назывались еще в III/IX в. провансальские евреи[3330], которые грузились во Франции на суда, захватив с собой евнухов, рабынь и рабов, парчу, шкурки бобров и куниц, а также другие меха и мечи. На верблюдах пересекали они Суэцкий перешеек, затем вновь шли на судах, заходили в порты Медины и Мекки, потом в Персидский залив, а оттуда в Индию и Китай. В качестве обратного груза они везли на Средиземное море мускус, дерево алоэ, корицу и другие восточные пряности и продавали их частью грекам в Константинополе, а частью — в резиденции короля франков. Порой они избирали также и сухопутный маршрут из Антиохии на Евфрат, направляясь затем через Багдад в Персидский залив. Они говорили по-персидски, по-латыни, по-франкски, по-испански и по-славянски[3331]. В IV/X в. эти преемники осевших на берегах Роны сирийских купцов, продолжавшие жить там вплоть до средних веков, уже больше не упоминаются, что вряд ли может быть просто случайностью. Подъем мусульманского торгового судоходства вытеснил чужеземных комиссионеров.
Вторым великим достижением IV в.х. было открытие мусульманскими купцами русского Севера. Правда, связи между Россией и Востоком существовали еще и до этого. Мы располагаем описанием торгового пути «русских», т.е. норманнских, купцов, относящимся к III/IX в.: «Они являются одним из славянских племен и доставляют бобровые шкуры и мех черных лисиц, а также и мечи из самой отдаленной части страны славян к греческому морю, где повелитель греков взимает с них десятину. Порой они спускаются по Дону, реке славян, проходят через Хамлидж, главный город хазар, повелитель которых берет с них десятину, до Каспийского моря и сходят на берег там, где им угодно. Иногда они доставляют свои товары из Джурджана в Багдад на верблюдах, где славяне-евнухи служат им в качестве толмачей. Они заявляют, что они христиане и поэтому платят подушную подать»[3332]. Однако в 309/921 г. халиф завел официальные связи с царем жителей Волги[3333], на следующий год они приняли ислам[3334], и это имело чрезвычайно важное значение, так как отныне мусульманский Северо-Восток впервые был объединен под властью династии умелых правителей, что позволило обезопасить пограничные земли, привело их к расцвету и сулило иноземным купцам гарантированные прибыли. Большинство найденных на севере Европы арабских монет относится к IV/X в. и свыше двух третей их — саманидские[3335]. Начиная с этого периода и на протяжении всей эпохи крестовых походов Россия являлась главным путем, связывавшим Скандинавию и Восток[3336]. Так же как и на Севере, ислам приобрел обширные территории и на Востоке. В 331/943 г. правитель уйгур в Гаочане завязывает дружеские связи с Саманидами в Бухаре, что обеспечивало мусульманским купцам безопасный путь в Китай[3337]. А около 400/1010 г. большие и крайне важные в торговом отношении области Индии были присоединены к «империи ислама». С другой стороны, в IV/X в. на славянском Севере царило большое беспокойство, вызванное особенно продвижением норманнов, которые в 270/883, 297/910 и 300/912 гг. на сей раз будто бы с пятьюстами кораблей по 300 человек в каждом, грабя все на своем пути, спустились вниз по Волге до Каспийского моря и в 358/969 г. разрушили столицу хазар[3338]. Именно поэтому и прекращаются, пожалуй, в это время их миролюбивые визиты в мусульманские страны; одни только персидские купцы, как и прежде[3339], приходили к хазарам, которые отныне стали посредниками в сбыте северных товаров. Единственным предметом вывоза, который производили сами хазары, был рыбий клей; все же остальное — мед, воск, войлок, бобровые шкуры — они получали с севера и передавали дальше[3340]. Основной товар, поставляемый Европой,— рабы — являлся монополией еврейской торговли, однако в 356/965 г. в Прагу, главный невольничий рынок Европы, наезжали «из страны тюрков мусульмане, евреи и тюрки с товарами и византийскими золотыми монетами и вывозили оттуда рабов, олово и шкуры бобров»[3341]. Этому подъему торговли соответствовал и расцвет мусульманских колоний, чаще управлявшихся собственными властями, как у хазаров в Сарире, у аланов в Гане и Куге (Африка), а также и в Саймуре (Индия)[3342]. Так же обстояло дело и в Китае[3343]. Мусульманские купцы обосновались даже в Корее[3344]. Напротив, в Византии восточные купцы могли задерживаться не более трех месяцев[3345]; наиболее важной их колонией в Византийской империи был Трапезунд[3346].
Примерно в середине VI в. н.э. Кузьма Индикоплав рассказывает о том, как греческий и персидский купец спорили перед правителем Цейлона, чей повелитель могущественнее. Победил в конце концов грек, показав прекрасную византийскую золотую монету, имеющую хождение по всему свету, в то время как перс смог представить лишь серебряную монету. Эта история справедлива, поскольку между Византией и империей Сасанидов существовал договор о чеканке монеты, по которому Сасаниды имели право чеканить серебряную монету, а в качестве золотой пользовались римским солидом (solidus)[3347]. Поэтому в бывших греческих провинциях халифата была распространена золотая валюта, в то время как персидские области производили расчеты серебряными дирхемами. Согласно Йахйе ибн Адаму (ум. 203/818), в Вавилонии имел хождение дирхем, в Сирии — динар, в Египте — тоже динар[3348]. В рассматриваемый нами период золотая валюта проникает на Восток, что является верным признаком согласованности в мусульманской торговле. В начале III/IX в. все подарки халифа исчислялись в дирхемах, а в начале IV/X в. золотая валюта вошла в обращение также и в Багдаде и центральное правительство стало вести расчеты в динарах. Решительный шаг вперед в этом направлении был сделан между 260/874 и 303/915 гг.: в бюджете первого года дань, поступившая с Вавилонии, указана еще в серебре[3349], а в бюджете последнего — в золоте[3350]. Весьма любопытно, что вместе с серебряной валютой исчезло и натуральное хозяйство: в 260/874 г. в бюджете Вавилонии еще фигурирует натуральная повинность, а в 303/915 г.— уже нет. Тот факт, что все больше материальных ценностей обретало способность реализации, находит выражение и в одном законе, который вынуждены были издать в 787 г. н.э. старейшины иудеев Вавилонии. Согласно этому закону с того момента не только земельные участки, но и движимая часть наследства должна была отвечать за долги завещателя[3351].
Тем не менее в частной жизни оба вида монет считали еще раздельно: так, например, умерший в 291/904 г. в Багдаде ученый Са‘лаб «оставил после себя 21 тыс. дирхемов, 2 тыс. динаров и лавки у Сирийских ворот стоимостью в 3 тыс. динаров»[3352]. Только подарки, например поэтам, по-старому дают в дирхемах[3353] — пожалуй, чтобы это выглядело не столь похожим на деловую сделку. Впрочем, и нам известны различные ощущения ценности старых и новых видов денег.
Восточные провинции империи, однако, продолжали и на протяжении IV/X в. пользоваться серебряным дирхемом — «в Мавераннахре знают дирхем, динар там неупотребителен»[3354] (или он имел обращение только в крупных городах[3355]), а «в Фарсе вся торговля ведется на дирхемы»[3356].
Появившиеся в то время мелкие владетели, которые или наравне с халифом, или под его властью чеканили монету, заботились о том, чтобы в обращении было великое множество самых разных монет обоих этих видов, и курсовые бюллетени крупных банкиров выглядели довольно любопытно, как это можно предполагать на основании перечня монет у ал-Мукаддаси[3357]. К началу IV/X в. динар стоил приблизительно 14 дирхемов[3358]. Из-за того, что запад, таивший в своих недрах золото, был отделен от востока империи, к концу столетия ценность золота выросла там совершенно невероятно, в то время как ал-Макризи, сильно преувеличивая, сообщает, что в Египте заговорили о дирхемах лишь после обнищания, имевшего место при Саладине, ибо до того, мол, всегда платили только золотом[3359]. В середине IV/X в. Бунд Рукн ад-Даула чеканил динары, состоявшие наполовину, а иногда и целиком из меди. В 420/1029 г. их принимали лишь за треть обычного дирхема[3360]. В 427/1036 г. в Багдаде была предпринята попытка сохранить устойчивость местной валюты торжественным упразднением египетского (магрибинского) динара, причем все документы, в которых он встречался, уже нельзя было предъявить к судебному иску[3361]. С другой стороны, чеканили более легковесные серебряные монеты, так что шло их 25, 40, а однажды даже 150 на один динар[3362]. А в 390/1000 г. взбунтовавшаяся гвардия неистовствовала перед домом везира из-за низкого качества золотой монеты[3363]. Так же как и сегодня, явно фальшивые деньги имели в то время свой определенный, пусть очень скромный курс. Фальшивые дирхемы называли ртутными[3364], например в Мекке, где их шло по 24 на настоящую драхму, а в разгар наплыва паломников, т.е. с 6 зу-л-хиджжа до конца праздника паломничества, они вообще не котировались[3365]. Однако надувать в то время умели и на неподдельных монетах, как это у нас делали обрезчики монет, с той лишь разницей, что монеты не опиливали, ибо они шли на вес, а увеличивали их вес, чего обычно достигали при помощи сурьмы или ртути[3366].
Мелкая разменная монета (фалс) в соответствии с достоинством шла по шестиричной системе: 1 дирхем = 6 даникам = 12 киратам = 24 тассуджам = 48 хабба (ячменное зерно). Однако для мелких расчетов вынуждены были употреблять и разрезанные на куски серебряные монеты, несмотря на то что против этого постоянно и энергично возражали[3367].
Крупные финансовые операции уже хотя бы ради безопасности требовали более легких и недоступных разбойникам платежных средств[3368], большинство из которых имело персидские наименования. Один ученый, совершавший путешествие в Испанию, имел при себе кредитное письмо (суфтаджа) и 5 тыс. дирхемов наличными[3369]. Насир-и Хусрау, например, получил от одного знакомого в Асуане открытое кредитное письмо к его поверенному (вакил) в ‘Айзабе такого содержания: «Дай Насиру все, что он у тебя потребует, возьми у него расписку и запиши сумму на мой счет!»[3370]. Вице-король Египта послал своему представителю в Багдад кредитные письма на 30 тыс. динаров, причитавшихся смещенному везиру. Представитель признал эти документы[3371]действительными и представил деньги везиру в отставке[3372]. Своего рода векселем был сакк — первоначально долговое письмо[3373]; богатый человек выдает платежное распоряжение на управляющего его состоянием (сакка ‘ала)[3374]. Ибн Хаукал видел в Аудагуште, в Западном Судане, сакк на 42 тыс. динаров, выданный одним жителем Сиджилмасы на некоего Мухаммада ибн Абу Са‘дуна; документ этот был нотариально заверен[3375]. Бумага эта проделала путь через добрую часть Сахары. В Вавилонии, где банкир играл большую роль, сакк являлся настоящим чеком. Уже в III/IX в. (к этому времени восходит история, разыгравшаяся при Харуне) некий магнат переводил свои сакки на своего банкира[3376]. Около 300/912 г. какой-то знатный человек уплатил сакком одному поэту, однако банкир не акцептовал этот сакк, так что обманутый поэт сочинил стихи, в которых говорил, что он охотно уплатил бы таким путем целый миллион[3377]. Тому же поэту и певцу ал-Джахиза (ум. 324/936) один покровитель выписал во время концерта чек (рук‘а — расписка) на сумму в 500 динаров на имя банкира (сайрафи). Банкир, выплачивая деньги, дал поэту понять, что существует, мол, обычай за каждый выплаченный динар высчитывать один дирхем на издержки, т.е. около 10 процентов. Но если он пожелает провести с ним время после обеда и вечер, он не произведет у него никакого вылета[3378]. А один банкир (джахбаз), еще больший ценитель искусства, не только не произвел никаких вычетов, выплачивая одному поэту деньги, а наоборот, еще подарил ему 10% сверх суммы[3379]. Таким образом, у банкиров в то время было уже много дела, и поэтому нет ничего удивительного, что в Исфагане на базаре банкиров, а они также сидели в одном месте, имелось 200 банков[3380]. В Басре около 400/1009 г. банк стал уже просто необходимостью, ибо каждый купец имел свой счет у банкира и расплачивался на базаре только чеками на него (хатт-и сарраф)[3381]. Это, кажется, было самым важным усовершенствованием денежного обращения в империи[3382], и примечательно здесь то, что возникло оно в портовом городе Басра, пограничном городе между Фарсом и Вавилонией. Ведь басрийцы, персы из Фарса и южные арабы были лучшими купцами среди верующих; всюду, где только можно было что-нибудь раздобыть, они имели свои колонии. В этом деле они были похожи на швабов и швейцарцев нашего времени. «Больше всех охотятся за прибылью басрийцы и химьяриты. Кто попадет в самое отдаленное место Ферганы или на самый западный край Марокко, обязательно встретит там либо басрийца, либо химьярита»,— говорит около 290/902 г. Ибн ал-Факих ал-Хамадани[3383]. Уроженцы этого мирового порта были известны тем, что им была неведома тоска по родине. Передают, что под надписью: «Всякий, попавший в чужие края, каким бы бессердечным он себя ни представлял, вспомнит о родине, когда он болен» — один из них приписал: «За исключением людей из Басры»[3384].
Уже с давних времен персы сидели в Джидде, порту Мекки[3385], а в Сиджилмасе (Южное Марокко) вела торговлю большая колония жителей Вавилонии (из Басры, Куфы и Багдада)[3386]. Жители оживленных сирийских портовых городов — Триполи, Сайды, Бейрута — также были персы, которых переселил туда первый халиф из династии Омейядов[3387]. Хотя Египет и был важной торговой страной[3388], однако истинный египтянин, будь то мусульманин или копт, и в наши дни не отличается особыми купеческими задатками. В IV/X в. египтяне были известны тем, что, как и современные французы, очень редко выезжали за пределы своей страны[3389]. И сегодня греки, левантийцы, персы и даже индийцы снимают там сливки с коммерческих дел. Многолюдная и влиятельная персидская колония существовала и в египетской столице уже в конце II/VIII в., где кади как-то занес в желанный и очень ограниченный список свидетелей сразу же 30 персов[3390]. Самым крупным финансистом, хотя и не крупнейшим купцом страны, был в то время Абу Бакр ал-Мадара’и (400 тыс. динаров дохода), семья которого была родом из Вавилонии[3391].
Главными конкурентами вавилонян и персов были евреи. «Город евреев» <Йахудиййа> в Исфагане был деловым кварталом этой персидской столицы[3392]. Что же касается Тустара, этого главного центра персидского коврового производства, то мы располагаем сведениями, особо подчеркивающими, что крупнейшими торговцами были там евреи[3393]. Один еврей контролировал всю ловлю жемчуга в Персидском заливе[3394]. Кашмир был полностью закрыт для чужеземцев, только несколько иноземных купцов имели право въезда туда, преимущественно евреи[3395]. На Востоке их специальностью были также денежные дела. Когда к концу III/IX в. патриарх Александрии оказался жестоко ограбленным правительством, он раздобыл деньги, продав евреям принадлежащее церкви недвижимое имущество и часть церкви ал-Му‘аллака[3396]. Среди менял египетской столицы было так много евреев, что в связи со случаем непослушания в этой гильдии в 362/973 г. наместник в качестве основной меры дисциплинарного воздействия распорядился, чтобы с того дня ни один еврей не смел показываться на улице без специального отличительного значка для евреев (гийар)[3397]. В V/XI в. Насир-и Хусрау рассказал о богатом каирском еврее Абу Са‘иде, у которого на крыше дома стояло 300 деревьев в серебряных кадках[3398]. Мы располагаем сведениями о двух евреях-банкирах и в Вавилонии — Йусуфе ибн Пинхасе и Харуне ибн ‘Имране, у которых в начале IV/X в. везир сделал заем в сумме 10 тыс. динаров[3399]. Оба они, по всей вероятности, основали фирму, ибо также и смещенный в 306/918 г. везир Ибн ал-Фурат заявил, что он имеет на счету у обоих этих евреев 700 тыс. динаров[3400]. Йусуф был банкиром (джахбаз) Ахваза, т.е. он ссужал правительство деньгами под налоговые суммы, поступающие с Ахваза, сопровождая это обычными в таких случаях жалобами: у него, мол, ничего нет, а он должен так много выкладывать[3401]. Оба этих еврея совместно с третьим, судя по имени, вероятно христианином — Закариййа ибн Йуханна, носили титул придворных банкиров (джахбаз ал-хадра) и имели право на куриал «Аллах да сохранит тебя!», самый низкий по рангу из вообще применявшихся; дозволен он был в отношении, например, шпионов при небольших почтовых конторах[3402]. Евреи, игравшие первые роли в ковровом производстве Тустара, также являлись не фабрикантами, а банкирами (сайарифа)[3403]. Во второй половине IV/X в. один губернатор Багдада, прежде чем скрыться в болотах, получает необходимые ему деньги у евреев столицы[3404]. Поэтому нет ничего удивительного, если в арабском языке мы также встречаем слова из еврейского биржевого жаргона: мубаллит вместо арабского муфаллас — банкрот[3405].
Наряду с вавилонянами, персами и евреями наиболее активным торговым людом в империи были также греки и индийцы. Греки просочились вплоть до самых отдаленных областей; так, во внутреннем Кермане существовала колония греческих купцов даже на складочном пункте Джируфте[3406]. Напротив, армянские купцы нигде не играли роли; в Византии мы видим представителей этого народа прежде всего на высоких военных постах[3407]. Фатимидам они также поставляли солдат и военачальников[3408], и, между прочим, амира ал-джуйуш, который в V/XI в. правил их государством[3409]. Перелом здесь, кажется, произошел со времен тюрков.
Торговцы, как и ремесленники, группировались на базарах по отраслям. Они сидели там и после полудня, ели у трактирщика или заставляли приносить себе в лавку что-нибудь из дому и отправлялись восвояси лишь вечером[3410]. В Вавилонии базарные купцы имели под своей лавкой, расположенной в первом этаже, уборную, устланную матами, со столами, зеркалами, слугами, кувшинами, тазами и содой. Когда оттуда спускались, платили 1 даник[3411]. «Затем мы пришли к трактирщику, жаркое у которого истекало соком, а хлеб едва не таял от соуса[3412]. Тогда я сказал: „Отрежь Абу Зайду от этого жаркого, отвесь к этому порцию того сладкого блюда, возьми один из подносов, накрой его лепешками самого лучшего пшеничного хлеба и полей сверху немного воды суммака“. Мы уселись… Когда мы справились с этим, я обратился к торговцу сладостями[3413]: „Взвесь-ка Абу Зайду два фунта миндального печенья“»… Когда же мы с этим справились, я сказал: „Абу Зайд, теперь нам нужна ледяная вода, чтобы унять этот пожар; ты оставайся и сиди себе спокойно, а я приведу водоноса, который принесет тебе попить“». Обед стоил 20 (вероятно, даников), что соответствовало бы чему-то вроде 2 марок 40 пфеннигов[3414]. Однако уже тогда трактирщик готовил кое-как: «Братство наших дней подобно супу повара на базаре: запах хорош, но без вкуса»[3415].
В Передней Азии и в Египте лавки повсюду стояли вдоль улиц; старое арабское обозначение для этого было сафф (ряд). При закладке Багдада также не было предусмотрено для них никаких базарных площадей, что же касается «квадрата ал-Хайсама», то это было целое чудо[3416]. Отдельные базары, во всяком случае вначале, когда они получили свое название, собирались лишь в определенные дни недели; так, «вторничный базар» в восточной части Багдада, «четверговые» и «понедельничные» базары в Кайраване[3417]. В ал-‘Аскаре (Хузистан) базар бывал по пятницам, и оттуда вплоть до Хан Таука шло шесть городов, каждый из которых -получил название в порядке последовательности тех дней недели, по которым в них бывал базар[3418]. Вероятно, некоторые из таких мест состояли главным образом из рядов постоянных киосков, заполнявшихся лишь в базарные дни, как «Базар среды» в Алжире, впервые описанный князем Пюклером[3419], или большой базар в Бау‘ане (Йемен): «Представьте себе два или три ряда поистине собачьих будок, в них по базарным дням сидят на корточках арабы и торгуются»[3420]/ На востоке, напротив, согласно существовавшему там обычаю лавки были собраны в галереях, как, например, в выстроенной Бундом ‘Адуд ад-Даула в персидском центре льноторговли Казеруне; она ежедневно приносила, правительству 10 тыс. дирхемов[3421]. На таком базаре, когда его хотели сделать красивым, расписывали стены, белили их, базар мостили и накрывали крышей[3422]. На западе же крытые рынки держали только для приезжих купцов, которые внизу выставляли на продажу свои товары, а сами жили в помещениях второго этажа. Свои комнаты они имели возможность запирать «греческими замками». Эти дома назывались фундук (греческ. pandokeion). Имелись там также и складские помещения, подобные «арбузному дому» в Басре, куда доставляли все сорта фруктов[3423].
В мире ислама, как и повсюду, капитал и роскошь были тесно связаны между собой. Так, самыми богатыми были торговцы и промышленники, занимавшиеся сбытом и производством предметов роскоши. Ал-Мукаддаси дает такой совет: «Если ты хочешь выведать о качестве воды в каком-нибудь городе, то пойди к торговцам батистом и пряностями и взгляни на их лица. Чем они оживленнее, тем лучше там питьевая вода. Если же ты увидишь мертвые лица и поникшие головы, то немедленно покинь это место»[3424]. В IV/X в. это были две наиболее знатные купеческие гильдии. В персидском городе Рамхормуз они сидели вместе с торговцами циновками на самом красивом базаре города[3425]. Пословица III/IX в. гласила: «Самая лучшая торговля — это торговля батистом, а самое лучшее ремесло — обработка кораллов»[3426]. А Ибн ал-Мушахид (ум. 324/935) обычно говорил: «Тот, кто читает Коран по Абу ‘Амру, в праве следует аш-Шафи‘и, торгует батистом и знает наизусть стихи Ибн ал-Му‘тазза — истинно изысканный человек»[3427]. Также и ал-Фараби (ум. 339/950) в качестве примеров самого благородного и самого низменного ремесла называет торговлю батистом и издавна презираемое ткацкое дело, торговлю пряностями и ремесло подметальщика улиц[3428]. Богатейшим купцом Египта около 300/912 г. был торговец батистом Сулайман, из наследства которого только лишь казна присвоила себе 100 тыс. динаров[3429]. В Багдаде базары торговцев пряностями, красками, шелком и драгоценными камнями были расположены друг подле друга[3430].
Необычно развито было ссудное дело. Жители городов могли получить внаем не только квартиру, но и утварь. Одна женщина имела 5 тыс. больших медных сосудов для хранения воды, распространенных в Каире, и давала их напрокат за 1 дирхем в месяц[3431]. К свадьбе парикмахерша (машита) приносила с собой и украшения[3432]; на этот случай брали также напрокат ковры[3433].
Акт купли-продажи совершался в соответствии с каноническим правом «по рукам»[3434]; еще и современные юристы не считают акт купли-продажи законным без категорического об этом заявления[3435]. Это довелось мне увидать в сирийской пустыне: в то время когда покупатель и продавец торговались, правая рука одного находилась в правой руке другого, и только когда продавец произнес: би‘ту — «я продал», а покупатель: иштарет — «я купил», они разняли руки, и сделка была завершена. Ибн ал-Му‘тазз (ум. 296/908) не забывает упомянуть эту торговую клятву (йамин ал-бай‘а) в истории купца, продавшего свое добро ростовщикам[3436]. В остальном же в огромной империи, заключавшей в себе самые различные ступени развития культуры, сосуществовали, пожалуй, почти все формы торговли. К сожалению, географы именно этого отрезка времени совершенно этим не интересовались, а юристы были настолько поглощены своими сухими и безжизненными догмами, что мы располагаем в этой области весьма скудным количеством достоверных сведений. Так называемая немая торговля, при которой каждая сторона выкладывала и забирала свои товары в отсутствие другой, практиковалась на границах империи, на Нигере и на краю Хорасана[3437].
В Вавилонии внимание рабби Петахья из Регенсбурга привлекло следующее: «Мусульмане [люди] очень надежные. Когда туда прибывает купец, он оставляет свой товар в доме какого-нибудь [мусульманина], а сам уезжает обратно, и они выносят товар для продажи на базары. Если дают условленную цену, тогда все хорошо, если же нет, то они показывают товар всем оценщикам. И если видят, что цену дают низкую, то и сбывают его по пониженной цене. И все это совершается с великой добросовестностью»[3438].
Мусульманское право с самого начала совершенно особо подчеркивало запрет взимания процентов, а также спекуляции средствами питания. Большая часть юридических сил была занята тем, чтобы закрыть все, даже самые мельчайшие лазейки пытающимся обойти эти определения. И тут пришли на помощь иудеи и христиане. Чтобы получить заем в 10 тыс. динаров, везир должен был выплатить Иосифу беи Пинхасу и Аарону бен Амрану 30 процентов. А христианам изданный около 800 г. н.э. их свод законов разрешал давать ссуды своим собратьям с взиманием до 20% годовых[3439]. Особенно выгодным ростовщическим предприятием было ссужение деньгами жертв казны в случаях конфискации и вымогательств; на этом можно было заработать до 1000%[3440]. Впрочем, мусульманское общество IV-V вв. также было очень далеко от преклонения перед величием закона. Уже около 200/815 г. два финансиста развили бешеную спекуляцию вокруг урожая Вавилонии, рассчитывая заработать почти 12 млн. дирхемов, но так как в последний момент произошло резкое падение цен, они потеряли 66 млн.[3441] Кроме того, само своеобразие условий ведения сельского хозяйства требовало в большей или меньшей степени спекулятивных сделок на урожай, обмолот, сбор фиников, хотя ученые юристы самым бессмысленным образом разрешали это только под залог продавца[3442]. Согласно Ванслебу, в Египте 1664 г. высмеивали законы против спекуляции точно так же, как у нас: берущему взаймы навязывали низкокачественные товары по непомерно высоким ценам[3443].
С точки зрения техники путей сообщения основное различие между империей халифов и средневековой Европой составляло малое количество водных путей в халифате. Ал-Мукаддаси[3444] во всей огромной империи смог насчитать лишь 12 судоходных рек: Тигр, Евфрат, Нил, Амударья, Сырдарья, Сайхан, Джайхан, Барадан, Инд, Аракс, Нахр ал-Малик и реку Ахваза[3445]. Из числа этих рек ни три малоазиатские (Сайхан, Джайхан, Барадан), ни две кавказские (Нахр ал-Малик и Аракс), ни пограничная индийская река[3446], строго говоря, не могут быть причислены к области ислама, так что, кроме Нила, только страна Двуречья (Месопотамия) с примыкающим к ней Хузистаном и затем область дальнего северо-востока империи образуют систему внутреннего судоходства. И из всей этой системы опять-таки Северная Месопотамия имеет весьма сложные условия судоходства, во всяком случае на обоих ее главных водных путях. «В Фергане Сыр (Яксарт) не может нести даже и рыбачьего челна»,— говорит один из лучших исследователей этой страны[3447]. Уровень стояния воды и русла Амударьи и Сырдарьи постоянно изменяется — и так резко, что русское пароходство на Сырдарье было ликвидировано, а на Амударье с величайшим трудом еще держится. «Ни одно судно, даже самое легкое, не в состоянии преодолеть стремнины близ Калифа (средняя часть течения Амударьи) в период высокой воды»[3448]. Из-за беспорядочного течения и многочисленных песчаных отмелей ни один из городов на обоих берегах реки не был построен так, как Багдад или Васит, за исключением этого самого Калифа[3449]. На протоках же и магистральных каналах повсюду было судоходство[3450]. Там совсем нет озер, пригодных для более далеких путешествий, несмотря на то что самое большое, Урмийское, приблизительно в десять раз, а Мертвое море — вдвое больше Боденского озера. Таким образом, Сирия, Аравия и вся Персия вдвинуты между теми водными системами как огромные, лишенные судоходства просторы. В средние века об этом говорилось так же мало, как и сегодня. Напротив, условия водного транспорта Вавилонии были несравненно благоприятнее, благодаря тому что Евфрат лежит несколько выше, чем Тигр, так что по отведенным от него каналам суда легко спускаются на восток, а подъем их на запад не так уж затруднителен. Это обстоятельство энергично использовалось также и в IV/X в. Большое количество самых разнообразных судов (небольшой перечень их дает Абу-л-Касим)[3451], к тому же в IV/Х в. еще таййары и хадиди (мн.ч. хадидиййат), которые, например, ожидают у дверей правителя Вавилонии[3452], бороздили реки и каналы Ирака, а галдеж, подымаемый лодочниками, наряду со скрежетом водоподъемных сооружений являлся наиболее характерным для местной культуры звуком. «Плыть на таййаре по Тигру и внимать крикам корабельщиков милее мне, чем власть над всей Сирией»,— говорил в 20-х годах военачальник Ибн Ра’ик[3453], и за эту тоску по родине заплатил жизнью. Евфрат, судоходный от Самосаты, служил грузовому сообщению между Сирией и Багдадом, что же касается пассажирского сообщения, то жители с пренебрежением относились к путешествию по каналам. Один знатный муж совершал путешествие из Дамаска через Джиср Манбидж на Евфрате в столицу, причем его встречали в ар-Рахабе, затем в Хите и, наконец, в Анбаре — там обычно пересаживались на лошадей[3454]. Согласно этому указанию для более быстрого передвижения Анбар играл в то время роль нынешней Феллуджи, вблизи которой он лежал,— там, как и сегодня, проходил понтонный мост через Евфрат[3455]; расстояние от Багдада — 12 фарсахов[3456]. В этом месте брал начало и канал, ведущий от Евфрата к Багдаду[3457]. Впрочем, течение Евфрата и в верхней его части было тогда иным: не только Хадиса, но также ‘Ана и Алуса лежали в ту пору на островах[3458].
Массовым товаром, перебрасываемым водным путем по Евфрату, был строительный лес с гор Армении и оливковое масло из Сирии, которые спускали вниз по течению плотами; затем гранаты, которые проплывали через страну на могучих каркурах, названных так еще Геродотом и Ливием, средиземноморских судах, в ширину достигавших 16-20 локтей[3459]. Самая густая сеть каналов была под Басрой, о которой старые историки рассказывают, что там было 120 тыс. судоходных каналов. Ибн Хаукалу это показалось преувеличением, однако, когда он увидал там множество ручьев в пределах полета стрелы, по которым плыли суда, он вынужден был признать это показание возможным. Начиная от города на протяжении двух дней пути непрерывно тянулись к морю каналы, по берегам которых лежали пальмовые рощи с виллами и увеселительными парками. В большинстве этих каналов вода была уже соленая, а во время отлива большая часть каналов Басры оставалась совсем без воды[3460].
На Тигре также усердно развивалось судоходство; через Мосул шли товары из Армении, а кроме того, Мосул снабжал Багдад овощами и фруктами, произведенными его умеренным климатом[3461]. Даже паломники с Севера прибывали водным путем; в 348/959 г. их утонула тысяча, когда они спускались в десяти больших челнах (заурак) от Мосула[3462]. Сам Багдад был похож на Венецию: «Люди в Багдаде прибывают, уезжают и переправляются на лодках; две трети имущества Багдада лежат на реке»[3463], грузовые суда могли причаливать ко многим базарам, и на каждом шагу узкие улицы города взбегали по перекинутым над водой высоким каменным аркам. К началу IV/X в. там насчитывалось 30 тыс. лодок для перевозки пассажиров и городских грузов, а цех перевозчиков должен был ежедневно выплачивать налог с 90 тыс. дирхемов дохода. Как по своему наименованию, так и по форме эти общественные перевозочные средства не были современными круглыми гуффа, а назывались сумайриййат — «сумерские лодки»[3464]. Указанная выше сумма, кажется, правильна, ибо даже и в наше время перевозчик (куффаджи) нередко ежедневно зарабатывает один меджиди (4-5 дирхемов)[3465]; уже один только двор расходовал на содержание своих матросов 500 динаров в месяц[3466]. Наряду с правительственными судами по рекам и каналам сновало множество частных лодок; каждый зажиточный багдадец должен был держать в стойле своего осла и свой таййар на реке. Общение между представителями большого света чаще всего происходило на реке. Около 200/815 г. халиф ал-Амин велел построить специально для увеселительных прогулок шесть «брандеров» (харракат) в виде льва, слона, орла, коня, дельфина и змеи[3467]. В 333/944 г. правительственный таййар халифа назывался «газель»[3468]. В гондоле же в 329/941 г. было доставлено к месту погребения тело халифа ар-Ради[3469]. После подавления крупного восстания дейлемитов в 345/956 г. Му‘изз ад-Даула проплыл по городу в своей лодке, вслед за которой плыли пленные предводители, а народ, стоя на берегу, благословлял его и проклинал пленников[3470]. В 364/974 г. эмир ‘Адуд ад-Даула и халиф встретились в Багдаде на реке: «Все, кто только мог, присутствовали при этом на лодках и гондолах, и по судам можно было перейти с одного берега на другой»[3471]. Когда в 377/987 г. эмир Шараф ад-Даула направлялся к халифу на коронацию, на берегах Тигра были разбиты палатки, а дома по обоим берегам реки были великолепно разукрашены[3472].
В целях обеспечения сквозного судоходства плавучие мосты Багдада имели на восточной стороне по два подвижных понтона (занбариййат), которые можно было оттягивать в сторону[3473]. А понтонный мост в Васите имел даже места для пропуска судов с обоих концов[3474]. Для подъема судов вверх по течению на Тигре пользовались весьма своеобразным методом: длинный буксирный канат закрепляли на берегу в какой-нибудь точке вверх по течению, бурлаки находились на самом судне, и через плечо у них была надета лямка, прикрепленная к главному канату[3475],— точно такая, которой, как мы видим на ассирийских изображениях, пользовались для перемещения тяжелых грузов по земле. Передние всякий раз переходили тянуть назад, и так продолжалось до тех пор, пока весь буксирный канат не лежал красивыми кольцами на палубе судна. Само собой разумеется, что работа эта не обходилась без непрерывного пения, сопровождавшего труд. Между Самаррой и Багдадом, близ городка ‘Алс, имелось одно труднопроходимое место, называвшееся ал-Абваб — «ворота», где река стремительно неслась по теснине между скалами. В этом месте суда должны были бросить якорь и нанимать лоцмана (хади), который не выпускал из рук штурвала до тех пор, пока судно не проходило эту теснину[3476]. Однако самое серьезное препятствие, из-за которого судоходство на Тигре страдало на протяжении всей арабской эпохи, встречалось на юге Вавилонии. Между Васитом и Басрой груз приходилось переваливать на небольшие лодки, так как в этом месте Тигр распадался на рукава и вступал в район болот (бата’их). Здесь шли только отдельные протоки, по которым лодки «проскальзывали как бы по узким улочкам, пробитым в зарослях камыша, по временам опять попадались полосы чистой воды». Вдоль этих камышовых улочек были построены хижины на матах из камыша на пять человек каждая, которые должны были обеспечивать безопасность плавания по этому романтическому водному царству. Эти сторожевые будки представляли нечто вроде цилиндрических ульев, лишенных окон, ибо только в них их обитатели находили защиту от ужасных мучений, причиняемых комарами[3477].
Несмотря на постоянную охрану, ниже Багдада Вавилония на протяжении всего столетия непрерывно подвергалась угрозе нападения. Чаще всего это были разбойничьи набеги курдов. Так, в 328/940 г. на охоте под Васитом курдами-разбойниками был убит даже сам эмир Беджкем[3478]. Фразу «нападение курдов на паломников» ал-Хваризми употребляет совсем как пословицу[3479]. В поздние годы IV/X в. особенно часто упоминается имя курдского вождя Ибн Мардана, который подстерегал суда, невзирая на то что они чаще всего собирались в целые караваны (кар), и захватывал богатую добычу[3480].
Другим знаменитым главарем шайки разбойников IV/X в. был Ибн Хамдун, действовавший между Багдадом и Васитом. Этот романтик типа Ринальдо Ринальдини, поступая по-рыцарски великодушно с бедняками, обирал только богатых[3481], а его роскошный образ жизни вошел в пословицу[3482]. Король разбойников в болотах ‘Имран ибн Шахун приобрел даже политическое значение. Он требовал от правительственных чиновников оплаты выставленного им конвоя, разбил ал-Мухаллаби —- везира могущественного правителя Му‘изз ад-Даула, и последнему ничего больше не оставалось, как провозгласить его в 339/950 г. своим наместником болот[3483].
Однажды пираты, чтобы захватить одну важную персону, напали даже на весьма высокопоставленное общество, спускавшееся вниз по течению. В этой компании были везир и оба предводителя Алидов — ар-Ради и ал-Муртада. Нападавшие на так называемых брандерах (харракат) разбойники кричали: «Давай сюда мужа распутницы!» — что предоставило возможность плывшему с ними секретарю халифа изречь такую остроту: «Они, кажется, шпионили за нами, иначе откуда бы им знать, что наши жены распутницы?»[3484].
Еще больше ущерба причиняли торговому судоходству внутри страны официальные разбойники с большой дороги, и в первую голову Хамданиды в Алеппо, которые наряду со своим «рыцарством» прежде всего отличались невероятно безрассудной налоговой политикой. Самый прославленный правитель этой династии Сайф ад-Даула совершенно разорил главный внутренний порт Сирии Балис, расположенный на излучине Евфрата, установив высокие транзитные пошлины. Сообщают, что на протяжении немногих месяцев он выжал из купцов, державших там грузовые суда, полные зерна, и плоты, груженные оливковым маслом, около 1 млн. динаров[3485]. В Вавилонии дело также не обходилось без внутренних пошлин. Около 300/912 г. между Багдадом и Басрой правительство взимало пошлину в двух местах[3486], и по ночам таможенные чиновники запирали реку. «У обоих берегов Тигра стояли на причале по два счаленных между собой судна, затем поперек реки натягивали канаты, концы которых были закреплены на этих судах, чтобы ночью никто не смог пройти[3487].
В IV/X в. на Ниле царило такое оживленное судоходство, что ал-Мукаддаси на рейде Старого Каира пришел в изумление от множества судов, как стоящих на якоре, так и плывущих. «Тогда спросил меня один египтянин: „Откуда ты?“ — „Из Иерусалима!“ — „Это большой город,— сказал он,— но я уверяю тебя, господин, да укрепит тебя Аллах, если все суда, отправляющиеся отсюда в дальние страны и в родные деревни, пришли бы в Иерусалим, то они могли бы забрать с собой всех жителей, их мебель и утварь, камни и дерево их домов, так что говорили бы: Здесь некогда был город!“»[3488].
Конечный пункт непрерывного потока нильского судоходства был в то же время и конечной точкой Египта[3489]. Асуан являлся большим складом Судана, причем торговлей занимались отнюдь не проникшие в Нубию египетские арабы, ибо торговое дело никогда не было основным свойством, присущим жителям нильской долины, а нубийские купцы из Судана, которые выше порогов выгружали свои товары на берег и 12 дней везли их на верблюдах по берегу Нила[3490]. Область, расположенная на юг от 2-го катаракта, была даже строго закрыта для всех чужеземцев. Эта мера уходила своими корнями в глубь веков, вплоть до эпохи Древнего Египта.
Арабское господство оказалось не в состоянии способствовать развитию дорожного хозяйства. Будучи сами народом конным, арабы не интересовались военными дорогами и перевозкой грузов. Повозка была для них столь непривычным явлением, что при заимствовании из Индии шахмат фигура «повозки» (ратха) была не понята и превратилась в ладью (рух)[3491]. Первыми стали пользоваться повозками татары на Севере[3492]. И все же в незначительной части Аравии римская пехота проложила дороги, и от того времени остались слова «путь» (сират), употреблявшееся в религиозном значении, крайне редко встречающееся слово итер — «пешеходная тропа» и несколько милевых столбов[3493]. Понятие «правительственная дорога», так же как и название ее, было заимствовано из персидского — «царская дорога»[3494]. Была она, вероятно, как и в наши дни, то более узким, то более широким беспорядочным переплетением протоптанных тропок и проложенной колеи. Мы располагаем скудными сведениями об уходе за дорогами. Египет отпускал ежегодно 10 тыс. динаров на содержание дороги, тянувшейся по берегу Нила[3495], горный проход между Айлой и пустыней ат-Тих, который из-за крутого подъема был почти непроходим для всадника, был выровнен в III/IX в. по распоряжению Тулунида ал-Хумаравайхи, который, впрочем, вообще проявлял интерес к путям сообщения[3496]. В конце IV/X в. Сабуктегин построил на юге Афганистана дороги, по которым позднее его великий сын Махмуд вторгся в Индию[3497]. Большие масштабы получило строительство военных дорог через среднеазиатские Альпы — по распоряжению Чингисхана, который и в данном случае был подобен Наполеону. Одна из этих дорог, например, шла через ущелья Тянь-Шаня южнее Сайрамского озера. На своем протяжении она имела 48 деревянных мостов, по которым могли проехать в ряд две повозки[3498]. Однако по большей части дело ограничивалось охраной дорог, постройкой постоялых дворов или по меньшей мере заботой о снабжении дорог водой. Так, на кратчайшем пути через восточноперсидскую пустыню каждые 12-18 км (2-3 фарсаха) стояла куполообразная постройка над прудом с водой[3499]. В Армении, близ оз. Ван, Насир-и Хусрау нашел дорогу, обозначенную забитыми в землю деревянными шестами, служащими для ориентировки во время снежных буранов и тумана[3500]. В солончаковых болотах Северной Африки дорога также была отмечена вехами[3501]. Содержание заезжих дворов на пустынных дорогах шло за счет благочестивых пожертвований. Больше всего их было в религиозном Туркестане, где таких приютов для странников насчитывалось больше десяти тысяч; во многих из них нуждающийся мог получить даже корм для своего животного и пропитание для себя[3502]. Вообще, надо сказать, что Восток был несомненно более гостеприимен, чем Запад. Один крупный персидский землевладелец держал на своих землях постоялые дворы, где было по 100 и более коров, молоком от которых подкреплялись усталые путники. Персидские деревни, также выбирали джазира, который ведал делами гостеприимства внутри общины и должен был распределять иноземцев по домам жителей[3503]. На дорогах в Хузистане через каждых два фарсаха выставляли ведра с водой, причем зачастую такое ведро надо было нести издалека[3504]. В бывших христианских странах радушным гостеприимством отличались монастыри, и богатые путешественники всегда в них останавливались[3505]. Монастырь св. Иоанна близ Текрита на Тигре, а также Ба‘арба, дальше на север, имели даже свои собственные дома для обслуживания проезжающих[3506]. Только в отношении бывших персидских областей мы располагаем сведениями о наличии там в городах гостиниц; так, например, в Нишапуре имелся шабистан — «ночлежный дом», в Ширазе еще один, в то время как в Египте до Айюбидов (эпоха поздних крестовых походов) не было ни постоялых дворов, ни гостиниц[3507]. Все же в пустынных и небезопасных районах Запада о приюте и охране заботились опять-таки благотворительные учреждения, куда «стекались пожертвования со всех сторон»[3508].
В эпоху Сасанидов через Тигр были переброшены постоянные мосты; в IV/X в. Ибн Хаукал утверждает, будто он видел остатки такого кирпичного моста под Текритом[3509]; красивая стрельчатая арка такого моста стоит и по сей день близ Джазиры[3510]. Однако в IV/X в. все они пришли в упадок и были заменены плавучими мостами на лодках (джиср), частично разводимыми, как в Багдаде и Басите. Но таких мостов было не так много, в частности, на Севере, как передают, они были неизвестны: в начале V/XI в. Махмуд, выступая против тюрков, переправился через Амударью со своим войском «по мосту из судов, скрепленных друг с другом цепями. Подобный мост в этих местах видели впервые»[3511]. Однако китайский путешественник Чан-чунь обнаружил позднее, в 1221 г., понтонный мост и на Сырдарье[3512]. Постоянный мост с пятью «дверьми» <арками.— Д. Б.>, одной большой и четырьмя малыми, вел через канал ‘Исы в том месте, где он ответвлялся от Евфрата. В конце III/IX в. ширина большой «двери» была утверждена в 22 локтя, а малых — по 8 локтей каждая (после того как убедились, что через них могут пройти даже самые крупные суда)[3513]. В Хузистане мост в Дизфуле, восточнее древней Сусы, имевший 320 шагов в длину и 15 в ширину, был сооружен на 72 арках; Ибн Серапион назвал его «римским мостом»[3514]. В Ахвазе «индийский мост» был построен из кирпича; на мосту стояла мечеть[3515]. И, наконец, мост через Верхний Карун в Изадже, переброшенный через реку на высоте в 150 локтей от воды, состоял из одного арочного пролета и был сооружен из камней, скрепленных между собой железными скобами. В конце IV/X в. на его ремонт было затрачено 150 тыс. динаров[3516]. Самым удивительным примером мостостроения во всей мусульманской империи был мост, сооруженный по европейскому образцу,— это был мост, построенный императором Веспасианом через Гёк-Су, приток Евфрата, близ Самосаты. Его причисляли к чудесам света, ибо он «одной единственной аркой из каменных плит, из которых каждая была 10 локтей длины и 5 локтей высоты, поднялся высоко над ущельем»[3517]. Самым важным деревянным мостом, кажется, был мост через реку Таб, образующую границу между Хузистаном и Фарсом, возвышавшийся приблизительно на 10 локтей над водой[3518]. Наконец, один только автор IV/X в. <ал-Макдиси> превозносит мост близ Хотана в Туркестане, переброшенный с одной горы на другую. Передают, что сооружен он был не китайцами[3519].
Я не знаю, сколько лет насчитывал тот вид парома, что я видел на Хабуре в Месопотамии, на котором паромщик перебирает руками по канату, протянутому через реку; этот же способ применяется и в бассейне реки Тарима[3520].
Почта (барид) — изобретение очень древнее, во всяком случае своим усовершенствованием она обязана Дарию I, когда он решил потуже натянуть бразды правления огромной переднеазиатской империей[3521]. При халифах уже почти вся почтовая терминология была персидской: фураник[3522], или файдж[3523], или шакири[3524] — «верховой почтальон»; аскудар — «сопроводительный документ», на котором отмечалось количество сумок с письмами и писем, проставлялось время прибытия и выбытия с отдельных станций. Можно предположить, что почта была придумана в каком-то одном определенном месте, ибо как в византийской, так и в мусульманской и китайской почте существовал обычай подрезать хвосты почтовым животным. Разница была только в том, что у византийцев была конная почта[3525], так же как и у арабских языческих царьков[3526], в то время как китайская и мусульманская[3527] почта шла на мулах[3528]. На запад от Евфрата халифская почта меряла расстояние в милях, а на востоке — в фарсахах (парсангах)[3529]. Для милевого камня имеется только римское название — мил, даже и в тех местах, которые никогда не были римской провинцией[3530]; персидская почта, кажется, не пользовалась этим обозначением[3531]. Однако в обеих половинах империи одинаково каждые 6 миль, или 2 фарсаха, стояли станции (сикак) с перекладными мулами или лошадьми[3532]. Почтальоны же не менялись весь путь; в 326/937 г. упоминается почтальон, который один возил почтовую сумку на протяжении всего огромного пути Багдад — Мекка[3533]. Как на Востоке, так и на Западе имелись международные обменные пункты — тюркская почта (барид ат-тюрк) шла до китайской границы[3534], а малоазиатская, имевшая станции через каждые три мили, до Константинополя[3535].
Основные почтовые тракты были следующие:
1. От Багдада, вверх по Тигру до Мосула, Беледа[3536], затем по Месопотамии через Синджар, Нисибин, Рас‘Айн, Ракку, Менбидж, Алеппо, Хаму, Химс, Ба‘альбек, Дамаск, Тивериаду, Рамлу, Джифар, Каир, Александрию и далее вплоть до Киренаики[3537].
2. От Багдада в Сирию по западному берегу[3538] Евфрата, которого достигали в Анбаре. В Хите была переправа на западный берег Евфрата, движение там было необычайно оживленное; достаточно сказать, что в 306/918 г. паром в Хите приносил правительству доход в 80 250 динаров[3539].
В книгах почтовых дорог, даже и у ал-Мукаддаси, который дает точный перечень дорог сирийской пустыни, нет ни слова об очень важной в древние времена и в наше время вновь немного оживившейся дороге Дамаск — Дер через Пальмиру; дорога эта охранялась кордегардиями. Не существовала в то время и безупречно функционирующая в наши дни почта на верблюдах между Багдадом и Дамаском. Правда, дорогой Хит — Дамаск, которой она пользуется и которая является кратчайшим путем из Багдада в Сирию, все же ездили отдельные путешественники. В таких случаях правительственный чиновник в Хите давал конвой (хуфара), состоявший из бедуинов[3540].
Главная дорога на восток шла позади Багдада через мост Нахравана, поднималась за Хулваном знаменитым горным проходом в область древней Мидии и достигала нагорья Хамадана позади Асадабада, сделав еще один подъем, в середине которого местные жители продавали финики и сыр[3541]. Эта дорога обозначена уже на античных картах; во всяком случае она служила еще персидским царям между их зимней резиденцией в Вавилонии и летней, расположенной в горах Экбатана. Оттуда дорога шла в направлении к Рею (неподалеку от нынешнего Тегерана), на Нишапур, Мерв, Бухару, Самарканд, где уже в то время существовали «Китайские ворота»[3542].
Продвижение по этой дороге через пограничную область между Туркестаном и Китаем зависело от крайне непостоянной там безопасности передвижения. На протяжении всей ранней эпохи ислама, а также еще в IV/X в. кратчайшую дорогу через Фергану и бассейн Тарима, которую в VIII в. н.э. предпочитали китайцы[3543] и по которой шел Марко Поло, недолюбливали, по крайней мере она нигде не упоминается. Даже из Узкенда, в верхней Фергане, пользовались не Алайскими проходами, а шли через проход Атбас, или Табас, «с крутым подъемом, непроходимым при снеге», в Барсхан, лежащий на юго-запад от оз. Иссык-Куль[3544]. Там кончалась дорога Самарканд — Китай, которая широкой дугой, через Шаш (Ташкент), Тараз (Аулие-Ата) и Бирки (Мерке) вела в Барсхан[3545]. Начиная отсюда дальнейший путь указывает Зайн ал-ахбар Гардизи (написано ок. 1050 г. н.э.): шли через Пенчул на Кучу что в бассейне Тарима, а затем на восток вплоть до Чинанчекета на границе Китая[3546]. Этот путь избрал уже около 630 г. н.э. китаец Сюань-цзан, который из Кучи через Палукию (это, пожалуй, то же самое, что Пенчул у ал-Гардизи, а может быть, и нынешний Аксу) двигался к оз. Иссык-Куль[3547]. Еще и в наше время связь между средней частью бассейна р. Тарим и Ташкентом осуществляется главным образом через Аксу — горный проход Бедел — Каракол — Пишпек — Аулие-Ата[3548]. Совершить путешествие по тому маршруту, которым шли в III/IX в. Саллам и в IV/X в. Абу Дулаф, к сожалению, уже невозможно[3549]. Из одного места у ал-Мас‘уди («он познакомился со многими совершившими путешествие в Китай и узнал, что путь из Хорасана через Согдиану на Китай пролегает через горы, дающие нашатырь»)[3550] явствует, что и в IV/X в. дорога в Китай была той же самой, которую описывают Сюань-цзан и Гардизи, ибо, по китайским данным, эти горы лежат на Тянь-Шане, севернее Куча[3551]. Лишь спустя столетие, около 550/1155 г., ал-Идриси первым из арабских авторов описывает дорогу из Ферганы через Памир в бассейн Тарима[3552]. Появление этого маршрута связано, пожалуй, с тем, что в конце IV/X в. Бограханиды завоевали Западный Туркестан и перенесли свою резиденцию в Кашгар, в Восточный Туркестан, что заставило торговцев и путешественников вновь направляться через горные проходы Памира.
В Мерве почтовая дорога отходит в сторону, пересекая Центральный Хорасан. Она идет не прямо на Балх, а делает огромный крюк в 300 км вдоль по реке Мерв <Мургабу> до Мерверруда — как и уже ко времени Таблицы Пейтингера (Tabula Peutingerana). А на фарсах дальше начиналась горная цепь, в которой дорога пользовалась ущельем вплоть до Талакана. Позади Балха дорога переходит под Термезом через Амударью и вступает близ Решта в Фергану[3553].
Дорога, пересекающая Иран по диагонали из Шираза через Йезд до Нишапура, отмечена еще у Ибн Хордадбеха[3554], а у Ибн Руста и у Кудамы она отсутствует. Вероятно, это связано с волнениями на персидском Востоке, которые дали возможность разбойникам и грабителям безраздельно господствовать в большой пустыне <Деште-Кевир> между Йездом и Тебесом. Лишь ‘Адуд ад-Даула (ум. 372/982) вновь навел там порядок. С той поры каждый наместник Фарса постоянно держал заложников из этих разбойников, которые время от времени сменялись другими, так что караваны, следовавшие в сопровождении правительственного конвоя, могли проходить эти места, не подвергаясь опасности. По приказу ‘Адуд ад-Даула около середины IV/X в. там была выстроена кордегардия с водопроводом для пресной воды, причем ал-Мукаддаси не видел ничего более красивого во всех персидских землях: «из камней и гипса, подобно крепостям Сирии»[3555]. Однако дорогу эту все же никак нельзя было назвать хорошей, ибо ал-Мукаддаси, намеревавшийся попасть из Тебеса в Йезд, употребил на этот путь 70 дней, так как его караван заблудился, хотя Ибн Хордадбех определяет это расстояние в 68 фарсахов. По его словам, обитающие там разбойники из племени Куф «дики видом и жестокосердны, они не довольствуются деньгами, когда кого-нибудь поймают, а убивают, как убивают змей: они удерживают голову человека на плоском камне и бьют сверху камнем, пока не размозжат ее»[3556].
Дорога хаджа, выйдя из Багдада, переходила через Евфрат под Куфой и близ ал-‘Узайба вступала в пустыню[3557]. Несмотря на то что Мекка была невероятно далеко, в период праздника хаджа движение к ней было самым оживленным во всем мусульманском мире. Людей влекла не только благочестивая сторона хаджа, но также и относительная безопасность огромных караванов паломников, вливавшихся в святой город со всех сторон. В 331/943 г. многие багдадские купцы выезжали с караванами паломников в Сирию и Египет, несмотря на суровые притеснения правительства Вавилонии[3558]. И наоборот, в 335/946 г. множество сирийцев, желавших сбежать от византийцев, присоединилось к каравану паломников, совершив колоссальный крюк через Мекку; среди них был кади Тарсуса с 20 тыс. динаров[3559].
В Северной Африке в III/IX в. большинство дорог вело прямо к Кайравану. В то время деятельная династия Аглабидов навела там порядок и особую заботу проявляла о путях сообщения. Вдоль всего побережья стояли кордегардии, и движение было безопасным[3560]. Из Нижнего Египта на запад шли две большие дороги: одна по берегу моря, как в древности, а другая — южнее. Первоначально почта придерживалась последней (тарик ас-сикка)[3561], затем она подалась в сторону Триполи и оттуда прямо к Кайравану, а затем шла дальше по берегу. Дорога эта была размерена на мили: от Кайравана до Сус ал-Адна на Атлантическом океане — 12 150 миль[3562]; она являлась великим трактом испанско-восточной связи[3563]. Южная дорога вела через оазисы Дахил и Куфра[3564] в Западный Судан, в Гану и Аудагушт. В IV/X в. она была заброшена из-за песчаных бурь и разбойничьих нападений[3565].
По своему характеру почта была государственной, она «ходила для нужд сынов ал-‘Аббаса»[3566], а так как проделываемый путь был крайне тяжел, то для перевозки пассажиров ею пользовались лишь в самых неотложных случаях[3567]. Кроме писем, она брала и иные, более или менее официальные вещи, требующие срочной доставки. Так, наследнику престола ал-Ма’муну, когда он был еще наместником Хорасана, она доставляла из Кабула свежие пряности[3568], а когда он стал халифом — подарки, не переносящие длительной дороги[3569]. Когда Джаухар завоевал своему халифу Марокко и достиг Атлантического океана, он послал ему почтой в качестве знака господства на море рыбу в стеклянном сосуде с водой[3570]. Во время военных походов для правительства организовывали военно-полевую почту. Например, когда багдадский полководец в 302/914 г. выступил против Египта, чтобы отбить фатимидских захватчиков, везир приказал организовать почту на беговых верблюдах, которая должна была ежедневно связывать Египет с Багдадом[3571]. Чтобы иметь возможность более скорой связи со своим братом, правившим в других провинциях, Му‘изз ад-Даула ускорил почтовую связь тем, что ввел в качестве почтальонов (фуйудж) гонцов (су‘ат)[3572]. Молодые люди Багдада буквально помешались на этой новой профессии, и бедняки отдавали правителю своих сыновей на выучку в этом деле. Особенно отличались два гонца, делавшие оба от восхода до захода солнца более 30 фарсахов (ок. 180 км). Они снискали всеобщую любовь, а один историк даже передает их имена и сообщает, что один из них был суннит, а другой — шиит. На каждом фарсахе пути был сооружен форт (хисн)[3573]. Пользовались в то время, вероятно, уже не почтовыми лошадьми, а беговыми верблюдами (джаммазат). На таких верблюдах, например, в большой спешке отправился из Багдада к своему государю в Персию везир Буидов[3574].
Наряду с этим, по крайней мере в некоторых областях и на более короткие расстояния, существовала еще и частная почта, состоявшая из гонцов, организованных по цеховому принципу. Уже в V в. н.э. славились своей скоростью почтальоны Нижнего Египта, называвшиеся симмахои. Существовали они еще и в VIII в., как об этом свидетельствует один папирус Райнера; что касается новейшего времени, то путешественник М. Ванслеб говорит: «Кто в Александрии хочет стать посыльным, должен пробежать с огнем в корзине, устроенной наподобие жаровни и укрепленной на высоте человеческого роста на палке, обитой множеством железных колец, 27 миль по дороге на Розетту и вернуться в тот же день в город до захода солнца»[3575].
Световой телеграф, которым пользовались в Византийской империи, мусульмане сохранили в бывших греческих областях, но в других провинциях он введен не был. Сообщают, что на побережье Северной Африки — известие относится к III/IX в.— он действовал особенно хорошо: за одну ночь приходило сообщение из Сеуты[3576], за 3-4 часа — из Триполи в Александрию. Эта линия прекратила свое существование лишь в 440/1048 г., когда Запад восстал против Фатимидов и последние уже не в состоянии были защищать форты от нападений бедуинов[3577].
Зато мусульмане широко развили голубиную почту, известную еще со времен античного Рима[3578]. Планомерно и в широких масштабах впервые организовал ее, кажется, основатель секты карматов (III/IX в.). С самого начала он распорядился пересылать ему с голубями в его вавилонскую резиденцию сведения со всех сторон, чтобы затем легко и уверенно изрекать пророческие предсказания[3579]. Потом, к началу VI/X в., увеличивается количество сведений, сообщающих о широком ее использовании в Вавилонии. Так, в 304/916 г. вновь назначенный везир сообщает о своем прибытии при помощи почтовых голубей[3580]. А когда карматы в 311/923 г. напали на Басру, они смогли сообщить жителям города о происшедшей четыре дня назад смене везиров, о чем им стало известно через почтовых голубей[3581]. В 315/927 г., во время карматского похода, Ибн Мукла, ставший позднее везиром, послал одного человека с пятьюдесятью почтовыми голубями в Анбар, приказав ему через определенные промежутки времени направлять ему в Багдад донесения[3582]. В том же году этот везир выставил под Акаркуфом посты в 100 чел. с сотней почтовых голубей и требовал каждый час донесений[3583]. В 321/933 г. одно частное лицо рассеяло беспокойство везира о судьбе Куфы, так как почтовые голуби его соседа, куфийца, доставили сведения более благоприятные, чем голуби официальной почты[3584]. Передают, что в 328/940 г. правитель Багдада перехватил почтового голубя, через которого его секретарь намеревался выдать его врагам[3585]. Отныне Ракка и Мосул сносятся с Багдадом, Васитом, Басрой и Куфой посредством почтовых голубей за 24 часа[3586]. Во второй половине этого века Алид Мухаммад ибн ‘Омар держал почтовых голубей в Багдаде и Куфе, чтобы иметь возможность срочно пересылать донесения между этими двумя городами[3587]. Когда было получено сообщение о прибытии посла карматов, ‘Адуд ад-Даула велел этому вельможе, чтобы посол остановился у его представителя в Куфе. Алид послал «куфийскую птицу», его представитель в Куфе ответил багдадской, и через несколько часов дело было улажено[3588].
Правительство в общем оставляло в покое частных лиц, совершающих путешествие, ибо нет никакого сомнения в том, что по крайней мере во II/VIII в. на Востоке не существовало еще писарей у городских ворот и системы установления там же личности для въезжающих[3589]. Один источник, датированный первой половиной III/IX в., также сообщает о принятой в Китае паспортной системе, как о чем-то совершенно чуждом[3590]. Зато в Египте еще на заре ислама господствовал строгий паспортный режим. Никто не имел права покинуть свой округ без разрешения властей. «Кто где-либо, в пути, или при переезде с места на место, или при высадке на берег, или при посадке на корабль будет обнаружен без паспорта (сиджилл), того следует задерживать, судно и его содержимое должно быть конфисковано и сожжено»,— так, по имеющимся сведениям, распорядился правитель приблизительно в 100/720 г. Такие паспорта дошли до нас в собраниях папирусов[3591]. При Тулунидах, для того чтобы покинуть пределы Египта, необходимо было иметь паспорт (джаваз), в котором должны были быть отмечены даже отъезжающие рабы[3592]. Напротив, на Востоке в конце IV/X в. приводили как примечательную особенность, что в Ширазе, столице ‘Адуд ад-Даула, задерживают путешественников и выехать из города можно только по получении разрешения[3593].
Мусульманское мореходство разделилось на две совершенно обособленные области: Средиземное море и Индийский океан. Связи между ними препятствовал Суэцкий перешеек. Если кто-либо намеревался попасть из Средиземного моря в Индию или Восточную Азию, он должен был в Фараме перегрузить свои товары на верблюдов и затем совершить семидневный переход через пустыню до Кулзума, где снова можно было погрузиться на судно[3594]. Различным был также и тип судов: на Средиземном море доски скреплялись гвоздями, а на Красном море и Индийском океане они сшивались[3595], причем последний тип судостроения был более древним и в то же время повсюду распространенным. Для VI/XII в. Ибн Джубайр сообщает следующее: «На судах Красного моря нет вообще ни одного гвоздя, они сшиты всего-навсего при помощи веревок из кокосовых волокон. Доски просверливают колышками из дерева финиковой пальмы, затем пропитывают бараньим жиром, касторовым маслом или акульим жиром, причем последний лучше всего»[3596]. Что же касается VII/XIII в., то здесь Марко Поло описывает применявшиеся в Хормузе корабли: «Суда, которые строят в Хормузе, самого плохого качества и очень опасны. Происходит это оттого, что при их постройке не имеют возможности использовать гвозди… доски с предельной осторожностью просверливают у самого края железными буравами и вгоняют в эти отверстия деревянные гвозди и колышки; так их соединяют вместе. После этого их связывают, или, вернее, сшивают посредством кабельных нитей, получаемых из оболочки индийских орехов. Смолу не применяют, доски промазывают каким-то маслом[3597], приготовляемым из рыбьего жира». Этим различиям, возникающим на почве местной традиции, как водится, приписывали основания практической пользы. Согласно Марко Поло, «дерево слишком твердое и раскалывается с такой же легкостью, как глина. Если пытаются вбить гвоздь, то дерево выталкивает его, причем гвоздь нередко ломается». Согласно же Ибн Джубайру, «пропитывая суда маслом, они имеют целью, чтобы дерево стало мягким и податливым, что необходимо из-за множества водоворотов в этом море, которые являются также причиной, не допускающей плавания судов, сбитых гвоздями». Третьим доводом считали, что океанская вода разъедает гвозди[3598] и, наконец, говорили даже и о лежащих на дне Красного моря магнитных горах, которые притягивают гвозди и таким образом разрывают суда на части[3599].
Средиземноморские суда были больше океанских. Так, китайский таможенный инспектор Чжао Жу-гуа с удивлением сообщает в начале XIII в. н.э.: «Один корабль вмещает несколько тысяч человек, на борту его можно найти лавки, торгующие вином и продовольствием, а также и ткацкие станки»[3600]. Только на Средиземном море имелись суда с двумя рулями[3601]. Океанские же, как правило, имели только одну палубу и чаще всего лишь одну мачту[3602]. На Красном море суда были широкие, с небольшой осадкой (из-за множества рифов), басрийские суда — белые, ибо их конопатили известью с жиром[3603]. Среди восточных судов самыми большими были «китайские». В Персидском заливе они, например, не могли пройти один узкий пролив, доступный для других судов[3604], а в малабарском порту уплачивали в 5-50 раз большие поборы, чем другие суда[3605], и уже в VIII в. н.э. вызывали в Кантоне удивление своей величиной — «настолько высоко над водой, что нужны лестницы около десяти футов длины, чтобы попасть на борт». Однако командовали ими некитайские (фан) капитаны[3606]. На самый дорогой корабельный лес шло дерево лабх[3607], которое росло только в Антине (Антиноя); за доску платили 50 динаров. Обычно две доски связывали вместе и держали их год в воде, пока они, разбухнув, не срастались в одну[3608]. В IV/X в. Венеция тоже поставляла сарацинам корабельный лес, что вынудило греческого императора обратиться по поводу этого с жалобой к дожу. Дож издал соответствующий запрет и разрешил только безобидную торговлю лесом: доски из ясеня и тополя, самое большее 5 футов длины и полфута ширины, а также изделия из дерева[3609]. Это вызвало в Египте такую острую нехватку леса, что при снаряжении нового военного флота на мачты брали стропила с монетного двора и госпиталя на Голубином рынке[3610].
Руль морских судов, как и наш лодочный руль, поворачивался посредством двух бечевок[3611]. Авторы рассматриваемой нами эпохи ничего не говорят о компасе, который впервые описывает Кипчаки в 1282 г. н.э.[3612], а затем ал-Макризи (ум. 845/1442)[3613]. На борту судов имелось несколько якорей, также называвшихся греческим словом анджур[3614]. Для промера глубин служил свинцовый лот (сибак)[3615]. Судовая лодка (кариб) использовалась также и для того, чтобы в случае необходимости буксировать судно на веслах[3616]. Бывалого путешественника Ибн Хаукала поразило под Тиннисом в египетской дельте искусное маневрирование, когда «два судна встретились друг с другом и коснулись бортами, причем одно шло вверх, а другое вниз по течению, используя ветер одного и того же направления, каждое с наполненными ветром парусами и с одинаковой скоростью»[3617]. В состав команды входил также и водолаз[3618]. На китайских судах XI в. н.э. это были чернокожие рабы, которые умели нырять с открытыми глазами[3619]. Один араб VIII/XIV в. сообщает, что суда на Индийском океане обычно имели на своем борту водолазов (гаттас), которые, «когда в судне подымается вода, натираются кунжутным маслом, залепляют ноздри воском и в таком виде на ходу судна плывут вокруг него и конопатят пробоину- воском; за день они могут справиться с 20-30 пробоинами»[3620]. Китайский источник IX в. н.э. сообщает: «На морских судах персов держат много голубей. Они могут пролететь несколько тысяч ли, а выпущенные, они за один перелет возвращаются домой и служат таким образом гонцами добрых вестей»[3621]. На океанских судах ежедневно ставили миску риса, заправленного жиром, для ангелов — корабельных патронов[3622].
В X в. н.э. Европа не имела никакой власти на Средиземном море, это было море арабов. Кто хотел чего-нибудь добиться, должен был заключить союз с сарацинами, как это сделали Неаполь, Гаета и Амальфи. Само же европейское судоходство влачило жалкое существование. В 935 г. н.э. суда Фатимида ал-Махди смогли напасть и разграбить Южную Францию и Геную, а еще в 1004 и 1011 гг. н.э.— Пизу, и, несмотря на это, фатимидский флот в то время, должно быть, значительно уступал сирийскому по своей мощи, потому что в 301/ 913 г. 80 их судов было наголову разбито всего лишь 25 сирийскими судами. Для того чтобы пересечь Средиземное море «от Атлантического океана до порта Антиохии», по арабским подсчетам, требовалось 36 дней плавания[3623]. Этим «портом Антиохии» была Селевкия, являвшаяся в III/IX в. важнейшим торговым портом Сирии[3624]; халиф ал-Му‘тасим соорудил в нем укрепления[3625]. Правда, этот порт страдал, большим недостатком: между ним и Кипром лежала знаменитая отмель (суфала), где погибало большинство судов[3626]. К концу III/IX в., о сирийском Триполи также сообщают, что его порт вмещал 1000 судов; военным портом против Византии был в то время Тир, защищенный мощными оборонительными укреплениями[3627]. Однако продвижение византийцев в IV/X в. внесло изменения в эту обстановку в Сирии. Восточная половина побережья Северной Африки крайне плохо приспособлена для судоходства. Между Александрией и Тунисским заливом единственным рейдом является Триполи. Но и он не удовлетворял даже ничтожной осадке судов того времени, и жители города бесплатно помогали чужеземцам на своих лодках при затруднительной выгрузке[3628]. За ним первым шел Тунис, порт Кайравана, в непосредственной близости от местоположения древнего владыки морей — Карфагена. История о «путешественниках на Запад»[3629] из Лиссабона относится, пожалуй, к IV/X в. «Отправились они разведать океан, что есть в нем и сколь далеко он простирается». Было их восемь двоюродных братьев. Они построили корабль, запаслись водой и провиантом на месяцы и при первом дуновении восточного ветра вышли в открытое море. Проплыли они дней одиннадцать, но очутились в море с тяжелыми волнами, темным воздухом, множеством рифов и скудным светом[3630]. Испугались они тогда, что пропадут, переложили свои паруса на другую сторону и плыли двенадцать дней на юг, пока не прибыли к Овечьему острову. Оттуда еще двенадцать дней дальше к острову, где существовало земледелие. Там их схватили, доставили в столицу, бросили в темницу и через три дня допросили при помощи араба-толмача. С завязанными глазами доставили их при первом же западном ветре на берег моря и разрешили им отплыть. Через какие-нибудь три дня приплыли они к стране, населенной берберами. На обратный путь в Испанию им понадобилось два месяца[3631].
Красного моря опасались из-за его рифов и противных ветров. Плыть по нему можно было лишь днем[3632], а из-за его своеобразного режима ветров в определенное время можно было плыть только с севера на юг, а в другое время — только в обратном направлении. Поэтому водный путь по параллельно протекавшему Нилу сохранял важное значение и для морского судоходства. Перевалочным портом был ‘Айзаб — «глубокий и надежный, в него проходили через ущелье»[3633]. Здесь производилась перегрузка товаров из Абиссинии, Йемена и Занзибара, которые затем шли 20 дней пустыней до Асуана или Куса и оттуда по Нилу до Каира[3634]. К концу V/XI в. ‘Айзаб переживал пору бурного процветания, он стал «одним из первых портов мира»; по неизвестным причинам линии связи Северной Африки с Востоком проходили через него. Больше того, «с 450 по 660/1058—1258 г. даже египетские паломники проезжали через ‘Айзаб, и лишь в 823/1420 г. он уступил свое значение Адену»[3635]. В то время там с каждого паломника взимали налог в количестве восьми динаров[3636]. Путешественник Ибн Джубайр тоже нашел в 579/1183 г., что ‘Айзаб «один из самых оживленных портов мира, ибо там выгружаются суда из Индии и Йемена, не говоря уже о потоке паломников». В качестве основного предмета торговли он называет индийский перец[3637].
В 332/943 г. ал-Мас‘уди писал: «Исходил я доброе число морей, побывал на Китайском, Румском, Хазарском, Красном и Арабском морях и испытал там неисчислимые ужасы, но ничего более страшного, чем Африканское море, мне встречать не доводилось». В 304/916 г. он плыл из Занзибара (Канбалу) в Оман, причем корабельщики, с которыми он проделал путь туда и обратно, позднее все остались на дне морском[3638]. Хозяевами Занзибара в ту пору были уже мусульмане[3639]. Конечной целью мусульманских путешественников по Африке была Софала (Мозамбик), куда их манили золотые сокровища страны Машона[3640], и оттуда доставлялось в Индию на переработку главным образом железо, из которого там изготовляли самые высококачественные изделия[3641]. Современным историкам даже совершенно точно известно, что около 908 г. н.э. были основаны Махдишу (Могадишо в итальянском Сомали) и Брава; а около 975 г.— Килва в немецкой Восточной Африке[3642]. Мы не располагаем древними источниками о тех местах; может быть, историки Южной Аравии расскажут нам об этом.
Для мусульманского морехода Персидское море начиналось у Адена, огибало Аравию, заходило в Персидский залив и кончалось приблизительно там, где в наши дни начинается Белуджистан. Все же остальное было Индийским океаном. Оба эти моря были пригодны для мореходства в разное время: если одно было спокойно, то волновалось другое, и наоборот. Дурной период Персидского моря начинался с осенним равноденствием, а Индийского — с весенним. В Персидском море плавают всегда, а в Индийском — только зимой[3643]. Зато первое было главной ареной действий морских разбойников, из-за которых особенно Аравийское побережье пользовалось самой дурной славой. Уже около 200/815 г. жители Басры предприняли неудачную экспедицию против пиратов Бахрейна[3644]. В IV/X в. на Красном море можно было отважиться на морское путешествие, только имея на борту солдат, преимущественно артиллеристов (наффатин)[3645]. Особо опасным пиратским гнездом считался остров Сокотра, и, проплывая мимо него, путники дрожали от страха. Это было пристанище индийских морских разбойников, где они подстерегали верующих[3646]. Морской разбой никогда не воспринимался как достойное порицания явление в общественной жизни, более того, в нем не видели ничего особенного и необыкновенного. Арабский язык так и не создал для этого понятия специального слова; ал-Истахри[3647], например, даже не называет пиратов морскими разбойниками, а употребляет значительно более мягкое выражение «хищные». Обычно же пользовались индийским словом барки[3648].
Самыми значительными портами империи на океане были Аден, Сираф и Оман. И лишь на втором по значению месте находились Басра, Дайбул (в устье Инда) и Хормуз, портовый город Кермана.
Аден был крупным центром торговли между Африкой и Аравией и опорным пунктом торговли между Китаем, Индией и Египтом. Ал-Мукаддаси называет его «преддверьем Китая»[3649]. Там можно было услыхать о том, как человек отплывал с 1000 дирхемов и возвращался обратно с 1000 динаров, а другой уезжал с сотней, а прибывал с пятью сотнями. Наконец, третий уходил с ладаном и возвращался с таким же количеством камфары[3650].
Сираф был мировым портом Персидского залива, через который шел весь ввоз и вывоз Персии[3651]. Кроме того, он являлся специальным портом для торговли с Китаем; даже йеменские товары, направлявшиеся туда, перегружались в Сирафе[3652]. Около 300/912 г. взимаемые, там судовые пошлины составляли 253 тыс. динаров в год[3653]. Жители Сирафа были самыми состоятельными купцами во всей Персии; это они показывали главным образом своими высокими многоэтажными домами из дорогого тикового дерева; один знакомый ал-Истахри истратил на свое жилище 30 тыс. динаров. Но в отношении одежды эти крупные торговые магнаты отличались поразительной простотой; ал-Истахри, например, рассказывает[3654], что там можно увидеть человека, владеющего 4 млн. динаров или даже еще большим состоянием, который по одежде не отличается от своих служащих. Кроме того, жители Сирафа вели свои дела и из Басры. Одного из таких встретил Ибн Хаукал — у него было около 3 млн. динаров состояния, чего путешественнику больше нигде не доводилось видеть[3655]. Некоторые жители Сирафа всю свою жизнь проводили на море, что послужило поводом для появления анекдота о человеке, который 40 лет подряд пересаживался с одного корабля на другой, не ступив при этом ногой на землю[3656]. Родом из Сирафа был и самый знаменитый в то время судовладелец Мухаммад ибн Бабишад, с которого один индийский царь велел написать портрет как с самого выдающегося представителя этого дела, потому что «существует у них обычай запечатлевать самых выдающихся людей разных занятий»[3657]. Это положение Сирафа привело к тому, что основным языком мусульманских мореходов Индии и Восточной Азии был персидский, во всяком случае даже арабские труды рассматриваемого нами времени приводят много морских терминов по-персидски, как, например, находа — «владелец судна»[3658]; дидбан — «вперед смотрящий», руббан (пожалуй, рах бан) — «капитан». С другой стороны, «окликающего» — того, кто передает распоряжения лоцмана рулевому, называли часто встречающимся в арабской жизни словом мунади[3659]. Капитаны должны были поклясться в том, что они обязуются «ни одного судна умышленно не ввергать в погибель, пока оно еще держится и не разразилась над ним его участь»[3660].
Басра была удалена от моря на два дня пути вверх по течению[3661]. Перед устьем реки был расположен своего рода Гельголанд — остров с небольшим фортом Абадан, жители которого кормились изготовлением циновок из халфы[3662] и в который отправлялись приносить покаяния[3663]. Здесь с кораблей взимали пошлину[3664]; кроме того, там был расположен гарнизон для защиты от морских разбойников. В шести милях дальше в глубь моря высилось свайное сооружение: в морское дно были забиты столбы (хашабат), на которых стояла сторожевая вышка, где по ночам горел огонь, предупреждающий суда, чтобы они держались подальше от этого места[3665].
Некий басрийский поэт высмеивает одного человека, тощего как щепка:
Лицо, как Абадан, а за ним — для любовника его ничего кроме жердей (хашабат)[3666].
В IV/X в. ал-Мас‘уди сообщает о трех таких деревянных вышках[3667], в V/XI в. Насир-и Хусрау — о двух[3668]. Причем последний описывает их более детально: «Четыре больших столба из тикового дерева наклонно вбиты по углам квадрата, так что основание их широко, а верх — узкий. Они высятся над уровнем моря на 50 м, и наверху сооружен четырехугольный домик для сторожа». Слабой стороной портового города на Шатт ал-‘Араб является мелководный и узкий вход в гавань. «Из сорока приходящих туда судов только одно возвращается обратно»,— говорил ал-Мукаддаси[3669].
История мусульманских торговых факторий на крайнем Востоке была довольно бурной[3670]. Мы имеем сведения уже от VIII в. н.э., где сообщается, что чужеземные капитаны были приписаны к ведомству морской торговли в Кантоне, что это ведомство, прежде чем выдать разрешение на выгрузку груза, требовало на просмотр судовые документы и взимало пошлину на ввоз, а также и фрахтовый сбор. Экспорт ценных и редких товаров был запрещен, попытки контрабандного вывоза карались тюрьмой[3671]. Весьма возможно, что в то время мусульманские торговые фактории существовали уже и в других китайских городах, но что касается Кантона, то там западная колония была так многочисленна, что в 758 г. н.э. колонистам удалось разграбить город, сжечь склады и отплыть с богатой добычей[3672]. К началу IX в. н.э. мы вновь видим во главе мусульманской колонии в Кантоне назначенного китайским императором мусульманина; он вершил там правосудие, произносил проповеди и молился о здравии китайского императора во время молитв в мечети[3673]. «Когда в то время заходил корабль, китайцы забирали груз, складывали его в сараи и брали на себя гарантию его сохранности сроком на шесть месяцев, пока не прибывал последний матрос; тогда три десятых груза забирали, а остальное отдавали купцам. Правительство брало по самым высоким ценам то, что ему было нужно, причем платило наличными без какого бы то ни было ущемления справедливости. К числу таких товаров относились камфара, за которую они платили 50 тысяч медных монет за ман. Если же правительство ее не брало, то тогда камфара стоила лишь половину»[3674]. Другими товарами ввоза были слоновая кость, медные слитки, черепаха и рога носорога, «из которых китайцы делали пояса (?)»[3675]. На протяжении всего того времени не только мусульмане плавали в Китай, но и «китайские суда» ходили в Оман, Сираф, Убуллу и Басру[3676].
Сообщения арабских мореходов о разрушении в Китае[3677], особенно в Ханфу (Кантон)[3678], около 880 г. н.э. мусульманских торговых поселений подтверждаются китайскими хрониками. С падением династии Тан в Южном Китае все было разорено[3679], сместилась и география морской торговли. Сочинение «Аджа’иб ал-Хинд» <«Чудеса Индии»>, отражающее существенные стороны положения дел в IV/X в., показывает, что в то время порт Кала (или Кеда) на Малакке, предшественник современного Сингапура, был конечным пунктом мусульманского -судоходства. Абу Дулаф ясно говорит об этом: «Кала — начало Индии и конечный пункт мореходства, дальше суда идти не могут, ибо в противном случае они гибнут»[3680]. То же самое говорит и ал-Мас‘уди, писавший приблизительно в 332/944 г.: «Сегодня в Кала встречаются мусульмане из Сирафа и Омана с прибывающими из Китая судами. Купец из Самарканда, едущий в Китай, садится там на китайский корабль»[3681]. Однако в конце X в. китайское правительство приложило большие старания, чтобы вновь привлечь заморскую торговлю непосредственно в свою страну. Было направлено посольство, чтобы пригласить «чужеземцев купцов Южного моря и тех, кто ходит за море в чужие страны», приходить в Китай и пообещать им льготы на ввоз товаров. В 971 г. н.э. в Кантоне было реорганизовано морское ведомство, около 980 г. внешняя торговля стала государственной монополией и частные сделки с чужестранцами карались, как сообщают, клеймением лица и ссылкой. В то время и в последующие годы упоминается целый ряд мусульманских купцов, посетивших двор китайского императора, где они были приняты с поразительным радушием. В 976 г. н.э. один араб доставил китайскому двору первого чернокожего раба, а в XI в. богатые люди Кантона имели уже их в большом количестве[3682]. Кроме Кантона чужеземные купцы обосновались уже довольно давно также и в Цюаньчжоу; в 999 г. н.э. были, кроме того, открыты управления морской торговли еще и в портовых городах Ханчжоу и Минчжоу — «по просьбе и для удобства иноземных чиновников»[3683]. Один китаец, писавший в 1178 г., заявляет: «Из всех богатых чужих стран, обладающих большими запасами превосходных и всевозможных товаров, ни одна не превосходит арабскую империю. За ней идет Ява, третье место занимает Палембанг (Суматра), многие другие следуют за ними»[3684]. Тот же самый китаец сообщает также о дальнейшем новом изменении морского пути в Китай: «Прибывающие из страны арабов. (Даши) отправляются сначала к югу — на Куйлон (Малабар) на маленьких судах и перегружаются там на большие, после чего они следуют в восточном направлении на Палембанг (Суматра)»[3685]. Путь в Китай диктовался направлением муссонов, ибо только они одни делали возможным плавание в открытом море без компаса. Этот путь описан в Силсилат ат-таварих[3686] и у Ибн Хордадбеха[3687], кроме того, он может быть реконструирован на основе книги «Чудеса Индии». Плыли вдоль берега Индии или прямо из Маската, достигая приблизительно за один месяц малабарского порта Кулам (ныне Куйлон), затем оставляли Цейлон справа и направлялись к Никобарским островам (10-15 суток от Цейлона), затем на Кеда на Малакке — от Куйлона на расстоянии около месяца плавания[3688],— далее на Яву и зондский остров Ма’ит. Оттуда за 15 суток до Камбоджи, затем на Кохинхину и Китай. Один лишь китайский берег отнимал два месяца плавания да вдобавок еще нужно было выжидать попутного ветра, так как в тех местах в каждом полугодии дуют ветры только в одном направлении[3689]. На обратном пути плыли 40 дней от Цюаньчжоу до Атйи (северо-западная оконечность Суматры), где вели торг, и на следующий год вновь выходили в открытое море, чтобы с помощью постоянного ветра прибыть на родину примерно за 60 дней[3690]. При отсутствии каких бы то ни было навигационных инструментов это путешествие было смелым предприятием. Имя капитана, проделавшего этот путь семь раз, произносили с величайшим восхищением[3691]. «Когда кто-либо на пути туда оставался цел и невредим, то это было чудо; но еще и обратно вернуться в полном здравии было почти невозможно»[3692]. Так что не приходится удивляться, когда при первом появлении полоски родной земли наблюдающий кричал вниз со своего места на мачте: «Аллах да помилует всех, кто взывает: Велик Аллах!» — и все отвечали: «Велик Аллах!»,— поздравляли друг друга и плакали от радости и счастья[3693].
ЗИАН — «Записки Императорской Академии наук», СПб.
ЗИВАН — «Записки Института востоковедения АН СССР», М.—Л.
ЗИРГО — «Записки Имп. Русского географического общества», СПб.
ЗКВ — «Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской Академии наук {Академия наук СССР)».
ИВГО — «Известия Всесоюзного географического общества», Л.
МИТТ, I-II — «Материалы по истории туркмен и Туркмении», т. I, VII-XV вв. Арабские и персидские источники. Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича и А.Ю. Якубовского, М.—Л., 1938; т. II, XVI-XIX вв. Иранские, бухарские и хивинские источники. Под ред. В.В. Струве, А.К. Боровкова, А.А. Ромаскевича и П.П. Иванова, М.—Л., 1938.
ОИФ — Отделение истории и философии.
ТЧРДМ — «Труды членов Российской духовной миссии в Пекине», СПб.
AFKM — «Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes», hrsg. von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter der verantwortlichen Redaction des Prof. O. Loth u.a., Leipzig.
AfR — «Archiv für Religionswissenschaft» in Verbindung mit… und anderen Fachgelehrten hrsg. von Dr. phil. Ths. Achelis in Bremen; Bd I, Freiburg i.B., 1898; Bd II, Freiburg i.B., 1899 sq; Bd VIII — «Archiv für Religionswissenschaft», unter Mitredaktion von H. Usener, H. Oldenberg, G. Bezold. K.Th. Preusz hrsg. von Albrecht Dieterich, Leipzig, 1905.
AKGWIG — «Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen».
APAW — «Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse», Berlin.
ASGW — «Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften», Leipzig.
ASM — «Asiatic Society Monographs», London.
BAH — Bibliotheca Arabico-Hispana edidit F. Codera, Matriti (t. I-X, 1883—1895).
BAHG — Bibliothek arabischer Historiker und Geographen, Leipzig.
ВÉНÉТ — Bibliothèque de l'école des hautes études publiée sous les auspices du Ministère de l'instruction publique. Sciences historiques et philologiques, Paris.
BEO — «Bulletin d'Études Orientales de l'Institut français», Damas.
BGA — Bibliotheca geographorum arabicorum. Edidit M.J. de Goeje, pars I-VIII, Lugduni Batavorum.
BGA2 — Bibliotheca geographorum arabicorum. Primum edidit M.J. de Goeje, nunc continuata consultantibus R. Blachere, H.A.R. Gibb, P. Kahle, J.H. Kramers, H. von Mžik, C.A. Nallino, A.J. Wen sinck, Lugduni Batavorum-Lipsiae.
CIO — Congrès international des orientalistes.
CRAIBL — «Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes-rendus des séances», Paris.
CSCO, SA — Corpus scrip'torum christianorum orientalium. Curantibus J.-B. Chabot, J. Guidi, H. Hyvernat, B. Carra de Vaux, Beryti-Parisiis-Lipsiae. Scriptores Arabici.
CSCO, SS — Corpus scriptorum christianorum orientalium… Scriptores Syri.
CUOS — «Columbia University oriental studies», edited by R.J.H. Gottheil, New York.
DI — «Der Islam», Strassburg—Berlin.
DWA — «Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe», Wien.
EI — «Enzyklopaedie des Islam. Geographisches, ethnographisches und biographisches Wörterbuch der muhammedanischen Völker», Bd I-IV, Leiden — Leipzig (1908), 1913—1934.
EI, NE — «The Encyclopaedia of Islam. New edition prepared by a number of leading orientalists…, vol. I—…, Leiden — London, 1960—…
GAL — C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, Bd I-II, Weimar—Berlin, 1898—1902; Supplementbände (SB) I-III, Leiden, 1937—1942; Zweite den Supplementbänden angepasste Aufl., Bd I-Ill, Leiden, 1943—1949.
GMS — «Е. J. W. Gibb Memorial» Series, London.
GMS NS — «E. J. W. Gibb Memorial» Series, New Series. London.
HdI — Handwörterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam hrsg. A. J. Wensinck und J. H. Kramers, Leiden, 1941.
IC — «Islamic Culture», published by the Islamic Culture Board, Hyderabad, Deccan.
JA — «Journal asiatique», Paris.
JAOS — «Journal of the American Oriental Society», New Haven.
JESHO — «Journal of the Economic and Social History of the Orient», Leiden (E. J. Brill).
JJG — «Jahrbuch der jüdisch-literarischen Gesellschaft», Frankfurt a/M.
JQR — «Jewish Quarterly Review», London.
JRAS — «Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland», London.
LSOS — Lehrbücher des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin. Hrsg. von dem Director des Seminars, Stuttgart & Berlin.
MA — «Mémoires de l'Académie Imp. des sciences de St.-Pétersbourg».
MAH — «Memorias de la Real Academia de la historia», Madrid.
MIDEO — «Mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales», Le Caire.
MIFAO — Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire sous la direction de M. É. Chassinat, Le Caire.
Mitteil. Samml. Rainer — «Mitteilungen aus der Sammlung des Papyrus Erzherzog Rainer», Bd I-V, 1887—1892, Wien (Bd I, 1887; Bd II-III, 1887; Bd IV, 1888; Bd V, 1892).
MO — «Le Monde Oriental», Uppsala.
MSOS-2 — «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin». Hrsg. von dem Direktor Prof. Dr. E. Sachau. Zweite Abteilung: Westasiatische Studien.
NGGW — «Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen», Göttingen.
Notices et Extraits — Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, publiés par l'Institut National de France, faisant suite aux Notices et Extraits lus au Comité établi dans l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris.
OLZ — «Orientalistische Literaturzeitung», Leipzig.
OMFO — «Österreichische Monatsschrift für den Orient», Wien.
OTSS — Old Testament and Semitic Studies in Memory of W. R. Harper, vol. 1-2, Chicago, 1908.
PÉLOV — Publications de l'École des langues orientales vivantes, Paris.
PHT — «Persian historical texts», London—Leide.
PIEO — Publications de l'nstitut d'Études orientales, Alger.
PIFAO — Publications de l'Institut français d'archeologie orientale du Caire.
PM — «Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthe's Geographischer Anstalt», Hrsg. von Prof. Dr. A. Supan, Gotha.
PO — «Patrologia Orientalis», ed. R. Graffin, F. Nau, Paris.
PSAC — Publications de la Société d'archéologie copte. Textes et documents.
RAAD — La Revue de L'Académie arabe. Revue mensuelle paraissant à Damas.
REES — «Revue des études ethnograhiques et sociologiques», publiée sous la direction de A. van Gennep, Paris.
— «Revue des Études juives». Publication trimestrielle de la Société des études juives, Paris.
— «Annales du Musée Guimet. Revue de l'histoire des religions», publiée sous la direction de m. J. Réville, Paris.
— «Revue du Monde Musulman». Publiée par la mission scientifique du Maroc, Paris.
— «Rosznik Orientalistyczny», Lwów (Krakow).
— «Rivista degli studi orientali», Roma.
— «Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst».
— «Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften», Wien.
— «Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historischen Klasse», München.
— «Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin», hrsg. von R. Virchow, Berlin.
— «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes».
— «Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete», Weimar — Berlin — Strassburg.
— ZA, Neue Folge.
— «Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft», Leipzig.
— «Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin», Hrsg. im Auftrag des Vorstandes von dem Generalskretär der Gesellschaft G. Kollm, Berlin.
— «Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete», Leipzig.
Библиография[3694]
‘Абд ал-Латиф.— Relation de l’Égypte, par Abd-Allatif, médecin arabe de-Bagdad; suivie de divers Extraits d'Écrivains orientaux, et d'un État des Provinces et des Villages de l'Égypte dans le XIVе siècle: le tout trad. et enrichi de notes historiques et critiques par M.S. de Sacy, Paris, MDCCCX [1810].
Абу-л-‘Ала, Лузумиййат.— Китаб лазум ма ла йалзам ли Аби-л-‘Ала ал- Ма‘арри ат-Танухи, Бомбей, 1303 [1885-86]; Китаб лузум ма ла йалзам ли Аби-л ‘Ала ал-Ма‘арри, Бомбей, 1303 [1885-86]; * Каирск. издания: Ал-лузумиййат ау лузум ма ла йалзам ли Аби-л-‘Ала ал-Ма‘арри, т. I-II, Каир, 1891—1893; под тем же названием изд. Таха Хусайна и Ибрахима ал-Ибйари, [Каир], 1955; изд. Ибрахима ал-Ибйари, Каир, 1959.
Абу-л-‘Ала, Письма,— The letters of Abu’l-‘Ala of Ma‘arrat al-Nu‘man, ed. from the Leyden Manuscript, with the life of the author by al-Dhahabi and with translations, notes, indices and biography by D. S. Margoliouth, Oxford, 1898 (Anecdota Oxoniensia, ч. X).
Абу-л-‘Ала, Рисалат.— R. A. Nicholson, The Risalatu’l-Ghufran; by Abu’l-‘Ala al-Ma‘arry (Part II, including table of contents with text and translation of the section on Zandaka and other passages),— JRAS, 1902, стр. 75-101, 337-362, 813-847.
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж.— Китаб ал-харадж ли-л-имам сахиб Аби Ханифа ал-кади Аби Йусуф Йа‘куб ибн Ибрахим, Булак, 1302 [1884—85].
* Китаб ал-харадж ли-л-кади Аби Йусуф Йа‘куб ибн Ибрахим сахиб ал-имам Аби Ханифа, Каир, 1326 [1927—28].
* Французский перевод: Abou Yousof Ya‘koub, Le livre de l'impôt foncier (Kitâb el-kharâdj), traduit et annoté par E. Fagnan, Paris, 1921.
Абу Йусуф.— Matériaux pour servir à l'histoire de la numismatique et de la métrologie musulmanes, trad. ou recueillis et mis en ordre par M. H. Sauvaire,— JA, sér. 7, t. XIX, 1882, стр. 22-163, 281-327.
Абу-л-Касим.— Abulkâsim ein bagdâder Sittenbild von Muhammad ibn ahmad abul-mutahhar alazdi. Mit Anmerkungen hrsg. von Adam Mez, Heidelberg, 1902.
Абу-л-Мaxасин.— Abu’l-Mahasin ibn Tagri Bardii Annales... e Codd. Mss. nunc primum Arabice editi. Ediderunt T. G. J. Juynboll et B. F. Mathes, Lugduni Batavorum, t. I-II, 1852—1857.
Абу Ну‘айм, Та’рих Исфахан.— Абу Ну‘айм ал-Исфахани, Та’рих Исфахан, лейденская рук. № 904, Catalogus LB, II, № DCCCCIV (Cod. 568 Warn.), стр. 316—317.
* Abū Nu‘aim, Geschichte Isbahāns nach der Leidener Handschrift hrsg. von Dr. S. Dedering, Bd I-2, Leiden, 1931—1984.
Абу Нувас, Диван (берлинcк. рук.).— (Ahlwardt, Verzeichniss, Bd 6, № 7532, стр. 550—552) — см. Mittwoch, MSOS-2, 1909.
Абу Нувас, Диван (венcк. рук.).— Абу Нувас, Диван, венск. рук., № 2016 (Flügel, Handschriften, Bd III, Anhang. № 2016, стр. 549).
Абу Нувас, Диван (Каир).— Хаза диван адиб заманихи ва ша‘ир вактихи …Абу ‘Али-ал-Хасан ибн Хани ибн ‘Абд ал-Аввал ибн ас-Сибтах ал-ма‘руф би-Аби Нувас, Каир, 1277 [1860—61].
Диван Аби Нувас, Каир, 1316 [1898] — изд. Искандара Асафа с прим. Махмуда Эфенди Васифа.
Другие издания: Diwan des Abu nowas nach der Wiener und Berliner Handschrift, mit Benutzung anderer Handschriften, hrsg. von W. Ahlwardt. I. Die Weinlieder, Greifswald, 1861.
* Abū Nuwās, Diwan, ed. avec glosses par Ahmad al-Gazzāli, Le Caire, 1953.
* Der Diwan des Abū Nuwās, hrsg. von E. Wagner, Teil I, Kairo — Wiesbaden, 1958; Teil II, Wiesbaden, 1972.
* См. также: E. Wagner, Die Überlieferung des Abū Nuwās — Diwan und seine Handschriften, Mainz, 1958.
* E. Wagner, Abū Nuwās. Eine Studie zur arabischen Literatur der frühen ‘Abbasidenzeit, Wiesbaden, 1965.
* J. Bencheikh, Poésies bachiques d'Abū Nuwās,— BEO, t. XVIII, 1963—64, стр. 7-83.
Абу Салим, Ал-‘икд ал-фарид.— Китаб ал-‘икд ал-фарид ли-л-малик ас-Са‘ид та’лиф Аби Салим Мухаммад ибн Талха ал-Вазир, Каир, 1283 [1866—67].
Абу Салих,— В. Т. А. Еvеtts, Churches and monasteries of Egypt, Oxford, 1895 (Anecdota Oxoniensia, r. 7).
Абу Таммам, Диван.— Диван Аби Таммам ат-Та’и фассара алфазаху ал-лугавийа ва вакафа ‘ала таб‘ихч Мухйи ад-Дин ал-Хаййат, Бейрут, [б.г.].
* Диван Аби Таммам Хабиб ибн Аус ат-Та’и, Каир, 1292 [1875]; 1294 [1877]; Бейрут, 1880, 1905, 1923.
Абу-л-Фида, Анналы.— Abulfedae Annales moslemici arabice et latine. Opera et studiis J. J. Reiskii…, ed. J. G. Chr. Adler, t. I-V, Hafniae, 1789—1794 (I — 1789, II — 1790, III — 1791, IV — 1792, V — 1794).
* Каирск. изд.— Китаб ал-мухтасар фи ахбар ал-башар та’лиф Исма‘ил Аби-л-Фида’, т. I-IV, Каир, 1325 [1907—08].
Абу-л-Фида, География.— Géographie d'Aboulféda. Texte arabe publié d'après les manuscrits de Paris de Leyde aux frais de la Société Asiatique par M. Reinaud et M. le Bon M. G. De Slane, Paris, MDCCCXL [1840].
* Французский перевод: Géographie d'Aboulféda. trad. de l'arabe en français et accompagnée de notes et d'éclaircissements par M. Reinaud, t. I, Paris, MDCCCLXVIII; Géographie d'Aboulféda, trad. de l'arabe en français et accompagnée de notes par S. Guyard, t. II, seconde partie, Paris, МОСССLXXXIII.
Абу Фиpас.— Abû Firâs, ein arabischer Dichter und Held. Mit Taâlibî’s Auswahl aus seiner Poesie (jetîmet-ud-dahr Cap. III). In Text und Übersetzung mitgeteilt von Dr. R. Dvolák, Leiden, 1895.
* См. также: Диван Аби Фирас ал-Харис ибн Са‘ид ибн Хамдан, Бейрут, 1873; с примечаниями Нахла Калфата под тем же заглавием, там же, 1900, 1910; издание Сами ад-Даххана: Sami Dahan, Le Diwan d'Abu Firas al-Hamdani…, Beyrouth, 1944 (Inst. Français de Damas. Collect, de text, orientaux, II).
Абу Хаййан.— см.: Йакут, Иршад, II, стр. 291.
Адаб ан-надим.— Абу-л-Фатх Махмуд ибн ас-Синди ал-Катиб (ибн) Кушаджим, Адаб ан-надим, Парижская рукопись № 3301 (De Slane, Catalogue BN, стр. 578).
* Адаб ан-надим та’лиф Аби-л-Фатх Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Катиб ал-ма‘руф би-Кушаджим, Булак, 1298 [1880—81].
‘Аджа’иб ал-Хинд.— Bozorg ben Sahryar ar-Ramhormozī, Les merveilles de l'Inde. Ouvrage arabe inédit du X-e siècle, Paris, 1878;
Livre des merveilles de l'Inde par le eapitaine Bozorg fils de Chahriyâr de Ramhormoz. Texte arabe publié d'après le manuscrit de M. Schefer… par P. A. van der Lith; Trad. française par L. M. Devic, Leide, 1883—1886;
* Buzurg ibn Shahriyar, The book of the marvels of India, from the Arabic by L. M. Devic, London, 1928.
* См. также перевод Ж. Соваже: Mémorial Jean Sauvaget, t. I, Damas, 1954, стр. 187-309.
* Русский перевод: Бузург ибн Шахрияр, Чудеса Индии, пер. с арабского Р. Л. Эрлих, М., 1959.
‘Али Деде, Китаб ал-ава’ил.— ‘Али Деде Мустафа ‘Ала’ ад-Дин ал-Буснави, Мухадарат ал-ава’ил ва мусамарат ал-авахир — расширенное извлечение из сочинения ас-Сайути, Китаб ал-васа’ил ила ма‘рифат ал-ава’ил, берлинская рукопись № 9371/2 (Ahlwardt, Verzeichniss, Bd 9, стр. 9-11).
* Мухадарат ал-ава’ил ва мусамарат ал-авахир та’лиф аш-шайх ‘Ала’ ад-Дин ‘Али Деде ас-Сигетвари ал-Буснави, Каир, 1311 [1893—94].
Ансаб ал-ашраф.— Anonyme Arabische Chronik Bd XI vermuthlich das Buch der Verwandschaft und Geschichte der Adligen von Abulhasan ahmed ben jahjā ben gābir ben dāwūd elbelādorī elbagdādī. Aus der arabischen Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin Petermann II 683 autographiert und hrsg. von W. Ahlwardt, Leipzig, 1883.
* The Ansāb al-Ashrāf of al-Baladhurī, vol. V, ed. S.D.F. Goitein, Jerusalem, 1936.
* Ансаб ал-ашраф тасниф Ахмад ибн Иахйа ал-ма‘руф би-л-Балазури, ал-джуз’ ал-аввал, тахкик ад-дуктур Мухаммад Хамидаллах, Каир, 1959.
‘Ариб.— ‘Arîb. Tabarî continuatus quem edidit, indicibus et glossario instruxit M.J. de Goeje, Lugduni—Batavorum, 1897.
* Артамонов, Хазары.— M.И. Артамонов, История хазар, Л., 1962.
Ахбар маджмуа.— Ajbar Machmuâ (Coleccion de tradiciones). Crónica anónima del siglo XI, dada á luz por primera vez, traducida у anotada por Don Emilio Lafuente у Alcántara, Madrid, 1067 (Coleccion de obras arábigas de historia у geografia, que publica la .Real Academia de la historia, t. 1).
Ахмад ибн Иахйа.— Al-Mu‘tazilah, being an extract of the Kitābu-l-Milal wannihal by al-Mahdi Lidîn allâh Ahmad b. Yahya b. al-Murtadâ, ed. T.W. Arnold, Leipzig, 1902;
* Die Klassen der Mu‘taziliten von Ahmad ibn Yahyā ibn al-Murtadā, hrsg. v. S. Diwald-Wilzer, Beirut, 1961 (Bibl. Islamica. 21).
Ахмад Са‘ид ал-Багдади, Надим ал-‘ариб.
Ал-А‘ша, Хизанат.— Сh.J. Lyall, The pictorial aspects of ancient Arabian poetry,— JRAS, 1912, стр. 132-152.
Аш‘ари.— Zur Geschichte Abu’l-Hasan al-As‘arî’s. Von W. Spitta, Leipzig, 1876.
* Китаб ал-ибана фи усул ад-дийана та’лиф Аби-л-Хасан ‘Али ибн Исма‘ил ал-Аш‘ари, Хайдарабад, 1321 [1903—04]; Каир, 1348 [1929—30].
* См. также: Die dogmatischen Lehren der Anhänger des Islam von Abu l-Hasan ‘Alī ibn Isma‘īl al-As‘arī, hrsg. von H. Ritter, I. Teil, Istanbul, 1929 (Bibliotheca Islamica im Auftrage der DMG hrsg. v. H. Ritter, Ia).
* Багдад.— Bagdād. Volume spécial publié à l’occasion du 1.200ème anniversaire de la fondation de cette cité (Arabica, vol. IX, fasc. 3), 1962.
См. также: Lassner.
Байан ал-мугриб.— Histoire de l’Afrique et de l’Espagne intitulée al-Bayano’l-Mogrib, trad. et annot. par E. Fagnan, vol. I-II, Alger, 1901—04.
* Ал-байан ал-мугриб фи ахбар ал-магриб та’лиф Ибн ‘Изари ал-Марракуши, т. I-II, Бейрут, 1950.
Байхаки.— Ibrahim ibn Muhammad al-Baihaqi Kitab al-Mahasin val-Masavi, hrsg. v. Dr. Er. Schwally, Giessen, 1902.
* Китаб ал-махасин ва-л-масави та’лиф Ибрахим ибн Мухаммад ал-Байхаки, т. I-II, Каир, 1326 [1906].
Index und Stellennachweise zu Fr. Schwally’s Baihaqî-Ausgabe (Giessen, Töpelmann, 1902) zusammengestellt v. O. Rescher, (Stuttgart, 1923).
Бакри (изд. де Слэна).— Abou-Obeid El-Вekri, Description de l’Afrique septentrionale. Texte arabe publ. par le Bon de Slane, Alger, 1867.
Балазури, Футух,— Liber expugnationis regionum, auctore Imamo Ahmed ibn Jahia ibn Djabir al-Beladsori quem e codice Leidensi et codice Musei Brittanici ed. M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1866.
* Английский перевод: The origins of the islamic state being a translation from the Arabic accompanied with annotations, geographic and historic notes of the Kitab Futuh al-Buldan of al-Imam abu-l‘Abbas Ahmad ibn-Jabir al-Baladhuri, vol. I, by Ph. Kh. Hitti, New York, 1916; pt (sic!) II, by. F.C. Murgotten, New York, 1924 [Studies in history, economics and public law edited by the Faculty of Political Science of Columbia University, vol. LXVIII, № 163, 163A).
* Китаб футух ал-булдан та’лиф Ахмад ибн Иахйа ибн Джабир ал-Багдади аш-шахир би-л-Балазури, Каир, 1319 [1901].
* Бартольд, Культура мусульманства.— В.В. Бартольд, Культура мусульманства, Пг., 1918; Сочинения, т. VI, стр. 143-204.
* Бартольд, О колесном и верховом движении.— В.В. Бартольд, О колесном и верховом движении в Средней Азии (Конспект последнего доклада, сделанного 10 мая 1930 г. в ГАИМК),— ЗИВАН, т. VI, 1937, стр. 5-7; Сочинения, т. IV, стр. 406-408.
* Бартольд, Сочинения.— Академик В.В. Бартольд, Сочинения, т. I-VI, М., 1963—1960. Т. I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, 1963; т. II (ч. 1). Общие работы но истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы, 1963; т. II (ч. 2). Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии, 1964; т. III. Работы по исторической географии, 1965; т. IV. Работы по археологии, нумизматике, эпиграфике и этнографии, М., 1966; т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов, 1968; т. VI. Работы по истории ислама и арабского халифата, 1966.
* Бартольд, Туркестан.— В.В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия,— Сочинения, т. I.
* Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса».— В.В. Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса»,— 3КB, V, Л., 1930, стр. 1-14; Сочинения, т. VI, стр. 647-629.
Бируни. Индия.— Alberuni’s India. An account of the religion, philosophy, literature, chronology, astronomy, customs, laws and astrology of India about A.D. 1030. Ed. in the Arabic original by E. Sachau, London, 1887/
* Al-Biruni, Kitab fi Tahqiq-i ma li’l Hind or Al-Biruni’s India, revised edition, Hayderabad, 1968.
Бируни, Индия (пер. Захау).— Alberuni’s India. An account of the religion, philosophy, literature, geography, chronology, astronomy, customs, laws and astrology of India about A.D. 1030. An English edition, with notes and indices by E.C. Sachau, vol. I-II, London, 4888 (Trübner’s Oriental Series) (new ed., London, 1910).
* Русский перевод: Абу Рейхан Бируни (973—1048), Избранные произведения, т. II, Ташкент, 1963 (пер. А.Б. Халидова и Ю.Н. Завидовского).
Бируни, Китаб ал-джамахир,— Е. Wiedemann, Über den Wert von Edelsteinen bei den Muslimen,— DI, 2, 1911, стр. 345-358.
* Китаб ал-джамахир фи ма‘рифат ал-джавахир та’лиф Аби Райхан ал-Бируни, 1355 [1936—37].
* Einleitung zu al-Birunis Steinbuch, mit Erläuterungen übersetzt v. Taki ed-Din al-Hilali, Leipzig, 1941 (Samml. or. Arb., 7).
* F. Krenkow, The chapter on pearls in the Book on precious stones by al-Biruni,— IC, 15, № 4, 1941, стр. 399-424; № 16, 1942, стр. 21-36.
* Русский перевод: Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмед ал-Бируни, Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия), пер. А.М. Беленицкого, [Л.], 1963.
Бируни, Хронология.— Chronologie orientalischer Völker von Alberuni. Hrsg. von Dr. С.E. Sachau, Leipzig, 1878.
Бируни, Хронология (пер. Захау).— The chronology of ancient nations. An English version of the Arabic text of the Athar-ul-bakiya of Albiruni, or «Vestiges of the Past», collected and reduced to writing by the author in A.H. 390—1, A.D. 1000. Transl. and ed., with notes and index, by Dr. С.E. Sachau, London, 1879.
Русский перевод: Абурейхан Бируни (973—1048), Избранные произведения, т. I (пер. и примечания М.А. Салье), Ташкент, 1957.
Бустан ал-‘арифин.— Китаб танбих ал-гафилин ли-ш-шайх Наср ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Самарканди ва би-хамишихи бустан ал-‘арифин ли-л-му’ал-лиф айдан, Каир, 1306 [1888—89].
* Танбих ал-гафилин ли-маулана аш-шайх Наср ибн Мухаммад Ибрахим ас-Самарканди ва би хамишихи бустан ал-гарифин ли-л-му’ал-лиф айдан, Каир, 1311 [1893—94].
Бутрус ибн Рахиб.— Petrus ibn Rahib, Chronicon orientale ed. L. Oheikho, Beryti—Parisiis—Lipsiae, MCMIII (CSCO, SA, 4).
Бухари, Китаб ат-таухид.— См.: Goldziher, Zahiriten.
Бухари, Сахих.— Le recueil des traditions mahométanes par Abou Abdallah Mohammed ibn Ismail el-Bokhari. Publie par L. Krehl, vol. I-III, Leyde, 1862, 1864, 1868; vol. IV continue par Th.W. Juynboll, Leyde, 1908.
* Le «Sahih» d’al-Buharl, reproduction en phototypie des manuscrits originaux de la recension occidental dite «Recension d’Ibn Sa‘ada» établie a murcie en 492 de l’Hégire (1099 de J.-C), publ. avec une introduction par E. Lévi-Provençal, vol. I-V, Paris, 1928 sq. (vol. I, t. 2 «Сахиха»; vol. II — t. 3; vol. III — t. 4; vol. IV — t. 5; vol. V — т. 1).
* Французский перевод: El-Bokhari, Les traditions islamiques, trad, de l’arabe avec notes et index par O. Lindas et W. Marçais, t. I-IV, Paris, МСМIII—MCMVI—MCMXIV (PÉLOV, IVe ser., t. III—IV).
* См. также: О. Rescher, Vocabulaire du recueil de Bokhari, Stuttgart, 1922.
* O. Rescher, Sachindex zu Bokhari nach der Ausgabe Krehl — Juynboll und der Übersetzung von Houdas — Marçais, Stuttgart, 1903.
* Сахих ал-Бухари, т. I-VIII, Каир, 1300 [1882—83], 1323 [1905—06]; Бомбей, 1869, 1873 и др., а также:
* ас-Сахих ли-л-Бухари, т. I-IV, Каир, 1286 [1869—70]; т. I-IX, Каир, 1323 [1905—06].
Бухтури, Диван.— Диван та’лиф ал-Бухтури, Стамбул, 1300 [1882—83]; Каир, 1329 [1911].
* Издание Халила Мардама, Дамаск, 1369 [1949—60].
Ватари, Раудат ан-назирин.— Раудат ан-назирин ва хуласат манакиб ас-салихин та’лиф Дийа’ ад-Дин Аби Мухаммад Ахмад ибн Мухаммад ал-Ватари ал-Маусили ал-Багдади аш-Шафи‘и ар-Рифа‘и, Каир, 1306 [1888—89].
Вениамин Тудельский.— The itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Transl. and edit. by A. Asher, vol. I-III, London & Berlin, 1840—41.
* Die Reisebeschreibungen des R. Benjamin von Tudela nach drei Handschriften, aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammend, und ältern Druckwerken ediert u. übersetzt, mit Anmerkungen u. Einleitung versehen vol. L. Grünhut u. M.N. Adler, Teil I-III, Jerusalem, 1903—04 (t. II — 1903; t. I — 1904).
* Русский перевод: Три еврейские путешественника XI и XII ст. Эльдад Данит, р. Вениамин Тудельский и р. Петахия Регенсбургский, еврейский текст с русским переводом, перевод, примечания к карты П. Марголина, СПб., 1881.
* Исследование: Р. Borchardt, Der Reiseweg des Rabbi Benjamin von Tudela und des Rabbi Petachia aus Regensburg in Mesopotamien und Persien. Ein Versuch,— JJG, 16, 1924.
Гардизи.— В.В. Бартольд, Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью, 1893—1894. СПб., 1897 (ЗИАН, ОИФ, сер. VIII, т. I, № 4).
* Kitab Zainu’l-Akhbar. Composed by Abu Sa‘id ‘Abdu‘l-Hayy b. ad-Dahhak b. Mahmud Gardizi about 440 a.H., ed. by Muhammad Nazim, London, 1928.
* Зайн ал-ахбар та’лиф Абу Са‘ид ‘Абд ал-Хайй ибн Даххак ибн Махмуд Гардизи…, Тегеран, 1315 [1937].
* Зайн ал-ахбар…, Тегеран, 1333 [1954].
Гольдциер, «Kultur der Gegenwart».— I. Goldziher, Die Religion des Islams,— Kultur der Gegenwart…, hrsg. v. P. Hinneberg, t. I, Abt. III/I: Die Religionen des Orients, 2. Aufl., Leipzig u. Berlin, 1913, стр. 100-145.
Гузули, Матали‘ ал-будур.— Матали‘ ал-будур фи маназил ас-сурур та’лиф ‘Ала’ ад-Дин ‘Али ибн ‘Абдаллах ал-Баха’ и ал-Гузули, т. I-II. Каир, 1300 [1882—83].
Дабби, Бугйат ал-муталаммис.— Desiderium qauerentis historiam virorum populi Andalusiae (Dictionarium biographicum) ab Adh-Dhabbi scriptum, ed. F. Codera et J. Ribera, Matriti, MDCCCLXXXV (BAH, t. III).
Дамиpи.— Хайат ал-хайаван ал-кубра та’лиф аш-шайх Камал ад-Дин ад-Дамири ва би-хамишихи Китаб ‘аджа’иб ал-махлукат ва хайванат ва гара’иб ал-мауджудат та’лиф ал-Казвини, Булак, 1284 [1867—68]; Тегеран, 1285 [1868—69]; Каир, 1306 [1888—89]; 1311 [1893—94]; 1321 [1903—04].
Джами‘ ас-сагир.— Китаб джами‘ ас-сагир фи-л-фикх та’лиф Мухаммад ибн ал- Хасан аш-Шайбани ва би-хамишихи китаб ал-харадж ли-л-кади Аби Йусуф, Каир, 1302 [1884—85].
Джамхарат ал-ислам.— см.: Шайзари, Джамхара.
Джаубари, Китаб ал-мухтар.— Джаубари, Китаб ал-мухтар фи кашф ал- асрар, венская рукопись № 1434 (Flügel, Handschriften, II, стр. 501).
* Об этой рукописи см.: Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten Inhalts. Mit Benutzung handschriftlicher Quellen v. M. Steinschneider, Leipzig, 1877 (AfKM, Bd 6, № 3, стр. 188-191).
Джаухари, Словарь.— Китаб тадж ал-луга ва саххах ал-‘арабийа ли-л-Джаухари, т. I-II, Булак, 1282 [1865—66].
Джахиз, Байан.— Китаб ал-байан ва-т-табйин та’лиф Аби ‘Усман ‘Амр ал-Джахиз, т. I-II, Каир, 1313 [1895—96]; изд. Мухиб ад-Дина ал-Хатиба, Каир, 1332 [1914—15] (три части в одном томе).
Джахиз, Китаб ал-бухала.— Le livre des avares par Abou Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz de Basra, texte arabe, publié d’après le manuscrit unique de Constantinople par G. van Vloten, Leyde, 1900.
* Русский перевод: Абу Осман Амр ибн Бахр аль-Басри аль-Джахиз, Книга о скупых, пер. X.К. Баранова, М., 1965.
Джахиз, Манакиб.— Tria opuscula auctore Abu Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz Basrensi quae edidit G. van Vloten (opus posthumum), Lugduni Batavorum, 1903.
* Английский перевод: С.T.Н. Walker, Jahiz of Basra to al-Fath ibn Khaqan on the «Exploits of the Turks and the army of the khalifate in general»,— JRAS, 1915, стр. 631-697.
Джахиз, Тираз ал-маджалис.— Рисалат фи васф ал-‘авами ли-Аби ‘Усман ибн Бахр ал-Джахиз в книге: Тираз ал-маджалис ли-маулана Шихаб ад-Дин Ахмад ибн Мухаммад ал-Хафаджи, Каир, 1284 [1867—68], стр. 175 и сл.
Джахиз, Фусул.— Китаб мухтарат фусул ал-Джахиз, рукопись Британск. музея, Or. № 3138 (Riеu, Suppl. Arab., стр. 709-710).
Джахиз, Хайаван.— Китаб ал-хайаван ли Аби ‘Усман ибн Бахр ал-Джахиз, т. I-VII, Каир, 1352 [1907—08].
* Ал-Джахиз, Китаб ал-хайаван, с комментариями ‘Абд ас-Салама Мухаммада Харуна, т. I-VII, Каир, 1938—1947.
* См. также: The Life and Works of Jāḥiẓ, ed. by Charles Pellat, Berkeley, 1969 (The Islamic World).
Джурджани.— Asrār al-Balāgha. The. Mysteries of eloquence of 'Abdalqāhir al-Jurjānī edited by Hellmut Ritter, Istanbul, 1954.
* Немецкий перевод: Die Geheimnisse der Wortkunst. (Asrar al-Balaga) des ‘Abdalqahir al-Ğurğani aus dem arabischen übersetzt von Hellmut Ritter, Wiesbaden, 1959 (Bibliotheca Islamica, Bd 19).
Диван ал-инша’— Китаб диван ал-инша’, парижск. рукопись, № 4439 (De Slane. Catalogue BN, стр. 708).
Димашки, Махасин ат-тиджара.— Махасин ат-тиджара… та’лиф Шамс ад-Дин Аби ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ибрахим ибн Аби Талиб ал-Ансари ас-Суфи ад-Димашки, Каир, 1318 [1900—01].
Замахшари, Кашшаф.— Ал-кашшаф ‘ан хака’ик ат-танзил ли-имам ал-‘аллама Аби-л-Касим Махмуд ибн ‘Амр аз-Замахшари ал-Хуваризми, т. I-II, Булак, 1281 [1864—65]; Каир, 1318 [1900—01]; 1344 [1924—26]; 1354 [1935—36].
См. также: The Qoran; with the commentary of the Imam Aboo al-Qasim Mahmood bin ’Omar al-Zamakhshari, entitled «The Kashshaf ’an haqaiq al-tanzil». Edited by W. Nassau Lees, and Mawlawis Khadim Hosain and ‘Abd al-Hayi, vol. I-II, Calcutta, 1856.
3apкани.— Китаб ал-муватта’ фи-л-хадис та’лиф Малик ибн Анас ал-Химйари ал-Мадани с комментариями аз-Заркани (также аз-Зуркани), т. I-IV, Булак, 1280 [1863—64]; Каир, 1310 [1892—93].
3ахаби, Табакат ал-хуффаз.— [Китаб табакат ал-хуффаз] Liber classium virorum qui Korani et traditionum cognitione exceiluerunt auctore Abu Abdalla Dahabio. In epitomen coegit et continuavit Anonymus, E codice Ms. Bibliothecae Due. Gothan. lapide excribendum curavit H.F. Wüstenfeld, Part I, MDCCCXXXIII Gottingae.
3axаби, Та’рих ал-ислам — см. Amedrоz, JRAS, 1911.
3axиpи — см. Кашф ал-мамалик (изд. Равесс).
Зинад ал-вари‘.— Мухаммад ибн ‘Аррак, Китаб аз-зинад ал-вари‘ фи абна’ ас-сарари, лейденская рукопись № 518 (DXVIII) (Catalogus LB, ed. sec., vol. I, стр. 323).
Зубдат ал-фикра.— Байбapс ал-Мансури, Зубдат ал-фикра фи та’рих ал-хиджра, парижск. рукопись № 1572 (dе Slane, Catalogue BN, стр. 296).
[Сочинение Байбарса ал-Мансури — всеобщая история ислама, доведенная до 724/1324 г., в 11 томах; поскольку у А. Меда идет речь о событиях 306 г.х., то следует смотреть т. 5 — 252—322/866—934 гг.].
Ибн Абу Усайби‘а.— [Ibn Abl Usaybi‘a], ‘Uyun al-anba’ fi tabaqat al-atibba’, hrsg. v. A. Müller, Bd 1-2, Königsberg i. Pr., 1884.
См. также: Ueber Abi Oceibi‘a und seine Geschichte der Aerzte. Von August Müller,— «Actes du sixième CIO tenu en 1883 à Leide». Deuxième partie. Section I: Sémitique, Leide, 1885, стр. 257-280.
Ибн ‘Азари.— Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-Byano’l-Mogrib, par Ibn-Adhári (de Maroc), et fragments de la chronique d’Arib (de Cordoue). Le tout publié pour la première fois, précédé d’une introduction et accompagné de notes et d’un glossaire, par R.P.A. Dozy, vol. I, Leyde, 1848—1851; vol. II, Leyde, 1849—1851.
* Продолжение: E. Levi-Provençal, Al-Bayán al-mugrib d‘Ibn ‘Idari, t. III. Histoire de l’Espagne musulmane au XI-е siйcle, Paris, 1930 (Textes arabes relatifs à l’histoire de l'Occident musulman, vol. II).
См. также: Corrections sur les textes du Bayáno’l-Mogrib d’Ibn Adhári (de Maroc), des fragments de la chronique d’Arib (de Cordoue) et du Hollato ’s-siyará d’Ibno’l-Abbár, par R. Dozy, Leyde, 1883.
Ибн ал-Асир.— Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed. C.J. Tornberg, vol. I-XIV, Upsaliae et Lugduni Batavorum, 1851—1876 (I — L.B., 1867; II — L.B., 1868; III — L.B. 1869; IV — L.B., 1870; V — L.B., 1871; VI — L.B., 1871; VII — L.B., 1865; VIII — L.B., 1862; IX — L.B., 1863; X — L.B., 1864; XI — L.B., 1863; X — L.B., 1864; XI — Ups. 1851; Suppl. 1871; XII — Ups., 1853; Suppl. 1871; XIII — L.B., 1874; XIV — L.B., 1876).
Та’рих ал-камил ли-л-‘аллама Аби-л-Хасан ‘Али ибн Аби-л-Карам Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ибн ‘Абд ал-Вахид аш-Шайбани ал-ма‘руф би Ибн ал-Асир…, т. I-XII, Каир, 1301 [1883—84].
* Изд. Наджжара.— Ал-камил фи-та’рих ли-л-‘аллама ‘умдат ал-му’аррихин Аби-л-Хасан ‘Али ибн Аби-л-Карам Мухаммад ибн Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим ибн ‘Абд ал-Вахид аш-Шайбани ал-ма’руф би Ибн ал-Асир…, Каир, т. I-IX, 1348—4359 [1929—1940]. (Т. I — 1348 [1929—30]; т. II — 1349 [1930—31]; т. III — 1356 [1937—38]; т. IV-V — 1357 [1938—39]; т. VI-VII — 1353 [1934—35]; т. VIII-IX — 1359 [1940]).
Ибн Байтар.— [L. Leclerc], Traité des simples par Ibn el-Beithar,— «Notices et Extraits», t. 23, 25, 26, Paris, 1877, 1881, 1883.
Ибн ал-Балxи.— Description of the province of Fars, in Persia, at the beginning of the twelfth century A.D., transl. from the MS. of Ibn-al-Balkhi in the British Museum by G. Le Strange — JRAS, 1912, стр. 1-130, 311-339, 865-893.
Продолжение: Description of the province of Fars in Persia at the beginning of the fourteenth century A.D. From the MS. of Ibn al-Balkhi in the British Museum by G. Le Strange, London, 1912 (ASM, XIV).
* The Fársnáma of Ibnu’l Balkhi, ed. by G. Le Strange and R. Nicholson, London, 1921 (GMS, NS, 1).
Ибн Башкувал.— Aben-Pascualis Assila (Dictionarium biographicum), ad fidem codicis Escurialensis arabice nunc primurn edidit et indicibus locupletissimis instruxit F. Codera, Matriti, MDСCСLXXXIII (BAH, t. I-II).
* Изд. ‘Иззат ал-‘Аттара.— Китаб ас-сила фи ахбар а’иммат ал-Андалус…, ли Аби-л-Касим Халаф ибн ‘Абд ал-Малик ибн Мас‘уд ибн Башкувал ал-Куртуби, т. I-II, Каир, 1955.
Ибн Бутлан.— Абу-л-Хасан ал-Мухтар ибн ал-Хасан ибн ‘Абдун ал-Багдади ибн Бутлан, Рисала… фи шира-р-ракик ва таклиб ал-‘абид, берлинск. рукопись № 4979 (Ahlwardt, Verzeichniss, IV, стр. 349).
* Ибн ал-Варди.— Харидат ал-‘аджа’иб ва фаридат ал-гара’иб му’аллифуху-л-ал-лама Сирадж ад-Дин Аби Хафс ‘Умар ибн ал-Варди, Каир, 1292 [1875]; там же, 1302 [1884—85], 1316 [1898—99].
Другие издания: Aegyptus auctore Ibn al-Vardi. Ex Apographo Escorialensi, una cum lectionibus variis e Codice Dresidensi primus edidit, vertit, notulisque illustravit Ghr. M. Fraehn, Halae, MDCCCIV.
De rebus dieressurrectionis eventuris. Fragmentum ex libro cosmographico «Margarita mirabilium» Sein ed-dini Ibn al-Vardi e codd. MSS. Bibl. Vratislav. et Lugd. Batav. praemissis de auctoris vita, scribendi ingenio etc. etc. primum editum latine versum notisque illustratum S. Freund, Vratislaviae [1853].
Fragmentum libri Margarita mirabilium, auctore Ibn-el-Vardi, Prooemium, Caput secundum, tertium, quartum et quintum continens. E Codice Upsaliensi edidit, latine vertit, variantes lectiones e Cold. Suchte'leniano adjecit C.J. Tornberg. Pars prior, Upsaliae, MDCCCXXXV; Pars secunda, pars posterior, ibid., MDCCCXXXIX.
* Ибн ал-Джаузи, Китаб ал-азкийа.— Китаб фи ахбар ад-азкийа’ та’лиф Джамал ад-Дин Абу-л-Фарадж ‘Абд ар-Рахмпн ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Джаузи, Каир, 1304 [1886—87], 1306 [1888—89].
* Das Kitâb el-aḏkijâ, des Ibn el-Ğauzi (mit einigen Kürzungen) nach dem Druck Cairo 1306 und der Hs. ‘Umûmijje 5341 aus dem Arabischen übersetzt von O. Rescher, Galata, 1925.
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам.— Ал-джилд ас-сани мин китаб ал-мунтазам ли-л-хафиз аш-шайх Джамал ад-Дин Аби-л-Фарадж ал-Джаузи, берлинск. рукопись, № 9436 (Ahlwardt, Verzeichniss, IX, стр. 45-46).
* Kitâb al-Muntaẓam wa-multaqat al-multazam, ed. by F. Krenkow, Haydarabad, 1357 [1938—39].
* Ал-мунтазам фи та’рих ал-мулук ва-л-умам та’лиф аш-шайх ал-имам Аби-л-Фарадж ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн ал-Джаузи ал-мутаваффан саната саб‘а ва тис‘ин ва хамсами’а, т. I-X, Хайдарабад, 1357—1359 [1938-39—1940].
Ибн ал-Джаузи, Та’рих.— Джамал ад-Дин Абу-л-Фарадж ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Али ибн Мухаммад ал-Джаузи, Ал-джуз’ ал-аввал мин та’рих, берлинск. рукопись, № 9435 (Ahlwardt, Verzeichniss, IX, стр. 44-45).
Ибн Джубайр.— [Рихла Ибн Джубайр], The travels of Ibn Jubair. Ed. from a MS in the University Library of Leyden by W. Wright, Leyden, 1852.
The travels of Ibn Jubair ed. from a MS in the University Library of Leyden by W. Wright, Second edition revised by M.J. De Goeje, Leyden — London, 1907 (GMS, V).
* Рихла Ибн Джубайр ал-кагиб ал-адиб ал-бари‘ ал-лабиб Аби Хусайн Мухаммад ибн Ахмад ибн Джубайр ал-Кинани ал-Андалуси, Каир, 1326 [1908].
* Рихла Ибн Джубайр…, изд. Хусайна Нассара, Каир, 1374 [1954—1955].
* Французский перевод: Ibn Jobair, Voyages, traduits et annotés par M. Gaudefroy-Demombynes, ч. 1-3, Paris, 1949—1951 (Documents, relatifs à l’histoire des Croisades, t. IV, publ. par l’Académie des inscriptions et belles-lettres).
Ибн Дукмак.— Vollers, Description de I'Égypte par Ibn Doukmak publiée d’après le manuscrit autographe conservé à la Bibliothèque Khédiviale, Le Caire, 1893.
Ибн Зафар ал-Макки, Китаб анба’.— Ибн Зафар ал-Макки, Китаб анба’ нуджаба’ ал-абна’, берлинск. рукопись, № 9506 и 9507 (Ahlwardt, Verzeichniss, IX, стр. 105-106).
Ибн ал-Каланиси.— History of Damascus 363—555 a.h. by Ibn al-Qalanisi from the Bodleian Ms. Hunt. 125, being a continuation of the history of Hilal al-Sabi. Ed. with Extracts from other histories and Summary of Contents by H.F. Amedroz,. Leyden, 1908.
Ибн ал-Кифти.— Ibn al-Qifṭi’s Ta’rih al-Ḥukamā’. Auf Grand der Vorarbeiten Aug. Müller’s hrsg. von J. Lippert, Leipzig, 1903.
Ибн Кутайба, Адаб ал-катиб.— Ibn Kutaibas Adab al-Kātib, nach mehreren Handschriften hrsg. von M. Grünert, Leiden, 1900.
* Адаб ал-катиб та’лиф Абу Мухаммад ‘Абдаллах ибн Муслим ибн Кутайба ад-Динавари, Каир, 1300 [1882—83]; 1310 [1892—93]; 1328 [1940]; 1347 [1928—29].
* G. Lесоmtе, L’introduction du «Kitāb adab al-katib» d’Ibn Qutaiba,— «Mel. L. Massignon», III, Damas, 1957, стр. 45-64.
Ибн Кутайба, Китаб аш-ши‘р,— Ibn Qotaiba, Liber роësis et роëtarum quem edidit M.J. de Goeje, Lugduni — Batavorum, 1904.
* Ibn Qotaïba, Introduction au livre de la poésie et des poètes. Muqaddimatu Kitabi š-ši‘ri wa š-šu‘ara. Texte arabe d’après l’édition De Goeje avec introduction, traduction et commentaire par Gaudefroy-Demombynes, Paris, 1947 (Collection arabe publiée sous la patronage de l’association Guillaume Budé).
Ибн Кутайба, Михлат.— Китаб ал-михлат та’лиф Баха’ ад-Дин Мухаммад ибн Хусайн ибн ‘Абд ас-Самад ал-Хариси ал-Джаба‘и ал-Амили ал-Баха’и [на полях: Суккардан ас-султан (см.)], Каир, 1317 [1899—1900].
Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис.— Китаб та’вил мухталиф ал-хадис та’лиф ал-имам Ибн Кутайба ад-Динавари, Каир, 1326 [1908].
* Китаб ‘уйун ал-ахбар та’лиф Аби Мухаммад ‘Абдаллах ибн Муслим ибн Кутайба ад-Динавари…, т. I-IV, Каир, 1343—1349 [1925—1930] (т. I — 1343 [1925]; т. II — 1346 [1908]; т. III — 1348 [1930]; т. IV — 1349 [1930].
* Частичный английский перевод: J. Horоvitz, Ibn Quteiba’s ‘Uyun a-l-Akhbar…,— IС, IV-V, 1929—1930, стр. 171-198, 331-362.
* G. Lecomte, Ibn Qutayba, Damas, 1965.
Ибн ал-Му‘тазз, Диван.— Диван амир ал-му’минин Ибн ал-Му‘тазз ал-‘Аббаси, т. I-II, Каир, 1891[3695].
* Der Diwan des ‘Abdallah Ibn Al-Mu‘tazz, hrsg. von Bernhard Lewin, Teil III, Istanbul, 1950; Teil IV, Istanbul, 1945 (Bibliotheca Islamica, Bd 17, c, d).
* Ибн Нубата, Проповеди.— Диван хутаб Ибн Нубата ва йалихи хутаб валадихи Аби Тахир Мухаммад, изд. и комментарии Тахир-эфенди ал-Джаза’ири, Бейрут, 1311 [1893—94].
Ибн Рашик, ‘Умда.— Китаб ал-‘умда фи сина‘ат аш-ши‘р ва накдих та’лиф Аби ‘Али ал-Хасан ибн Рашик ал-Кайравани, Каир, 1325 [1907—08].
Ибн Руста, География,— Kitâb al-a‘lâk an-nafîsa VII auctore Abû alî Ahmad ibn Omar ibn Rosteh et Kitâb el-boldân auctore Ahmed ibn abî Jakûb ibn Wâdhih al-Kâtib al-Jakûbî (ed. M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum; edit. 2, 1892), (BGA, VII) [Ибн Руста — стр. 1-229].
* Русский перевод: Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-Али Ахмеда Бен Омар Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя начала X века, по рукописи Британского Музея в первый раз издал, перевел и объяснил Д.А. Хвольсон, СПб., 1869.
Ибн Са‘ид, Мугриб.— Fragmente aus dem Muġrib des Ibn Sa‘îd. Hrsg. von K. Vollers. I. Bericht über die Handschrift und das Leben des Aḫmed ibn Ṭûlûn von Ibn Sa‘îd nach Ibn ed-Dâjä, Berlin, 1894 (Semitische Studien. Ergänzungshefte zur ZA. Hrsg. v. C. Bezold, H. I).
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста).— Ibn Sa‘îd, Kitâb al-Muġrib fî ḥulâ al-Maġrib, Buch IV, Geschichte der Iḫšîden und fusṭâtensische Biographien. Arabischer Text mit Anmerkungen und Registern hrsg. von K.L. Tallqvist, Leiden, 1899.
* Ибн Tагpибиpди.— Abu’l-Mahвsin ibn Taghrо Birdо’s Annals entitled an-nujыm az-zвhirв fо mulыk Misr wal-Kвhirв, vol. 2, pt 2, № 1, 2, 3, Berkeley, 1909—1912; vol. 3, № 1, ibid., 191З; vol. 5, pt 1, 2, 3, ibid., 1932—35; vol. 6, pt 1, № 1, 2, 3, pt 2, № 1, 2, ibid., 1915—23; vol. 7, part 1-8, ibid., 1926—29 (University of California Publications in Semitic Philology, vol. 2, 3, 5, 6, 7).
* Ан-нуджум аз-захира фи мулук Миср ва-л-Кахира, та’лиф Аби-л-Махасин Джамал ад-Дин Йусуф ибн Тагрибирди ибн ‘Али аз-Захири ал-Джувайни, Каир, 1348—1355 [1929-30—1936-37].
Ибн Таймийа.— См. Schreiner, ZDMG, 52, 53.
Ибн Тайфур.— Sechster Band des Kitâb Bagdâd von Ahmad ibn abî Tâhir Taifûr. Hrsg. und übers. von H. Keller. t. I: Arabischer Text; t. II: Deutsche Übersetzung, Leipzig, 1908.
* Китаб та’рих Багдад та’лиф Аби-л-Фадл Ахмад ибн Аби Тахир Тайфур, Каир, 1368 [1948—49].
Ибн ал-Факих.— Compendium libri Kitâb al-BoIdân auctore lbn al-Fakîh al-Hamadhânî, quod edidit, indicibus et glossario instruxit M.J. de Goeje, Lugduni — Batavorum, 1885 (BGA, V).
* Ибн ал-Факих.— Compendium libri Kitâb al-BoIdân auctore lbn al-Fakîh al-Hamadhânî, quod edidit, indicibus et glossario instruxit M.J. de Goeje, Lugduni — Batavorum, 1885 (BGA, V).
Китаб мудхал та’лиф Аби ‘Абдаллах Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ал-‘Абдари аш-шахир би Ибн ал-Хаджж, т. I-III, Каир, 1320 [1902—03].
Ибн ал-Хаджжадж, Диван (готск. рук.).— Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн ал-Хусайн ибн ал-Хаджжадж ал-Багдади, [Диван], готская рукопись № 2235 (Pertsсh, Handschriften, III, стр. 250-251).
Ибн ал-Хаджжадж, Диван (лондонск. рук.).— Абу ‘Абдаллах ал-Хусайн ибн Ахмад ал-машхур би Ибн ал-Хаджжадж ал-Багдади, Диван, т. II, лондонская рукопись № 584 (Catalogus MB, II, стр. 278).
Там же: Диван Ибн ал-Хаджжадж, рукопись № 1048 (Rieu, Suppl. Arab., стр. 662).
Ибн ал-Хаджжадж, Диван (Марджана) — Ибн ал-Хаджжадж, Диван, т. I-X, рукопись библиотеки Марджана в Багдаде.
Ибн Хаджар.— Ахмад ибн ‘Али ибн Хаджар ал-‘Аскалани, Раф‘ ал-иср ‘ан кудат Миср, парижская рукопись, № 2149 (dе Slane, Catalogue BN, стр. 381).
Ибн Xазм, Милал.— Китаб ал-фасл фи милал ва-л-ахваи’ ва-н-нихал ли-л-имам Аби Мухаммад ‘Али ибн Ахмад ибн Хазм аз-Захири ва би-хамишихи ал-милал ва-н-нихал ли-л-имам Аби-л-Фатх Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим аш-Шахрастани, т. I-V, Каир, 1317—1321 [1899—1904] (I — 1317; II-III — 1320; IV-V — 1321).
* Ал-фасл фи-л-милал ва-л-ахва’ ва-н-нихал ли-л-имам Ибн Хазм аз-Захири ал-Андалуси… ва би-хамишихи ал-милал ва-н-нихал ли-ш-Шахрастани…, изд. ‘Абд ар-Рахман Халифа, т. I-IV, [Каир], 1347 [1929].
* Английский перевод: I. Friedländer, The Heterodoxies of the shiites,— JAOS, XXVIII, 1907, стр. 1-80; XXIX, 1908, стр. 1-183.
Ибн ал-Халавайxи, Китаб лайса.— Китаб лайса фи калам ал-‘араб та’лиф Аби ‘Абдаллах ал-Хусайн ибн Ахмад ал-ма‘руф би Ибн Халавайх, изд. Ахмад ибн ал-Амин аш-Шинкити, Каир, 1327 [1909].
Издание Г. Деранбура — Китаб лайса, ч. I, см.: Hebraiса, X, стр. 88-105; «Amer. Journ. of Sem. Lang. and Lit», XIV, 1898, стр. 81-93; XV, 1898—99, стр. 32-41, 215-223; XVIII, 1901, стр. 36-51.
Ибн Халдун. Китаб ал-‘ибар.— Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale par Abou-Zeid Abd-er-Rahman ibn-Mohammed ibn-Khaldoun. Texte arabe: Tome premier, publié par ordre de M. le Ministre de la guerre. Collationné sur plusieurs manuscrits par M. le Bon de Slane, Alger, 1847; Texte arabe: Tome second, Alger, 1851.
* Китаб ал-‘ибар ва диван ал-мубтада’ ва-л-хабар фи аййам ал-‘араб ва-л-‘аджам ва-л-барбар ва ман ‘асарахум мин зави-и-султан ал-акбар та’лиф ‘Абд ар-Рахман ибн Халдун ал-Магриби, т. 1-7, Булак, 1284 [1867—68]; Каир, 1322 [1904—05]; там же, 1327 [1909]; Бейрут, 1900.
Французский перевод: Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrionale par Ibn-Khaldoun, traduite de l’arabe par M. le Baron de Slane, t. I-IV, Alger, 1852—1856 (t. I — 1852; t. II — 1854; t. III — 1856; t. IV — 1856).
Ибн Халдун, Мукаддама.— Prolégomènes d’Ebn-Khaldoun. Texte arabe publié, d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale, par E. Quatremère, Paris, 1858 (Notices et extraits, t. XVI, pt I; t. XVII, pt I; t. VIII, pt. I).
Французский перевод: Les Prolégomènes d‘lbn Khaldoun, traduits en français et commentés par M. de Slane, Paris, 1863—1868 (Notices et extraits, t. XIX, pt I; t. XX, pt I; t. XXI, pt I).
* Les prolégomènes d’Ibn Khaldoun, traduits en français et commentés par M. de Slane. Reproduction photomécanique de la première partie des tomes XIX, XX et XXI de Notices et Extraits… Preface de G. Bouthoul, pt I-III, Paris, 1934, 1936, 1938.
* Английский перевод: Ibn Khaldыn, The Muqaddimah. An introduction to history. Transl. from the Arabic by F. Rosenthal, vol. 1-3, New York, 1958 (Bolingen Series, XLIII).
* См. такжe: H. Simоn, lbn Khalduns Wissenschaft von der menschlichen Kultur, Leipzig, 1969; С.M. Бациева, Историко-социологический трактат Ибн Халдуна «Мукаддима», М., 1965.
Ибн Халликан (изд. Вюстенфельда).— lbn Challikani Vitae illustrium virorum. E pluribus codicibus manuscriptis inter se collatis nunc primum arabice edidit, variis lectionibus, indicibusque locupletissimis instruxit F. Wüstenfeld, fasc. I-XIII, Gottingae, 1835—1837.
Изд. дe Слэна: Kitab wafayat al-aiyan. Vies des hommes illustres de l’lslamisme en arabe, par lbn Khallikan, publiés d’après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi et d’autres Bibliothèques, par le Вon Mac Guckin de Slane, t. I, Paris, 1842.
Перевод де Слэна: [Китаб вафайат ал-а'йан] Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, transl. from the Arabic by Bn Mac Guckin de Slane, vol. I-IV, Paris, 1842—1871 (I — 1842, II — 1848, III — 1848, IV — 1871).
* Китаб вафайат ал-а‘йан ва анба’ абна’ аз-заман та’лиф ал-кади Ахмад аш-шахир би Ибн Халликан, т. I-II, Булак, 1280 [1858—59].
* Вафайат ал-а‘йан ва анба’ абна’ аз-заман ли Аби-л-‘Аббас Шамc ад-Дин Ахмад ибн Мухаммад ибн Аби Бакр ибн Халликан… хаккакаху ва ‘аллака хавашийаху ва сана‘а фахарисаху Мухаммад Мухйи-д-Дин ‘Абд ал-Хамид, т. I-VI, Каир, 1948.
Ибн Хамдис.— II Canzoniere di ‘Abd al-Ğabbâr Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn Ḥamdîs, poeta Arabo di Siracusa (1056—1133). Testo arabo pubblicato nella sua integrita quale risulta dai codici di Roma e di Pietroburgo, coll’ aggiunta di poesie dello stesso autore ricavate da altri scrittori da C. Schiaparelli, Roma, 1897 (Pubblicazioni scientifiche del R. Istituto Orientale in Napoli, I).
[C.C. Monçada], II Diwan del poeta Abi Muhammed ‘Abd al-Djabbar Ibn Hamdis il Siciliano pubblicato, Palermo, 1883.
Ибн Хамдун, Тазкира.— см. Amеdrоz, JRAS, 1908.
Ибн Хамдун, Тазкира (лондонск. рук.).— Тазкира ибн Хамдун, лондонская рукопись, № 1137 (т. I) и № 1138 (т. II) (Riеu, Suppl. Arab., стр. 715-718) [т. 5 — хранится в Рукописном отделе ЛО ИВ, шифр С 677].
Ибн Хамдун, Тазкира (парижск. рук.).— Ат-тазкира ал-хамдунийа, парижская рукопись, № 3324 (dе Slane, Catalogue NB, стр. 581).
Ибн Xанбал, Муснад.— Муснад ал-имам Аби ‘Абдаллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал аш-Шайбани ал-Марвази…, Каир, 1343 [1895—96].
Ибн Хани’, Диван.— Диван, та’лиф Абу-л-Касим ва Абу-л-Хасан Мухаммад ибн Хани’ ал-Азди ал-Андалуси, хува аш‘ару шу‘ара’ ал-магриб ва хува ‘инда хум ка-л-Мутанабби ‘инда-л-машарика, Булак, 1274 [1857—58].
Ибн Хани’, Диван (Бейрут).— Диван ли Аби-л-Касим Мухаммад ибн Ибрахим ибн Хани’ ал-Андалуси, Бейрут, 1886.
* Изд. М. Наджи: Ибн Хани’ ал-Андалуси, изд. Мунира Наджи, [б.м.], 1902.
* Частичный английский перевод: R.Р. Dewhurst, Abu Tammām and Ibn Hāni’,— JRAS, 1926, стр. 629-642.
Ибн Хаукал.— Viae et regna. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu’l-Kásim Ibn Haukal. Ed. M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1873 (BGA, II).
* Изд. Крамерсa: Opus geographicum auctore Ibn Ḥauḳal (Abū’l-Ḳasim Ibn Ḥauḳal al-Nasībī). Secundum textum et imagines codicis constantinopolitam conservati in Bibliotheca Antiqui Palatii No. 3346 cui titulus est «Liber imaginis terrae» edidit collatio textu primae editionis aliisque fontibus adhibitis J.H. Kramers, fasc. 1-2, Lugduni Batavorum — Lipsiae, 1938 (BGA2, I-II).
Ибн Xишам.— Das Leben Muhammed’s nach Muhammed Ibn Ishâk bearbeitet von Abd el-Malik Ibn Hischâm. Aus den Handschriften zu Berlin, Leipzig, Gotha und Leyden hrsg. von F. Wüstenfeld, Bd I, Text, Theil 1, Göttingen, 1858; Bd I, Text, Theil 2, ibid., 1859; Bd II, Einleitung, Anmerkungen und Register, Göttingen, 1860; Anastatischer Neudruck, Leipzig, 1901.
Немецкий перевод: Das Leben Mohammed’s nach Mohammed Ibn Ishak bearbeitet von Abd el-Malik Ibn Hischam…, übers. von G. Weil, Bd I-II, Stuttgart, 1864.
* Сират сайидина Мухаммад расул аллахи… ривайат Аби Мухаммад ‘Абд ал-Малик ибн Хишам ‘ан Зийад ибн ‘Абдаллах ал-Бакка’ийи ‘ан Мухаммад ибн Исхак, т. I-II, Булак, 1259 [1843]; Каир, 1324 [1906—07] — с примеч. Махмуда ат-Тахтави и др.
Ибн Xордадбех.— Kitâb al-Masâlik wa’l-Mamâlik (Liber viarum et regnorum) auctore Abu’l-Kâsim Obaidallah Ibn Abdallah Ibn Khordâdbeh et Excerpta e Kitâb al-Kharâdj auctore Kodâma ibn Dja‘far quae cum versione gallica edidit indicibus et glossario instruxit M.J. de Goeje, Lugduni — Batavorum, 1889 (BGA, VI) [текст — стр. 2-183; перевод — стр. 1-144].
Ибн Шаддад.— Ибн Шаддад, Ал-‘алак ал-хатира фи та’рих аш-шам ва-л-джазира, бейрутская рукопись, № 130 (Cheikho, Catalogue raisonné, I, стр. 288).
Идриси (изд. Бранделя).— ОМ och UR den arabiske geografen ’Idrîsî… af R.A. Brandel, Uppsala, 1894.
Идриси (изд. Дози).— Description de l’Afrique et de l’Espagne par Édrîsî, texte arabe publié pour la première fois d’après les man. de Paris et d’Oxford avec une traduction des notes et un glossaire par R. Dozy et M.J. de Goeje, Leyde.
Идриси (пер. Жобера).— Géographie d’Édrisi traduite de l’arabe en français d’après deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi et accompagné de notes, par A. Jauberi t. I-II, Paris, 1836—1840.
Иешу Стилит (изд. Райта).— The chronicle of Joshua the Stylite, composed in Syriac A.D. 607, with a translation into English and notes by W. Wright, Cambridge, 1882.
Chronique de Josué le Stylite écrite vers l’an 515, texte et traduction par l’abbé P. Martin, Leipzig, 1876 (AfKM, Bd 6, № 1).
* Русский перевод: H.В. Пигулевская, Месопотамия на рубеже V-VI вв. н.э. Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник, М.—Л., 1940 (Труды ИВ АН СССР, т. XXXI) [перевод хроники стр. 130-170].
‘Икд.— Ал-‘икд ал-фарид ли-л-имам ал-фадил ал-вахид Шихаб ад-Дин Ахмад ал- ма‘руф би Ибн ‘Абд Раббихи ал-Андалуси ал-Малики, т. I-III, Каир, 1293 [1876].
* Китаб ал-‘икд ал-фарид та’лиф Шихаб ад-Дин Ахмад ал-ма‘руф би Ибy ‘Абд Раббихи, т. I-III, Каир, 1316 [1898—99] (на полях: ал-Хусри, Захр ал-адаб).
‘Илм ал-бахр.— Шихаб ад-Дин Ахмад ибн Маджид. Китаб ал-фава’ид фи усул ‘илм ал-бахр ва-л-кава‘ид, парижская рукопись, № 2292 (dе Slane, Catalogue BN, стр. 401).
* Le pilote des mers de l’Inde de la Chine et de l’lndonésie par Sihab ad-Dīn Aḥmad bin Majid dit «le lion de la mer». Texte arabe, reproduction phototypique du manuscrit 2292 de la Bibliothèque Nationale de Paris, publ. par G. Ferrand, Paris, 1921—1923.
Илья из Hисибинa.— Elia Metropolitae Nisibeni Opus chronologicum, p. I edidit E.W. Brooks, Parisiis, 1910; p. II edidit J.-B. Chabot, ibid., 1909; p. I interpretatus est E.W. Brooks, ibid., 1910; p. II interpretatus est J.-B. Chabot, ibid., 1910 (CSCO, SS. ser. Ill, T. VII, VIII).
См. также: Fragmente syrischer und arabischer Historiker hrsg. und übersetzt von E. Baethgen, Leipzig, 1884 (AfKM, Bd VIII, № 3).
Истaxpи,— Viae regnorum. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu Ishák al-Fárisi al-Istakhrí. Ed. M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1870 (BGA, I); ed. secunda (photomechaniee iterata), ibid., 1927.
Йа‘куби, Китаб ал-булдан.— см. Ибн Руста, География (Йа‘куби — стр. 231-273).
* Французский перевод: Ya‘ḳūbī, Les Pays, trad. par G. Wiet. Le Caire, 1937 (PIFAO, Textes et traductions d’auteurs orientaux, t. I).
Йакут (Ибн Фадлан) — С.М. Frähn, Ibn-Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. Text und Übersetzung mit kritisch-philologischen Anmerkungen; nebst drei Beilagen über sogenannte Russen-Stämme und Kiew, die Warenger und das Warenger-Meer, und das Land Wisu, ebenfalls nach arabischen ISchriftstellern, von С.M. Frähn, St. Petersburg, 1823.
См. также: A.Z. Tоgan Validi, Ibn Faḍlān’s Reisebericht, Leipzig, 1939 (AfKM, Bd XXIV, № 3); Ковалевский, Ибн Фадлан.
Йакут, Иршад.— The Irshád al-aríb ilâ ma‘rifat al-adíb or Dictionary of learned men of Yáqút. Ed. by D.S. Margoliouth, vol. I-VII, Leyden — London, 1907—1927 (GMS, VI, 1-7) [I — 1907, II — 1909, III — 1910, IV — 1927, V — 1911, VI —1 913, VII — 1926].
* См. также: G. Bergsträsser, Die Quellen von Jâqûts Iršâd,— ZfS, II, 1924, стр. 184-218.
Йакут, Словарь.— Yakut’s geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin, St. Petersburg, Paris, London und Oxford…, hrsg. von F. Wüstenfeld, Bd I-VI, Leipzig, 1806—1873; 2-te Aufl., ibid., 1925.
* Му‘джам ал-булдан та’лиф Шихаб ад-Дин Йакут ал-Хамави ар-Руми, т. I-VIII, Каир, 1323 [1906] [перепечатка текста, изданного Вюстенфельдом под наблюдением А. аш-Шинкити с дополнением (т. IX-X): Мунджам ал-‘имран фи-л-мустадрак ‘ала му‘джам ал-булдан та’лиф Мухаммад Амин ал-Ханаджи, Каир, 1325 [1907].
* Китаб му‘джам ал-булдан та’лиф аш-шайх ал-имам Шихаб ад-Дин Аби ‘Абдаллах Йакут ибн ‘Абдаллах ал-Хамави ар-Руми ал-Багдади, т. I-X, Каир, 1325 [1907].
* Английский перевод: [Yakut ar-Rumi], The introductory chapters of Yāqūt’s Mu‘jam al-Buldān. Transl. and annotated by Wadie Jwaideh, Leiden, 1959.
* См. также [O. Rescher], Sachindex zu Wüstenfeld’s Ausgabe von Jâqût’s «mu‘ğam el-buldân» (nebst einem alfabetischen Verzeichnis der darin angeführten Werke), Stuttgart, 1928.
Йатима — см. Сa‘алиби, Йатимат ад-дахр.
Йахйа ибн Адам.— Le livre de l’impôt foncier de Yahyā ibn Adām, publié d’après Ie manuscrit unique appartenant à Ch. Schefer par Th.W. Juynboll, Leide, 1896.
Издание и английский перевод: Taxation in Islam. Vol. I. Yaḥyā ben Ādam’s Kitâb al-Kharāj, ed., transl. and provided with an introduction and notes by A. ben Shemesh… with a foreword by S.D. Goitein, Leiden, 1958.
Йахйа ибн Са‘ид.— Китаб та’рих Са‘ид ибн Батрик ал-Мутатаббиб аллази самаху назм ал-джаухар…, парижская рукопись, № 291, лл. 82-137 (Ancien fonds 131A) (dе Slane, Catalogue NB, стр. 81).
* См. также: Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхьи Антиохийского. Издал, перевел и объяснил В.Р. Розен, СПб., 1883 [Приложение к т. XLIV ЗИАН № 1].
* Histoire de Yaḥya-ibn-Sa‘id d’Antioche continuateur de Sa‘id-ibn-Biṭriq. Ed. et trad. en français par I. Kratchkowsky et A. Vasiliev. Paris, 1924, 1932 (PO, XVIII, 5; XXIII, 3).
Казвини, ‘Аджа’иб.— см. Казвини, Космография.
Казвини, Космография.— Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini’s Kosmographie, I. T. [Китаб ‘аджа’иб ал-махлукат]. Die Wunder der Schöpfung. Aus den Handschriften der Bibliotheken zu Berlin, Gotha, Dresden und Hamburg hrsg. von F. Wüstenfeld, Göttingen, 1849; II. T. [Китаб acap ал-билад]. Die Denkmäler der Länder. Aus den Handschriften des Hn. Lee und der Bibliotheken zu Berlin, Gotha und Leiden hrsg. von F. Wüstenfeld, Göttingen, 1848.
Казвини, Хайат ал-хайаван.— Хайат ал-хайаван ал-кубра ли-ш-шайх Камал ад-Дин ад-Дамири ва би-хамишихи китаб ‘аджа’иб ал-махлукат ва-л-хайванат ва гара’иб ал-мауджудат ли-л-имам ал-‘алим Закарийа ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Казвини, Каир, 1309 [1891—92].
Калабази, берлинск. рук.— Ахмад ибн ‘Омар ибн Мухаммад ал-Кубри ал-Хайваки Наджм ад-Дин Абу-л-Джаннаб, Рисалат ал-хаиф ал-хаим… [с л. 42 и cл. идет изложение сочинения Мухаммада Ибн Исхака ибн Ибрахима, ал-Калабази: Китаб ат-та‘арруф ли мазхаб ахл ат-тасаввуф], берлинская рукопись, № 3087 (Ahlwаrdt, Verzeichniss, III, стр. 123).
* Kitab al-ta‘arruf li-madhab ahl al-tasawwuf of Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq al-Kalabadhi. Edited by A.J. Arberry, Cairo, 1934.
* Английский перевод: The doctrine of the sūfis (Kit. al-Ta‘arruf…), transl. from the Ar. of a.B. al-Kalabadhi by A.J. Arberry, Cambridge, 1936.
«Календарь Кордовы на 961 г.» — Le calendrier de Cordoue de I’année 961, texte arabe et ancienne traduction latine publié par R. Dozy, Leyde, 1873.
Калкашанди.— Die Geographie und Verwaltung von Ägypten nach dem Arabischen des Abul-’Abbâs Ahmed ben ’Alí el-Calcaschandí. Von F. Wüstenfeld. In zwei Abteilungen (Abtheil. I, стр. 8-115; Abtheil. II, стр. 117-225), Göttingen, 1879 (AKGWG, XXV).
* Китаб субх ал-а‘ша та’лиф аш-шайх Аби-л-‘Аббас Ахмад ал-Калкашанди, т. I-XIV, Каир, 1913—1919, [т. I-II — 1913; III-IV — 1914; V-VIII — 1915; IX-X — 1916; ХI — 1917; XII-XIII — 1918; XIV — 1919].
Канз ал-‘уммал.— Муснад ли-л-имам Аби ‘Абдаллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал аш-Шайбани ал-Марвази ва би-хамишихи китаб мунтахаб канз ал-‘уммал фи сунан ал-аквал ва-л-аф‘ал ли-ш-шайх ал-имам ‘Ала’ ад-Дин ‘Али ибн Хусам ад-Дин аш-шахир би-л-Муттаки ал-Хинди, т. I-VI, Каир, 1313 [1895—96].
Кармали, «Машрик», 3.— Анастас ал-Кармали, Шазарат,— «Ал-Машрик»; Бейрут, 1900, 3, стр. 668-669.
Кармали, «Машрик», 9.— Анастас ал-Кармали, Ал-марфа‘ аслуху ва шуйу‘уху ‘инда Джами‘ ал-умам,— «Ал-Машрик», 9, Бейрут, 1906, стр. 193-203.
Кармали, «Машрик», 11.— Анастас ал-Кармали, Acap ‘араби нафис,— «Ал-Машрик», 11, Бейрут, 1908, стр. 883-884.
Кашф ал-мамалик.— Zoubdat Kachf el-Mamâlik. Tableau politique et administratif de l’Égypte, de la Syrie et du Ḥidjâz sous la domination des sultans Mamloûks du XIIIе au XVе siècle par Khalîl ed-Ḍhiry. Texte arabe, publié par P. Ravaisse, Paris, 1894 (PÉLOV, IIIе sér., vol. XVI).
Кашф ал-махджуб.— The Kashf al-Maḥjúb. The oldest Persian treatise on Ṣufiism by ‘Alí b. ‘Uthman al-Jullábi al-Hujwírí, transl. from the text of the Lahore edition, compared with MSS in the India Office and British Museum by R.A. Nicholson, Leyden — London, 1911 (GMS, XVII); new edition by R.A. Nicholson, London, 1936.
См. также: В.А. Жуковский, Раскрытие скрытого за завесой («Кяшф-аль-Махджуб») Абу-ль-Хасана Али Ибн Осман ибн-аби Али аль-Джуляби аль-Худжвири аль-Газнави. Персидский текст, указатели и предисловие. Посмертное издание [подготовл. А. Ромаскевичем], Л., 1926.
Кинди.— The governors and judges of Egypt or Kitâb el ‘Umarâ’ (el Wulâh) wa Kitâb el Quḍâh of el Kindî together with an Appendix derived mostly from Raf‘ el-Iṣr by Ibn Ḥajar, ed. by Rh. Guest, Leyden—London, 1912 (GMS, XIX).
* Кинди, Китаб кимийа.— Kitāb Kimiya’ al-'iṭr wa-tas‘īdāt. Buch über die Chemie des Parfüms und die Destillation. Ein Beitrag zur Geschichte der arabischen Parfümchemie und Drogenkunde aus dem 9 Jh. n. Chr., übers, und erläutert von K. Garbers, Leipzig, 1948 (AfKM, XXX).
Кинди, Китаб ал-мавали.— см. Кинди, стр. 10 — сведения о несохранившемся сочинении ал-Кинди «Китаб ал-мавали».
Кинди, Приложение — см. Кинди.
Кинди, Фада’ил маср.— см. Абу Салих.
Китаб ал-агани.— Китаб ал-агани ли-л-имам Аби-л-Фарадж ‘Али ал-Исфахани, т. I-ХХ, Булак, 1285 [1868—69].
Китаб ал-агани ли-л-имам Аби-л-Фарадж ‘Али ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ал-Исфахани, т. I-XXI, Каир, 1323 [1905—06].
См. также: The twenty-first volume of the Kitâb al-Aghânî, ed. by R. Brünnow, Leyden, 1888.
Tables alphabétiques du Kitâb al-Agânî comprenant I) Index des poètes dont Ie «Kitâb» cite des vers; II) Index des rimes; III) Index historique; IV) Index géographique; rédigées avec la collaboration de R.E. Brünnow, S. Fraenkel, H.D. van Gelder, W. Guirgass, E. Hélouis, H.G. Kleyn, Fr. Seybold et G. van Vloten, par I. Guidi, Leide, 1900.
* Myxаммад ‘Абд ал-Джаввад ал-Асма‘и, Абу-л-Фарадж ал-Исбахани ва китабуху «ал-Агани», Каир, 1951.
Китаб адаб ал-кади.— Абу Бакр ал-Хассаф аш-Шабани, Китаб адаб ал-кади, лейденская рукопись, № MDCСLXXVII (Catalogus, LB, IV, стр. 106-107).
Китаб алиф-ба.— Китаб алиф ба’ та’лиф Йусуф ибн Мухаммад ал-Балави ибн аш-Шайх, Булак, 1287 [1870—71].
Китаб Багдад — см. Ибн Тайфур.
Китаб ал-вузара.— The historical remains of Hilâl al-Ṣâbi. First part of his Kitâb al-Wuzara (Gotha Ms. 1756) and fragments of his History 389—393 A.H. (В.M. Ms. add. 19360). Ed. with notes and glossary by H.F. Amedroz, Leyden, 1904.
* M. Awad, Some lost fragments of Kitāb al-wuzarā’ of Hilāl al-Ṣābī, Bagdad, 1948.
[Литературу об этом сочинении Хилала ас-Саби см. Sоurdel, Le vizirat ‘Abbaside, I, стр. XXIII-XXIV, № 7-11].
Китаб ал-джамахир — см. Бируни, Китаб ал-джамахир.
Кумми, Китаб ал-‘илал.— Абу Джа‘фар Мухаммад ибн ‘Али ибн ал-Хусайн ибн Муса ибн Бабуйа ал-Кумми, Китаб ал-‘илал аш-шираи‘ ва-асбаб, берлинская рукопись, № 8327 (Ahlwаrdt, Verzeichniss, VII, стр. 315).
Китаб ма‘ахид ат-тансис.— ‘Абд ар-Рахим ибн Ахмад ал-‘Аббаси, Ма‘ахид ат-тансис ‘ала шавахид ат-талхис, парижская рукопись, № 4416 (dе Slane, Catalogue BN, стр. 703).
Китаб ал-мувашша.— Kitâb al-Muwaśśâ of Abû’ṭ-Ṭayyib Muḥammed ibn Ishâq al-Waśśâ, edited from the manuscript of Leyden by R.E. Brünnow, Leyden, 1886.
* См. также перепечатку под заглавием: Китаб аз-зарф ва-з-зурафа’ та’лиф Аби-т-Тайиб ибн Исхак ибн Йахйа ал-Вашша’, Каир, 1324 [1906—07].
Китаб ал-мугриб — см. Ибн Са‘ид (изд. Талквиста).
Китаб ат-тавасин.— Kitâb al-Ṭawâsîn par Aboû al-Moghîth al-Ḥosayn ibn Manṣoûr al-Hallâj al-Baydhâwî al-Baghdâdî. Texte arabe publié… par L. Massignon, Paris, 1913.
Китаб ал-‘уйун, IV.— [Аноним], Ал-джуз’у-р-раби‘ мин китаб ал-‘уйун, берлинская рукопись, № 9491 (Ahlwardt, Verzeichniss, IX, стр. 95-96).
См. также: Fragmenta, I.
Китаб ал-фарадж.— см. Танухи, Китаб ал-фарадж.
Китаб ал-фисал.— см. Ибн Xазм, Милал.
* Ковалевский, Ибн Фадлан (1939).— Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Перевод и комментарии [А.П. Ковалевского] под ред. И.Ю. Крачковского, М.—Л., 1939.
* Ковалевский, Ибн Фадлан (1956).— А.П. Ковалевский, Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Статьи, переводы и комментарии, Харьков, 1906.
Константин VII Багрянородный.— De Ceremonii aulae Byzantinae, hrsg. von Leich und Reiske, Bd 1-2, Leipzig, 1751—1754.
* См. также: A. Vоgt, Konstantinos VII Porphyrogenetos… Le livre de cйrйmonies. Commentaire par A. Vogt, t. I, Paris, 1935;
* M. Canard, Le cérémonial Fatimide et le cérémonial Byzantin. Essai de comparaison.— «Byzantion», XXI, 1951, стр. 355-420.
* Крачковский, Избран. соч., IV.— И.Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. IV, М.—Л., 1957.
Кудама — см. Ибн Хордадбех (Kудама: текст — стр. 184-266: перевод — стр. 144-208).
Кудама (рук.).— Абу-л-Фарадж Кудама ибн Джа‘фар ал-Катиб ал-Багдади, Китаб ал-харадж ва сан‘ат ал-китабат, парижская рук., № 5907 (Blochet, Catalogue BN, nouv. acq., стр. 137).
* Qudama b. Ga‘far’s Kitab al-Kharaj, part seven, and excerpts from Abu Yusuf’s Kitab al-Kharaj. Transl. and provided with an introd. and notes by A. Ben Shemesh, Leiden, 1956.
* Qudāma b. Ğa‘far al-Kātib al-Baġdādī, The Kitāb Nadq al-Ši‘r. Edited by S.A. Bonebakker, Leiden, 1956.
* Kyник и Розен, Известия ал-Бекри.— Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах, ч. 1. (Статьи и разыскания А. Куника и В. Розена), СПб, 1878 (Прилож. к ЗИАН, т. XXXII, № 2); ч. 2. (Разыскания А. Куника), СПб., 1903.
* Кутуби, Фават ал-вафайат.— Фават ал-вафайат ли-л‘аллама Мухаммад ибн Шарик ибн Ахмад ал-Кутуби, т. I-II, Булак, 1299 [1881—82].
Кушаджим, Адаб ан-надим,— см. Адаб ан-надим.
Кушаджим, Диван.— Диван Аби-л-Фатх Махмуд ибн ал-Хусайн ал-Катиб ал- ма‘руф би Кушаджим, Бейрут, 1313 [1895—96].
Кушайри, Рисала, Каир.— Ар-рисала ал-Кушайрийа фи ‘илм ат-тасаввуф ли-л- имам ал-‘алим ал-джами‘ байна-ш-шари‘а ва-л-хакика Аби-л-Касим ‘Абд ал- Карим ибн Хавазин ал-Кушайри… ва ‘алайха хавамиш мин шарх шайх ал-ислам Закарийа ал-Ансари, Каир, 1348 [1901—02].
Ар-рисала ал-Кушайрийа фи ‘илм ат-тасаввуф та’лиф ‘Абд ал-Карим ибн Хавазин ал-Кушайри, Булак, 1284 [1867—68].
* См. также: О. de Lebedew, Traité sur le soufisme…, Rome, 1911.
* Al-Kuschairīs Darstellung des Sūfītums. Mit Übersetzungs-Beilage und Indices von R. Hartmann, Berlin, 1914 (Türk. Bibl., 18).
Лepx, Археологическая поездка.— Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г. П. Лерха, СПб., 1870.
Лубб ал-адаб, берлинск. рук.— Вероятно, А. Мец имел в виду рукопись: Китаб лубб ал-лубаб фи джавабат зави-л-албаб, автор — Ибрахим ибн Мухаммад ибн Аби ‘Аун ал-Катиб; берлинск. рукопись № 8317 (Ahlwardt, Verzeichniss, VII, стр. 304-305).
Ма‘ахид ат-талхис.— ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад ал-‘Аббаси, Ма‘ахид ат-танcис фи шарх шавахид ат-талхис; берлинская рук. № 7224/25 (Ahlwardt, Verzeichniss, VI, стр. 383-384).
Маварди.— Maverdii constitutiones politicae. Ex recensione M. Engeri, Bonnae, MDCCCLIII.
* Китаб ал-ахкам ас-султанийа ли Аби-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн Хабиб ал-Басри ал-Багдади, Каир, 1298 [1880—81].
* Китаб ал-ахкам ас-султанийа ли Аби-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн Хабиб ал-Басри ал-Багдади ал-Маварди, Каир, 1327 [1909].
* Французский перевод: El-Ahkâm es-soulthânîya, traite droit public musulman d’Abou’ l-Hasan Alî ibn Mohammed ibn Habîb el-Mâwerdî, trad. par L. Ostrorog, t. I-II, pt 1, Paris, 1901—1906.
Макдиси (изд. и пер. Юара).— Le livre de la création et de l’histoire de Moṭahhar ben Ṭâhir el-Maqdisî attribué à Abou-Zéid Aḥmed ben Sahl el-Balkhî, publié et traduit d’après le Manuscrit de Constantinople par Cl. Huart, Paris, t. 1-6, 1899—1919 (PÉLOV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII).
Mаккapи.— Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes d’Espagne, par al-Makkari. Publiés par R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright, t. 1, Introduction par G. Dugat. Livre I, II, III et IV publ. par W. Wright, et livre V publ. par L. Krehl, Leyde, 1855—1860; t. I, sec. part., publ. par L. Krehl, ibid., 1856; t. II, prem. part., publ. par R. Dozy, ibid., 1858; t. II, livre VI et VII (prem. part.) publ. par R. Dozy, livre VII (sec. part) et VIII publ. par G. Dugat, ibid., 1858—1861.
* Китаб нафх ат-тиб мин гусн ал-Андалус ар-ратиб ва зикр вазирха Лисан ад-Дин ал-Хатиб та’лиф ал-‘аллама ал-Маккари, т. I-IV, Булак, 1279 [1862—63]; Каир, 1302 [1884—85].
Макки, Кут ал-кулуб.— Китаб кут ал-кулуб фи му‘амалат ал-махбуб ва васф тарик ал-мурид ила макам ат-таухид ли-сайидина ва маулана аш-шайх ал-имам ал-‘алим ал-мухаккик Аби Талиб Мухаммад ибн Аби-л-Хасан ‘Али ибн ‘Аббас ал-Макки ва бихамишихи китабан джалилан аввалухума китаб сирадж ал-кулуб ва ‘иладж аз-зунуб ли-шайх Аби ‘Али Зайн ад-Дин ‘Али ал-Му‘ири ал-Фаннани… ва-с-сани хаййат ал-кулуб фи кайфиййат ал-вусул ила-л-махбуб ли ‘Имад ад-Дин ал-Амави, Каир, т. I-II, 1310 [1892—93].
Макризи, Итти‘аз.— Kitāb Itti‘āz al-Ḥunafā bi Aḫbār al-A‘imma al-Ḥulafā (Fatimidengeschichte) von al-Maḳrīzī zum erstenmal hrsg. nach dem Autographen Gothaer Unikum, Inaugural-Diss. von H. Bunz (Tübingen, 1908).
* См. также: Китаб ал-итти‘аз ал-хунафа‘ би ахбар ал-а‘имма ал-фатимиййа ал-хулафа’ та’лиф Абу-л-‘Аббас Ахмад Ибн ‘Али ибн ‘Абд ал-Кадир ибн Мухаммад ал-Хусайни Таки ад-Дин ал-Макризи, Каир, 1948 (Makrizi Library, 2).
Макризи, Хитат.— Китаб ал-мава‘из ва-л-и‘тибар би зикр ал-хитат ва-л-асар, I-II, Булак, 1270 [1853]; 1324 [1906].
* См. также: Taqî еl-Dîn Aḥmad ibn ‘Ali ibn ‘Abd-el-Qâdir ibn Muḥammad el-Maqrîzî, El-Mawâ‘iz wa’l-i‘tibâr fî dhikr el-Khitat wa’l-Athâr. Édité par G. Wiet, t. I-V, Le Caire, 1911—1927 (MIFAO, XXX, XXXIII, XLVI, X-LIX, LIll) (t. I — 1911; t. II — 1913; t. III — 1922; t. IV — 1923; t. V — 1927].
* A list of writers, books and other authorities mentioned by El Maqrīzī in his Khiṭaṭ. By A.R. Guest,— JRAS, 1902, стр. 103-125.
Марини, «Машрик», 4.— H. Марини, Ма варасаху ахл ал-‘Ирак,— «Ал-Машрик», Бейрут, 1901, 4, стр. 982-992.
Марини, «Машрик», 5.— Н. Марини Багдади, Маасир ал-‘иракийин ва давасир ал-бабилийин ас-сабикин,— «Ал-Машрик», Бейрут, 1902, 5, стр. 642-653.
Марко Поло.— Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert, übers. von H. Lemke, Hamburg, 1907 (Bibl. wertvoller Memoiren, I).
Mapакуши.— Histoire des Almohades d’Abd el-Wâh’id Merrâkechi, trad. et annotée par E. Fagnan, Alger, 1893.
Изд. текста: The history of the Almohades, preceded by a sketch of the history of Spain, from the times of the conquest till the reign of Yusof ibn-Táshifín, and of the history of the Almoravides, by Abdo-’f-Wáhid al-Marrékoshí. Now first edited from a MS. in the library of Leyden, the only one extant in Europe, by R.P.A. Dozy, Leyden, 1847.
* Ал-байан ал-мугриб фи ахбар ал-магриб та’лиф Ибн ‘Изари ал-Марракуши, 1. Ахбар ал-магриб; 2. Ахбар ал-андалус, Бейрут, 1950.
* Масари‘ ал-‘ушшак.— Китаб масари‘ ал-‘ушшак та’лиф аш-шайх Аби Мухаммад Джа‘фар ибн Ахмад ибн ал-Хусайн ас-Саррадж, Константинополь, 1277 [1860—61]; там же, 1301 [1883—84]; там же, 1325 [1907—08].
Мас‘уди.— Maçoudi, Les Prairies d’or. Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, t. I-IX, Paris, 1861—1877 [I — 1861, II — 1863, III — 1864, IV — 1865, V — 1869, VI — 1871, VII — 1873, VIII — 1874, IX — 1877] (Collection d’ouvrages orientaux publiée par la Société asiatique).
Мас‘уди, Танбих.— Kitâb at-tanbîh wa’l-ischrâf auctore al-Masûdî, Lugduni Batavorum, 1894 (BGA, VIII).
Мафатих ал-‘улум.— Liber Mafâtih al-olûm explicans vocabula technica scientiarum tam arabum quam peregrinorum auctore Abû Abdallah Mohammed ibn Ahmed ibn Jûsof al-Kâtib al-Khowarezmî, edidit, indices adjecit G. vnd Vloten, Lugduni Batavorum, 1895.
Махасин ат-тиджара.— см. Димашки, Махасин ат-тиджара.
Мирхонд, История Саманидов.— см. Mirchond, Hist. Samanid., ed. Wilken.
Мискавайх, V.— The Tajârib al-Umam or History of Ibn Miskawayh (Abu ‘Ali Aḥmad b. Muḥammad) ob. A.H. 421. Reproduced in facsimile from the MS. at Constantinople in the Āyâ Ṣûfiyya library with a summary and index by L. Caetani, vol. V.A.H. 284 to 326, Leyden — London, 1913 (GMS, VII, 5).
Миcкавайх, VI. — см. Fragmenta, I-II.
* См. также: The Tajârib al-Umam of Abu ‘Ali Miskawaih. By H.F. Amedroz,— DI, Bd V, 1914, стр. 335-357 (с конкордансом соответствующих мест повествования у Мискавайха, ‘Ариб и Хилала ас-Саби).
Михаил Сириец.— Michel le Syrien, Chronique, éd. pour la I. fois et trad. par J.-B. Chabot, Paris, 1901, 1910.
* Переиздание: Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’Antioche, ed. et trad. par J.-B. Chabot, Paris, 1924.
Михлат.— Китаб ал-михлат ли-Баха’ ад-Дин Мухаммад ибн Хусайн ал-‘Амули…, ва бихамишихи китаб суккардан ас-султан ли-л-имам ал-ариф аш-шайх Шихаб ад-Дин ибн ал-‘Аббас Ахмад ибн Йахйа ибн Аби Бакр аш-шахир би Ибн Хаджала ал-Магриби ат-Тилимсани, Каир, 1317 [1899—1900].
Му‘арраб.— Ğawâlîkî’s Almu‘arrab. Nach der Leydener Handschrift mit Erläuterungen hrsg. von L. Sachau, Leipzig, 1867.
De aljavâlîqî ejusque opere quod inscribitur [al-mu‘arrab] adjecta textus particula. Dissertatio inauguralis philologica quam concensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in Academia Fridericiana Halensi cum Vitenbergensi consociata ad summos in philosophia honores rite impetrandos die XXXI. M. Jan. MDCCCLVII hora XI publice defendet auctor E. Sachau. Halis Saxonum.
Мубаррад, Камил.— Китаб ал-камил фи лугат ва-л-адаб ли-л-Мубаррад та’лиф Аби-л-‘Аббас Мухаммад ибн Йазид ал-Мубаррад ан-Нахви, т. I-II, Каир, 1308—09 [1890-91—1892-93]; перепечатано с издания: The Kamil of El-Mubarrad, ed. for the German Oriental Society by W. Wright, vol. I, pt I-XI; vol. II, pt XII, Leipzig, 1864, 1892.
Мукаддаси.— Descriptio imperii moslemici auctore Schamso’d-dîn Abû Abdollâh Mohammed ibn Ahmed ibn Abi Bekr al-Bannâ al-Basschârî al-Mokaddasi. Ed. M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1877; ed. 2, 1906 (BGA, III).
Муртада, Амали — см. Муртада, Гурар ал-фава’ид.
* Муртада, Гурар ал-фава’ид.— Китаб ал-гурар ва-д-дурар та’лиф аш-Шариф ал-Муртада, Тегеран, 1272 [1855—56].
Китаб ал-гурар ал-фава’ид ва дурар ал-кала’ид би-л-мухадарат та’лиф Зу-л-Мадждайн ‘Алам ал-Худа аш-Шариф ал-Муртада, Каир, 1325 [1907—08].
Al-Šarīf al-Murtadā, Gurar al-fawā’id wa durar al-qalā’id, éd. Abu-l-Fadl Ibrahim, vol. I-II, Le Caire, 1954 [см. MIDEO, 2, стр. 262].
Мусаббихи — см. Кинди.
Муслим, Сахих.— Ас-сахих та’лиф ал-имам Абу-л-Хусайн Муслим ибн ал-Хаджжадж ал-Кушайри ан-Найсабури, Калькутта, 1265 [1848—49]; Булак, 1290 [1873—74]; Каир, 1327 [1909]; Стамбул, 1330—33 [1911-12—1914-15].
Мустатраф.— Китаб ал-мустатраф фи кулл фанн ал-мустазраф ли-л-Абшихи, Каир, 1289 [1872—73].
Ал-мустатраф фи кулл фанн мустазраф та’лиф аш-шайх Шихаб ад-Дин Ахмад ал-Абшихи ва би хамишихи китаб самарат ал-аурак фи-л-мухадарат ли-л-имам Таки ад-Дин ибн Аби Бакр ибн ‘Али ал-ма‘руф би Ибн Хиджжа ал-Хамави, т. I-VI, Каир, 1302 [1884—85]; там же, 1314 [1896—97].
Французский перевод: Al-Моstatraf, Recueil de morceaux choisis çà et là dans toutes les branches de connaissances réputées attrayantes par l’imâm, l’unique, le savant, le très érudit, le disert, le perspicace, le S̄aïk S̄ihâb-ab-dîn Āḥmad al-Abśîhî. Ouvrage philologique, anecdotique littéraire, et philosophique traduit pour la première fois par G. Rat, t. I, Paris—Toulon, 1899; t. II, Paris—Toulon, 1902.
Mутанабби, Диван.— Диван Аби-т-Тайиб ал-Мутанабби, Бейрут, 1900.
* Мутанабби, Диван, Каир, 1956—59.
* Мутанабби, Диван, Бейрут, 1958.
* О нем: Киктев М., Абу-т-Таййиб ал-Мутанабби в критике Абу Али ал-Хатими (ум. 998 г.),— сб. «Литература Востока», М., 1969, стр. 66-100.
Киктев М.С., Абу-т-Таййиб ал-Мутанабби (915—965) в средневековых арабских источниках,— там же, стр. 40-53.
* R. Blachère, Un poète arabe du IVе siècle de l’Hégire: Abou t-Tayyib al-Motanabbi (Essai d’histoire littéraire), Paris, 1935.
Мутаххар,— См. Макдиси (изд. и пер. Юара).
Муфид ал-‘улум.— Муфид ал-‘улум ва мубид ал-хумум та’лиф Джамал ад-Дин Абу ‘Али ибн Ахмад ал-Казвини ва би хамишихи ал-Мухтар мин ан-навадир ва-л-ахбар ли ‘Али Мухаммад ибн Ахмад ал-Анбари, Каир, 1310 [1892—93].
Мухадарат ал-удаба’.— Китаб мухадарат ал-удаба’ ва мухаварат аш-шу‘ара’ ва-л-булага’ ли Аби-л-Касим Хусайн ибн Мухаммад ал-ма‘руф би-р-Рагиб ал-Исбахани, [б.м.], 1287 [1870—71].
Мухадарат ал-удаба’… ли-р-Рагиб ал-Исбахани хаззабаху ва ихтасараху Ибрахим Зайдан, Каир, 1902.
Мухаммад ‘Омар, Хадир ал-масриййин.— Мухаммад ‘Омар, Хадир ал-масриййин, Каир, 1320 [1902—03].
Мухаммад ибн ал-Хасан, на полях Абу Йусуфа.— см. Джами‘ ас-сагир.
Мухталиф ал-хадис.— см. Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис.
Навави.— См. Муслим, Шарх Мухйи-д-Дин Йахйа ан-Навави ‘ала сахих Муслим ибн Хаджжадж ал-Кушайри, т. I-V, Каир, 1283 [1866—67];
Шарх Мухйи-д-Дин Йахйа ан-Навави ‘ала сахих ал-имам Муслим ибн ал-Хаджжадж ал-Кушайри, т. I-V, Каир, 1320 [1901—02].
Сахих ал-имам Муслим ма‘ шархаху ли-н-Навави, т. I-VI, Каир, 1320 [1902—03].
Навави, Такриб.— см. Marçais, Le Taqrib de en-Nawawi.
Навави (изд. Вюстенфельда).— The Biographical Dictionary of illustrious men chiefly at the beginning of Islamism by Abu Zakariya Yahya el-Nawawi ed. F. Wüstenfeld, Bd I-II, Göttingen, 1842—1847.
Hасиp-и Xyсpay.— Sefer Nameh. Relation du voyage de Nassiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Arabie et en Perse, pendant les années de l’Hégire 437—444 (1035—1042). Publié, traduit et annoté par Ch. Schefer, Paris, 1881.
* Русский перевод: Насиp-и Xусрау, Сафар-намэ. Книга путешествий. Перевод и вступит. статья Е.Э. Бертельса, М.—Л., 1933.
‘Омар ибн Абу Раби‘а, Диван.— Der Divan des ‘Umar ibn Abi Rebia’a nach den Handschriften zu Cairo und Leiden…, hrsg. von P. Schwarz, Leipzig, 1901, 1902. 1909.
См. также: ‘Umar ibn Abî Rebî’a ein arabischer Dichter der Umajjadenzeit. Inaugural-Diss. von P. Schwarz, Leipzig, 1893.
‘Омари.— Politische Geographie des Mamlūkenreiches. Кар. 5 und 6 des Staatshandbuchs Ibn Faḍlallah al-‘Omarī’s eingeleitet, übersetzt… von R. Hartmann,— ZDMG, 70, 1916, стр. 1-40, 477—511; 71, 1917, стр. 429-431; Nachträge: ZDMG, 70, стр. 477 и сл.
Изд. текста: Масалик ал-абсар фи мамилик ал-амсар ли Ибн Фадлаллах ал-‘Умари би тахкик ал-устаз Ахмад Зеки Баша, Каир, 1342 [1924].
Частичный французский перевод: Quatremère, Notice de l’ouvrage qui a pour titre: Mesalek alabsar fi memalek alamsar …Voyages des yeux dans les royaumes de différentes contrées (Manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi, № 538),— «Notices et extraits», t. XIII, pt I, стр. 151-384.
Французский перевод: Ibn Fadl Allah al-‘Omarī, Masālik el abṣar fi mamālik el amṣār. I. L’Afrique, moins l’Égypte, trad. et annoté avec une introduction par Gaudefroy-Demombynes, 1927 (Bibliothèque des géographes arabes publiée sous la direction de Gabriel Ferrand, II).
* Ради, Диван.— Хаза диван ас-сайид ар-Ради ал-Мусави ал-‘Алави, [Бомбей], 1306 [1888—89]. Др. изд.: Багдад [б.г.]; т. I-II, Бейрут, 1307—10[1889—1892-93].
Рази.— М. Steinschneider, Wissenschaft und Charlatanerie unter den Arabern im 9. Jahrhundert. Nach der hebräischen Uebersetzung eines Schriftchens von Rhases,— VA, 1867, vol. XXXVI, стр. 570-586; vol. XXXVII, стр. 560-565.
Ризкаллах, «Машрик», 11.— Й. Ризкаллах, Аз-зира‘а фи-л-‘Ирак,— «Ал-Машрик», Бейрут, 1908, 11, стр. 604-618.
Са‘алиби, Йатимат ад-дахр.— Йатимат ад-дахр фи шу‘ара’ ахл ал-‘аср та’лиф… Аби Мансур ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ан-Найсабури ас-Са‘алиби, т. I-IV, Дамаск, 1304 [1886—87].
Изд. ‘Абд ал-Хамида.— Йатимат ад-дахр фи махасин ахл ал-‘аср ли Аби Майсур ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ас-Са‘алиби ан-Найсабури би тахкик Мухаммад Мухйи-д-Дин ‘Абд ал-Хамид, т. I-IV, Каир, 1322 [1948].
Переиздание: Каир, 1375—1377 [1956—1958].
Частичный французский перевод: С. Barbier de Меуnаrd, Tableau littéraire du Khorassan et de la Transoxanie au IVе siècle de l’hégire.— JA, ser. 5, t. I, стр. 169-239; t. III, стр. 291-361.
См. также: Alfabetischer Index zur Jetima ed-dahr des Та‘alibi (Damascus, 1304). Zusammengestellt von O. Rescher, Constantinople, 1914.
Са‘алиби, Китаб ахсан.— Китаб ахсан ма суми‘ту та’лиф Аби Мансур ас-Са‘алиби (изд. М. Эф. Садик ‘Анбар), Каир, 1324 [1906—07].
Китаб ахсан ма суми‘ту тасниф ал-‘аллама Аби Мансур ас-Са‘алиби, Каир, [б.г.].
Са‘алиби, Китаб ал-и‘джаз.— Китаб ал-и‘джаз ва-л-иджаз та’лиф Аби Мансур ас-Са‘алиби, Каир, 1897.
Са‘алиби, Китаб ман габа.— Китаб ман габа ‘анху ал-мутриб та’лиф ас-Са‘алиби, Константинополь, 1302 [1884—85].
Китаб ман габа ‘анху ал-мутриб та’лиф ал-‘алим ал-‘аллама ал-устаз Аби Мансур ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ас-Са‘алиби ан-Найсабури… Бейрут, 1309 [1891—92].
Немецкий перевод: О. Rescher,— МО, XVII, XVIII.
Са‘алиби, Китаб ал-мирва.— Абу Мансур ‘Абд ал-Малик аc-Са‘алиби, Китаб мират ал-мурувват ва а‘мал ал-хасанат, берлинская рукопись № 5409 (Petermann 59); (Ahlwardt, Verzeichniss, Bd V, стр. 18-19).
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф.— Lataifo ’l-ma’arif, auctore Abu Mançur Abdol-malik ibn Mohammed ibn Isma‘il at-Tha’álibí, quem librum e codd. Leyd. et Goth. ed. P. de Jong, Lugduni Batavorum, 1867.
Са‘алиби, Hacp ан-назм.— Китаб наср ан-назм ва халл ал-‘икд та’лиф Аби Мансур ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ан-Нишабури ас-Са‘алиби Дамаск, 1300 [1882—83].
Са‘алиби, ‘Умдат ал-мансуб.— см. Тhа‘аlibi, ‘Umad el-mansub.
Са‘алиби, Фикх ал-луга.— Китаб фикх ал-луга ли-л-имам Аби Мансур ибн Исма‘ил ас-Са‘алиби ан-Найсабури, Бейрут, 1885.
Китаб фикх ал-луга ва асрар ал-‘арабийа та’лиф ал-имам Аби Мансур ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ас-Са‘алиби, Каир, 1318 [1909—10].
Са‘алиби, Хасс ал-хасс.— Китаб хасс ал-хасс та’лиф Аби Мансур ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ас-Са‘алиби ан-Найсабури, Каир, 1326 [1908].
Са‘алиби, Цари,— Aboû Manṣoûr ‘Abd al-Malik ibn Moḥammad ibn Ismà‘ìl al-Tha‘âlibî… Histoire des Rois des Perces. Texte arabe publié et traduit par H. Zotenberg, Paris, 1900.
Саби, Раса’ил,— Раса’ил ли Аби Исхак Ибрахим ибн Хилал ибн Ибрахим ал-Харрани ас-Саби, Ба‘абда, 1898.
Саби, Раса’ил (рук.).— Абу Исхак Ибрахим ибн Хилал ибн Ибрахим ал-Харрани ас-Саби, Раса’ил, лейденская рукопись, № CCCXLV (Catalogue LB, ed. sec., vol. I, стр. 184-188).
Сабит ибн Синан.— См. Ибн ал-Джаузи, берлинск. рук., л. 14а.
Самарат ал-аурак.— Ал-мустатраф фи кулл фанн мустазраф та’лиф аш-шайх Шихаб ад-Дин Ахмад ибн ал-Ибшихи ва би хамишихи китаб самарат ал-аурак фи мухадарат ли-л-имам Таки ад-Дин ибн Аби Бакр ибн ‘Али ал-ма‘руф би Ибн Хиджжа ал-Хамави, т. I-II, Каир, 1302 [1884—85].
Китаб ал-мустатраф фи кулл фанн мустазраф та’лиф ал-имам …Шихаб ад-Дин Ахмад ал-Ибшихи ва би хамишихи китаб самарат ал-аурак фи-л-мухадарат та’лиф Таки ад-Дин ибн Аби Бакр ибн -Али ал-ма‘руф би Ибн Хиджжа ал- Хамави ал-Ханафи, т. I-II, Каир, 1302 [1896—97].
Самарканди, Бустан ал-‘арифин.— Бустан ал-‘арифин ли Наср ибн Мухаммад ас-Самарканди, Каир, 1289 [1872—73].
Китаб танбих ал-гафилин ли-ш-шайх Наср ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас- Самарканди ва би хамишихи бустан ал-‘арифин ли-л-му’аллиф айдан, [Каир], 1302 [1884—85].
Танбих ал-гафилин ли муалана аш-шайх Наср ибн Мухаммад ибн Ибрахим ас-Самарканди ва би хамишихи бустан ал-‘арифин ли-л-му’аллиф айдан, Каир, 1311 [1893—94].
Самарканди, Куррат ал-‘уйун.— Китаб ар-рауд ал-фа’ик фи-л-мава‘из ва-р- рака’ик та’лиф аш-шайх ал-Хурайфиш ва би хамишихи китабан джалилан аввалухума китаб джалил йатадамман ахадис ва асар ау мава‘из тата‘аллак би-л-маут ма ба‘даху та’лиф аш-шайх Зайн ад-Дин ал-Малибари ва санихума китаб куррат ал-‘уйун ва муфаррих ал-калб ал-махзун ли-л-имам Аби-л-Лайс ас-Самарканди, Каир, 1311 [1893—94]; под тем же названием, Каир, 1320 [1902—03].
Санаубари.— См. Шайзари, Джамхарат ал-ислам.
Силсилат ат-таварих.— Relation des voyages faits par les arabes et les persans dans l’lnde et à la Chine dans le IXе siècle de l’ère crétienne. Texte arabe imprimé en 1811 par les soins de feu Langlès publié avec des corrections et additions et accompagné d’une traduction française et d’eclaircissement par M. Reinauid, t. I — Introduction et traduction, Paris, 1845; t. II — Notes de la traduction et texte arabe. Paris, 1845.
* См. также: Voyage du marchand arabe Sulaÿmân en Inde et en Chine redigé en 851, suivi de remarques par Abu Zayd Hasan (vers 916), traduit de l’arabe avec introduction, glossaire et index par G. Ferrand, Paris, 1922.
Субки, Табакат.— Табакат аш-шафи‘ийа ал-кубра та’лиф шайх ас-ислам… Аби Наср ‘Абд ал-Ваххаб ибн Таки ад-Дин ас-Субки, т. I-VI, Каир, 1324 [1906—07].
Суйути, Ава’ил.— Китаб ал-ава’ил та’лиф Аби Хилал ал-Хасан ибн ‘Абдаллах ибн Сахл ал-‘Аскари.
Частичное изд.: Gоsсhе, Die Kitâb al-awâil, eine literarhistorische Studie,— Pott und Gosche, Festgruss zur XXV Philologenversammlung, Halle, 1867.
Суйути, Муфассирин — см. Sujuti, De interpret. Corani.
Суйути, Музхир.— Китаб ал-музхир фи ‘улум ал-луга ва анва‘иха ли-л-аллама Джалал ад-Дин ас-Суйути, т. I-II, Каир, 1325 [1907—08].
Суйути, Хусн ал-мухадара.— Хусн ал-мухадара фи ахбар Миср ва-л-Кахира та’лиф ал-аллама аш-шайх Джалал ад-Дин ас-Суйути аш-Шафи‘и, т. I-II, Каир, 1299, [1881—82]; 1324 [1903—04].
Суккардан ас-султан — Китаб ал-михлат ли Баха’ ад-Дин Мухаммад ибн Хусайн ал- ‘Амили ва кад заййалана би китаб асрар ал-балага ли-л-му’аллиф ал-мазкур ва би хамишихи китаб суккардан ас-султан ли-л-имам аш-шайх Шихаб ад-Дин ибн ал-‘Аббас Ахмад ибн Йахйа ибн Аби Бакр аш-шахир би Ибн Хаджала ал- Магриби ат-Тилимсани, Каир [б.г.].
Китаб ал-михлат ли Баха’ ад-Дин Мухаммад ибн Хусайн ал-‘Амили ва кад заййалана би китаб асрар ал-балага ли-л-му’аллиф ал-мазкур ва би хамишихи китаб суккардан aс-султан ли-л-имам ал-имам ал-‘ариф аш-шайх Шихаб ад-Дин ибн ал-‘Аббас Ахмад ибн Йахйа ибн Аби Бакр аш-шахир би Ибн Хаджала ал- Магриби ат-Тилимсани, Каир, 1317 [1899—1900].
Сулами.— Абу ‘Абд ар-Рахман Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн Мухаммад ибн Муса ас-Сулами, Китаб табакат ас-суфийа, берлинская рукопись, № 9972 (Ahlwardt, Verzeichniss, Bd 9, стр. 408—409).
Сули, Аурак.— Йахйа ас-Сули, Ал-аурак фи ахбар ал-‘Аббас ва аш‘арихим, парижская рукопись, № 4836 (Blochet, Catalogue BN, nouv. acq., стр. 27).
Изд. Хейворс Данна: Akhbār ar-Raḍī wal-Muttaḳī from the Kitāb al-Awrāḳ. By Abũ Bakr Muhammad b. Yahya aṣ-Sũlī. Arabic text edited by J. Heyworth Dunne, London, 1935.
* Французский перевод: Akhbâr ar-Râdî billâh wa’l-Muttaqî billâh (Histoire de la Dynastie Abbaside de 322 а 333/934 а 944) par Mohammed ben Yahyâ as-Sûlî. Trad. de l’arabe par M. Canard T. I. Histoire d’ar-Râdî, Alger, 1946; t. II, Histoire d’al-Muttaqî, Alger, 1950 (PIEO, X, XII).
Табари, Анналы.— Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari cum aliis ed. M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, ser. I, t. I-VI, 1879—1890; ser. II, t. I-II, 1881—1889; ser. III, t. I-IV, 1879—1890; Introductio, glossarium, addenda et emendanda, 1901; Indices, 1904.
См. также: Та’рих ал-умам ва-л-мулук та’лиф Аби Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, т. I-XII, Каир, 1326 [1908].
* Изд. М. Абу-л-Фадла Ибрахима — Та’рих ар-русул ва-л-мулук ли Аби Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (224—340 г.х.), т. I-III, Каир, 1960—1962 (Заха’ир ал-‘араб).
* Частичный французский перевод: Recueil de textes relatifs au califat abbaside d’Al-Mu’tacim а Al-Mu’tamid (218—279—833—892) extraits de la «Chronique» de Tabari choisis par M. Canard, Alger, 1951.
Частичный немецкий перевод.— См. Табари-Нёльдеке.
* См. также: Джавад ‘Али, Маварид та’рих ат-Табари,— Маджаллат ал-маджма‘ ал-‘алимиййа ал-‘ираки, т. I, 1950, стр. 143-241; т. II, 1952, стр. 135-190; т. III, 1954, стр. 16-56; т. VIII, 1961, стр. 425-436.
* Ахмад Мухаммад ал-Хуфи, Ат-Табари, Каир, 1963.
Табари, Ихтилаф.— Китаб ихтилаф ал-фукаха та’лиф Аби Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари, Каир, 1320 [1902].
* См. также: Das konstantinopler Fragment des Kitāb ihtilāf al-fuqahā’ des Abū Ğa‘far Muḥammad ibn Ğarir aṭ-Ṭabarī, hrsg. von J. Schacht, Leiden, 1933 (Veröffentlichungen der «De Goeje — Stiftung», № X).
Табари-Нёльдеке.— Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden. Aus der arabischen Chronik der Tabari übers. und mit ausführlichen Erläuterungen und Ergänzungen, versehn von Th. Nöldeke, Leyden, 1879.
Табари, Тафсир.— Тафсир… ал-имам Аби Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари ал-мусамма джами‘ ал-баййан фи тафсир ал-куран ва би хамишихи гара’иб ал-куран ва рага’иб ал-фуркан ли-л-‘аллама Низам ад-Дин ал-Хасан ибн Мухаммад ибн Хусайн ал-Кумми ан-Найсабури, Каир, 1321 [1903—04].
Китаб джами‘ ал-баййан фи тафсир ал-куран та’лиф ал-имам …Аби Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари ва би хамишихи тафсир гара’иб ал-куран ва рага’иб ал-фуркан та’лиф Низам ад-Дин ал-Хасан ибн Мухаммад ибн Хусайн ал-Кумми ан-Найсабури, т. I-XIII, 1323 [1905—06].
См. также: Фихрист мин тафсир ал-имам Аби Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари ал-мусамма джами‘ ал-баййан фи тафсир ал-куран (б.м., б.г.].
Register zum Qorankommentar des Tabari (Kairo, 1321) von H. Haussleiter, Strassburg, 1912.
Тадж ал-‘арус.— Шарх ал-камус ал-мусамма тадж ал-‘арус мин джавахир ал- камус ли-л-имам ал-лугави Мухибб ад-Дин Аби-л-Файйид ас-Са‘ид Мухаммад Муртада ал-Хусайни ал-Васити аз-Забиди ал-Ханафи, т. I-X, Каир, 1306—1307 [1889—90].
Тазкира Хамдуниййа, парижск. рук — см. Ибн Xамдун, Тазкира.
Тазкират ал-аулийа.— Part I of the Tadhkiratu’l-Awliyá («Memoirs of the Saints») of Muḥammad ibn Ibráhím Farídu’d-dín ‘Aṭṭar edited in the original Persian, with preface, indices and variants, by R.A. Nicholson, with a critical introduction by Mírzá Muḥammad b. ‘Abdu’l-Wahháb-i-Qazwmi, London—Leyde, 1905 (PHT, III).
Part II of the Tadhkiratu’l-Awliyá («Memoirs of the Saints») of Muḥammad ibn Ibráhím Farídu’d-din ‘Aṭṭar edited in the original Persian, with preface, indices and variants, and a comparative table showing the parallel passages which occur in the Risálatu’l — Qushayriyya of Abu’l-Qásim al-Qushayrí, by R.A. Nicholson, London— Leyde, 1907 (PHT, V).
Танбих.— см.: Мас‘уди, Танбих.
Тануxи, Китаб нишвар.— Нишвар ал-мухадара ва ахбар ал-музакара та’лиф кади Абу ‘Али ибн Аби-л-Касим ‘Али ат-Танухи, парижская рукопись, №3482 (dе Slane, Catalogue BN, стр. 604-605).
* Изд. и перевод Марголиуса: The table-talk of a Mesopotamian judge being the first part of the Nishwār al-Muḥāḍarah or Jāmi’ al-Tawārīkh of Abu ‘Alī al-Muḥassin al-Tanūkhī, ed. from the Paris MS. by D.S. Margoliouth, London, 1921 (OTF; NS, XXVIII).
* The table-talk of a Mesopotamian judge transl. from the original Arabic by D.S. Margoliouth, London, 1922 (OTF, NS, XXVIII).
* См. также: [D.S. Margoliouth], The table-talk of a Mesopotamian judge, vol. VIII (the newly recovered eight volume of Nishwar al-Muhadara of Abu ‘Ali al-Muhassin al-Tanukhi),— IC, III, 1929, стр. 487-522; IV, 1930, стр. 1-28, 223-238, 363-388, 531-557; V, 1931, стр. 169-193, 352-371, 559-581; VI, 1932, стр. 47-66, 184-205, 370-396.
* Aḥmad Taymūr, Tafsīr al-alfāz ̣al-‘abbāsiya fī Nišwār al-muhadara,— RAAD, II, 1922, стр. 289-296, 321-382; III, 1923, passim.
Tануxи, Китаб ал-фарадж.— Китаб ал-фарадж ба‘д аш-шидда та’лиф Аби ‘Али ал-Мухассин ат-Танухи, т. I-II, Каир, 1904.
* См. также: A. Wiener, Die Farağ ba‘d aš-Sidda-Literatur. Von Madā’ini (+225 H.) b’s Tanūḫī (+384 H.), Ein Beitrag zur arabischen Literaturgeschichte,— DI, IV, 1913, стр. 270-298, 387-420.
Tануxи, Нишвар.— См. Танухи, Китаб нишвар.
Та’рих Багдад (изд. Кренкова).— F. Krenkow, The Tarikh-Baghdad (vol. XXVIII) of the Khatib Abu Bakr Ahmad b. ‘Ali b. Thabit at-Baghdadi. Short account of the biographies.— JRAS, 1912, стр. 31-79.
Та’рих Багдад (изд. Салмона).— L’introduction topographique à l’histoire de Bagdâdh d’Aboû Bakr Aḥmad ibn Thâbit al-Khatîb al-Bagdâdhî (392—463 H.—1002—1071 J.—C.) par G. Salmon, Paris, 1904 (BÉHÉt, fs. 180).
* См. также: Та’рих Багдад та’лиф Аби Бакр Ахмад ибн Сабит ал-Хатиб ал-Багдади, ч. 1-14, Каир, 1349 (1931).
Pascual, Y.-P., Index schématique du Ta’riḫ Baġdād, Paris, 1974 (Sér. onomasticon arabicum).
Татиммат ал-йатима, венск. рук.— Абу Мансур ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Исма‘ил ас-Са‘алиби, Йатима ад-дахр фи махасин ахл ал-‘аср, венская рукопись № 363 (см. также № 364, 365) (Flügel, Handschriften Bd I, стр. 335-338).
Таухиди, Фи-с-садака.— Рисалатан ли-л-‘аллама аш-шахир Аби Хаййан ат-Таухиди, Ар-рисала ал-ула фи-с-садака ва-с-садик. Ар-рисала ас-санийа фи-л-‘улум. Константинополь, 1301 [1883—84].
* См. также о нем: Une anthologie sur l’amitié d’Abū Hayyān at-Tawḥidī, par M. Bergé,— BEO, t. XVI, Années 1958—60, Damas, 196, стр. 15-60.
Тибб ал-фукара — Абу-л-Хасан ал-Кураши, Тибб ал-фукара ва-л-масакин, мюнхенская рукопись, № 807 (Aumer, Die arabischen Handschriften, стр. 335).
Тираз ал-мувашша.— Ат-тираз ал-мувашша фи сина‘ат ал-инша’ та’лиф Мухаммад ан-Наджжар ал-мударрис би-л-джами‘ ал-Азхар, т. I-II, Каир, 1894.
Тухфа ал-бахийа.— Ат-тухфа ал-бахийа ва-т-тарка аш-шахийа фиха саб‘а ‘ашара маджму‘а мунтахаба таштамала ‘ала адабийат му‘джиба ва навадир мутриба, Константинополь, 1302 [1884—85].
Тухфат ал-‘арус.— Тухфат ал-‘арус ва нузхат ан-нуфус та’лиф Аби ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ат-Тиджани, Каир, 1301 [1883—84].
‘Умара ал-Йамани.— ‘Oumâra du Yémen sa vie et son oeuvre par H. Derenbourg, t. I-II, Paris, 1897, 1902, 1904 (PÉLOV, IV ser., X, XI, XI bis), t. I. Autobiographie et Récits des Vizirs d’Égypte. Choix de Poésies, 1897; t. 2 (Partie arabe) Poésies, Épitrês, Biographies. Notices en arabe par ‘Oumâra et sur ‘Oumâra, 1902; t. 2 (Partie française). Vie de ‘Oumâra Yémen, 1904.
‘Умдат ат-талиб (парижск. рук.) — ‘Абдаллах ибн Ибрахим ал-Асили, ‘Умдат ат-талиб фи насаб ал-Аби Талиб, парижская рукопись, № 2021 [у А. Меца номер рукописи дан неверно] (dе Slane, Catalogue BN, стр. 360).
* См. также: I. Madkоur, La place d’al-Fârâbî dans l’école philosophique musulmane. Préface de L. Massignon, Paris, 1934.
* Русский перевод: Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммад, Философские трактаты, Алма-Ата, 1970.
* О нем: А. Кобесов, Аль-Фараби, Алма-Ата, 1971.
Фахри (изд. Альвардта).— Elfachri, Geschichte der islamischen Reiche von Anfang bis zum Ende des Chalifates von Ibn etthiqthaqa. Arabisch. Hrsg. nach der Pariser Handschrift von W. Ahlwardt, Gotha, 1860.
Фахри (изд. Деранбура).— Al-Fakḥrî, Histoire du khalifat et du visirat depuis leurs origines jusqu’à la chute du khalifat ‘abbaside de Baghdhâdh (II — 656 de l’hègire — 632—1258 de notre ère)…, par Ibn at-Ṭiḳṭaḳa Nouvelle édition du texte arabe par H. Derenbourg, Paris, 1895 (BÉHÉt, fasc. 105).
Французский перевод: Al-Fakhrî, Histoire des dynasties musulmanes depuis la mort de Mahomet jusqu’à la chute du khalifat ‘Abbasîde de Baghdâdh (II — 656 de l’hègire — 632—1268 de J.-C.). Avec des prolégomènes sur les principes du gouvernement par Ibn aṭ-Ṭiqṭaqâ, trad. de l’arabe et annoté par É. Amar. Paris, 1910 (Publication de la Mission scientifique du Maroc, vol. XVI).
* Русский перевод: Фахри, Правила для государей и рассказы о мусульманских династиях,— сочинение Мухаммеда бен-Али-бен-Табатаба, известного под именем Ибн-Тиктака. С арабского подлинника перевел на русский язык к дополнил замечаниями П. Холмогоров, Казань, 1803.
Фихрист.— Kitâb al-Fihrist. Mit Anmerkungen hrsg. von G. Flügel, nach dessen Todebesorgt von J. Roediger und A. Müller. Bd I: den Text enthaltend, von J. Roediger, Leipzig, 1871; Bd II: die Anmerkungen und Indices enthaltend, von A. Müller, Leipzig, 1872.
* Китаб ал-фихрист та’лиф Аби-л-Фарадж Мухаммад ибн Исхак ибн Аби Йа‘куб ибн ан-Надим ал-Варрак ал-Багдади, Каир, 1348 [1930].
* Английский перевод: The Fihrist of al-Nadim; a tenth-century survey of Muslim culture. Transl. by Bayard Dodge, London, 1970.
* См. также: J. Fück, Eine arabische Literaturgeschichte aus dem 10. Jahrhundert n. Chr. (Der Fihrist des Ibn an-Nadîm),— ZDMG, 84, 1930, стр. 111-124.
* J. Fück, Neue Materialien zum Fihrist,— ZDMG, 90, 1936, стр. 298-321.
Фусул, лондонск. рук.— см. Джахиз, Фусул.
Хазз ал-кухуф.— Хазз ал-кухуф фи шарх касиди Аби Шадуф та’лиф аш-шайх Йусуф ибн Мухаммад ‘Абд ал-Джавад ибн Хидр аш-Ширбини, Александрия, 1289 [1872—73]; под тем же названием: Булак, 1308 [1890—94], Каир, 1308 [1890—94], 1323 [1905—06].
Халбат ал-кумайт.— Хаза китаб халбат ал-кумайт фи-л-адаб ва-н-навадир ал-мута‘аллака би-л-хамрийат ли-л-имам ал-адиб ва-л-хумам ан-наджиб Шамc ад-Дин Мухаммад ибн ал-Хасан ан-Наваджи, [Каир], 1299 [1881—82].
Xамави, Самарат ал-аурак.— Самарат ал-аурак фи-л-мухадарат та’лиф Ибн Хиджжа ал-Хамави, Булак, 1300 [1882—83].
Хамадани, Диван (рук.).— Абу-л-Фадл Бади‘ аз-Заман ал-Хамадани, Диван, парижская рукопись, № 21472 (dе Slane, Catalogue, BN, стр. 380).
Хамадани, Диван.— Диван ал-‘аллама фахр Хамазан бади‘ аз-Заман Аби-л-Фадл Ахмад ибн ал-Хусайн ал-Хамазани, Каир, 1321 [1903] — изд. шайх ‘Абд ал-Ваххаб Ридван и Мухаммад Шукри-эфенди ал-Макки.
* Хамадани, Макамы.— Макамат Аби-л-Фадл Бади‘ аз-Заман аз-Хамадани, Константинополь, 1298 [1880—81], под тем же заглавием с комментариями Мухаммада ‘Абду, Бейрут, 1889.
Хамадани, Раса’ил.— Хизанат ал-адаб ва гайат ал-‘араб ли-л-‘алим ал-адиб ва-л-лауза‘и ал-ариб аш-шайх Таки ад-Дин Аби Бакр ‘Али ал-ма‘руф би Ибн Хиджжа ал-Хамави ва би хамишихи раса’ил Аби-л-Фадл Ахмад ибн ал-Хусайн ибн Йахйа ибн Са‘ид ал-Хамазани ал-ма‘руф би Бади‘ аз-Заман…, Каир, 1304 [1886—87].
Раса’ил Аби-л-Фадл Бади‘ аз-Заман ал-Хамазани, Бейрут, 1890 (с комментариями Ибрахима Ахдаба Тарабулуси).
Хамадани, Такмилат.— Абу-л-Хасан Мухаммад ибн ‘Абд ал-Малик ал-Хамдани. Такмила та’рих ат-Табари, парижская рукопись № 1469 (dе Slane, Catalogue BN, стр. 282).
Изд. А.Й. Кана‘ана: Такмила та’рих ат-Табари.— «Ал-Машрик», Бейрут, 1955, стр. 21-42, 149-173; 1957, стр. 185-216.
Хамадани, ‘Уйун ас-сийар — см. Ибн Xалликан, № 709.
Хамдаллах Муставфи.— Mesopotamia and Persia under the Mongols in the fourteenth century A.D. From the Nuzhat al-Ḳulub of Ḥamd-Allah Mustawfi,. London, 1903 (ASM, vol. V).
Хамдани.— Al-Hamdânî's Geographie der arabischen Halbinsel nach den Handschriften von Berlin, Constantinopel, London, Paris und Strassburg zum ersten Male hrsg. von D.H. Müller, t. I-II, Leiden, 1884—1891.
D.H. Müller, Das Buch der arabischen Halbinsel von Abu Ḥasan al-Hamdani,— SBAW Berk, 90, 1878, стр. 299-333.
Хамза Исфахани, Анналы.— Hamzae Ispahanensis Annalium libri X. Edidit J.M.E. Gottwaldt, t. I, Textus arabicus, Petropoli — Lipsiae, MDCCCXLIV; t. II, Translatio latina, Lipsiae, MDCCCXLVIII.
* Та’рих сини мулук ал-ард ва-л-анбийа’ та’лиф Хамза ибн ал-Хасан ал-Исфахани, Берлин, [1922].
* Та’рих сини мулук ал-ард ва-л-анбийа’ та’лиф Хамза ибн ал-Хасан ал-Исфахани, Бейрут, [1961].
* Английский перевод: The annals of Ḥamzah al-Iṣfahānī. Translated from Arabic by U.M. Daudpota,— «Journal of the K.R. Cama Oriental Institute», 1932, стр. 58-120.
Хасан ибн ал-Мунзир, ‘Аджа’иб.
Хассаф.— См. Китаб адаб ал-кади.
Хатиб ал-Багдади, Та’рих Багдад.— Абу Бакр Ахмад ‘Ал ибн Сабит ал-Хатиб ал-Багдади, Та’рих Багдад, парижская рукопись № 2128 (dе Slane, Catalogue BN, стр. 377).
Хатиб ал-Багдади, Та’рих Багдад.— См. Та’рих Багдад (изд. Салмона).
Хафаджи, Райханат ал-алибба.— Райханат ал-алибба ва захоат ал-хаййат ад-дунйа ли-л-ариб ал-камил ал-адиб ал-фадил Шихаб ад-Дин Махмуд ал-Хафаджи, Каир, 1304 [1886—87].
Хваризми, Диван, парижск. рук.
Xваризми, Мафатих ал-‘улум.— См. Мафатих ал-‘улум.
Хваризми, Раса’ил,— Раса’ил Аби Бакр ал-Хваризми, Константинополь, 1297 [1879—80].
Хизанат ал-адаб.
Xуджвири.— См. Кашф ал-махджуб.
Хусри.— Ал-‘икд ал-фарид та’лиф Шихаб ад-Дин Ахмад ал-ма‘руф би Ибн ‘Абд Раббихи ал-Андалуси ва би хамишихи захр ал-адаб ва самар ал-албаб ли Аби Исхак Ибрахим ибн ‘Али ал-ма‘руф би-л-Хусри ал-Кайраувани, т. I-III, Каир, 1302 [1884—85].
Захр ал-адаб ва самар ал-албаб ли Абй Исхак Ибрахим ибн ‘Али ал-ма‘руф би-л-Хусри ал-Кайраувани, Каир, 1316 [1898—99].
* Изд. Заки Мубарака: под тем же названием, Каир, 1344 [1925—26].
* См. также: Зайл захр ал-адаб… [изд. М. Амин ал-Ханаджи], Каир, 1353 [1934—35].
* Чураков, Магриб,— М. Чураков, Магриб накануне хариджитского восстания,— «Палестинский сборник», 5 (68), 1960, стр. 66-84.
* Чураков, Хариджитские восстания.— М. Чураков, Хариджитские восстания в Магрибе,— «Палестинский сборник», 7 (70), 1962, стр. 101-129.
Шабушти, Китаб ад-дийарат.— Абу-л-Фарадж ‘Али ибн ал-Хусайн ал-Исфахани, Китаб ад-дийарат, берлинская рукопись, № 8321 (Ahlwardt, Verzeichniss, Bd 7, стр. 309-310) [Альвардт ошибочно приписал эту рукопись ал-Исфахани].
* Изд. Г. ‘Аввада — Kitab al-Diyarat or the book of Monasteries by Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Shabushti. Edited by Gurgis ‘Awwad, Baghdad, 1951.
* См. также: E. Sachau, Vom Klosterbuch des Šabuštî,— APAW, 1919, № 10.
Шайзapи, Джамхарат ал-ислам.— Амин ад-Дин Абу-л-Гана’им Муслим ибн Махмуд аш-Шайзари, Джамхарат ал-ислам дат ан-наср ва-н-низам, лейденская рукопись, № 480 (Catalogue LB, ed. sec., vol. I, стр. 287-296).
Шайxу, «Машрик», 8.— Л. Шайxу, Ахад аш-ша‘анин ва рутабух,— «Ал-Машрик», Бейрут, 1905, 8, стр. 333-345.
Шайху, «Машрик», 10.— Л. Шайху, Китаб нихайат ар-рутба фи талаб ал-хисба,— «Ал-Машрик», Бейрут, 1907, 10, стр. 1079-1086.
См. также: Cheikho.
Шахрастани.— См. Ибн Xазм, Милал.
* См. также: Book of religious and philosophical sects by Muhammad al-Shahrastani, first ed. by W. Cureton, t. I-II, London, 1846; Reprinted, Leipzig, 1923.
* Изд. Мухаммада Фатхаллаха Бадрана: Китаб ал-милал ва-н-нихал ли-л-имам Аби-л-Фатх Мухаммад ибн ‘Абд ал-Карим аш-Шахрастани, т. I, Каир, 1954; т. II, Каир, 1956.
Немецкий перевод: Abu-’l-iFath‘ Muh‘ammad asch-Schahrastani’s Religionspartheien und Philosophen-Schulen. Zum ersten Male vollständig aus dem Arabischen übersetzt und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Th. Haarbrücker, t. I-II, Halle, 1850—1851.
Шумовский, Кто такой Дабавкара? — Т.А. Шумовский, Кто такой Дабавкара? (К истории арабско-индийских связей),— «Семитские языки», вып. 2 (ч. 2). Материалы первой конференции по семитским языкам, 26-28 окт. 1964 г., М., 1965, стр. 477-480.
Abd al-Нalim Mahmoud, Al-Mohasibi.— Abd al-Halim Mahmoud, Al-Mohâsibî: un mystique musulman religieux et moraliste, Paris, 1940.
Abdel-Kader, The life of al-Junayd Ali-Hasan Abdel-Kader, The life, personality and writings of al-Junayd. A study of a third/ninth century mystic with an edition and translation of his writings, London, 1962 (GMS, NS, 22).
* Abu Yusuf.— Abu Yusuf’s Kitab al-Kharaj. Transl. and provided with an introd. and notes by A. Ben Shamesh, Leiden, 1969.
Ahlwardt, Six Divans,— The Divans of the six ancient arabic poets Ennābiga, ’Antara, Tharafa, Zuhair, ’Alqama and Imruulqais; chiefly according to the MSS. of Paris, Gotha, and Leyden; and Collection of their fragments with a list of various readings of the text. Edited by W. Ahlwardt, London, 1870.
Ahlwardt, Verzeichniss.— W. Ahlwardt, Verzeichniss der arabischen Handschriften. Bd I-X, Berlin, 1887—1899 (Die Handschriften-Verzeichnisse der königlichen Bibliothek zu Berlin, Bd VII-XXII).
* Allard, Le problème.— M. Allard, Le problème des attribute divins dans la doctrine d’al-Aš‘arī et de ses premiers grands disciples, Beyrouth, 1965.
Amedrоz, DI, III.— H.F. Amedroz, The Vizier Abu-l-Fadl Ibn al‘Amîd from the «Tajârib al-Umam» of Abu ‘Ali Miskawaih,— DI, Bd III, 1912, стр. 323-351.
См. также: Н.F. Amedroz, The Tajârib al-Umam of Abu‘Ali Miskawaih,— DI, Bd V, 1914, стр. 335-357.
Amedroz, JRAS, 1906.— H.F. [Amedroz], Tuḥfa Dawî-l-Arab über Namen und Nisben bei Byẖarî, Muslim, Mâlik. By Ibn H̱aṭîb al-Dahša, Ed. by T. Mann (Leiden, 1905) — JRAS, 1906, стр. 473-475 [Рец.].
Amedroz, JRAS, 1906,— H.F. Amedroz, An unidentified MS. by Ibn al-Jauzi in the Library of the British Museum, Add. 7, 320,— JRAS, 1906, стр. 851-880; 1907, стр. 19-39.
Amedroz, JRAS, 1908.— H.F. Amedroz, Tales of official life from the «Tadhkira» of Ibn Ḥamdūn,— JRAS, 1908, стр. 409-470.
Amedroz, JRAS, 1910.— H.F. Amedroz, The Office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi,— JRAS, 1910, стр. 761-796.
Amedroz, JRAS, 1911.— H.F. Amedroz, The Mazālim jurisdiction in the Ahkam Sultaniyya of Mawardi,— JRAS, 1911, стр. 635-674.
Amedroz, JRAS, 1912.— H.F. Amedroz, Notes on some sufi lives,— JRAS, 1912, стр. 551-586.
Amedroz, JRAS, 1913.— H.F. Amedroz, Abbasid administration at its decay. From the Tajarib Al-Umam,— JRAS, 1913, стр. 823-842.
Ana al-Haqq, DI, III.— L. Massignon, «Ana al-Ḥaqq». Étude historique et critique sur une formule dogmatique de théologie mystique, d’après les sources islamiques,— DI, Bd III, 1912, стр. 248-257.
Anecdota Oxonensia.— Anecdota Oxonensia. Texts, documents, and extracts chiefly from manuscripts in the Bodleian and other Oxford Libraries. Semitic series. Oxford.
* Arabic and Islamic studies.— Arabic and Islamic studies in honor of Hamilton A.R. Gibb, edited by G. Makdisi, Leiden, 1965.
Arabica.— Arabica. Revue d’études arabes. Fondée par E. Lévi-Provençal et publiée avec le concours du centre national de la recherche scientifique de France, Leiden.
* Arberry, A Baghdad cookery-book.— A.J. Arberry, A Baghdad cookery-book,— IC, vol. XIII, 1939, стр. 21-31, 189-214.
* Ashtоr, Essai — E. Ashtоr. Essai sur les prix et les salaires dans l’empire califien,— RSO, vol. XXXVI, стр. 19-69.
A travers la Perse orientale, Hachette, 1907.— [Французский перевод книги: P.M. Sykes, Ten thousand miles in Persia or eight years in Iran, London, 1902.]
Awa, L’esprit.— A. Awa, L’esprit critique des frères de la Pureté, Beyrouth, 1948.
Aumer, Die arab. Handschriften.— Die arabischen Handscriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in Muenchen beschrieben von J. Aumer, München, 1866.
Aus Persien.— Oesterreicher [G. Riederer], Aus Persien, Aufzeichnungen eines Oesterrei- chers, der 40 Monate im Reiche der Sonne gelebt und gewirkt hat, Wien, 1882.
Barhebraeus. Buch der Strahlen.— Buch der Strahlen die grossere Grammatik des Barhebräus. Übersetzung nach einem kritisch berichtigten Texte mit textkritischem Apparat und einem Anhang: Zur Terminologie von Dr. A. Moberg, t. 2, Einleitung und zweiter Teil, Leipzig, 1907; t. 1, Einleitung. Traktat, Leipzig, 1913.
* Le livre des splendeurs la grand grammaire de Grégoire Barhebraeus texte syriaque édité d’après les manuscrits avec une introduction et de notes par A. Moberg, Lund—London—Oxford—Paris—Leipzig, 1922 (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet I Lund, Acta reg. societatis humaniorum litterarum Lundensis, IV).
Изд. и французский перевод: Le candélabre des sanctuaires de Grégoire Aboulfaradj dit Barhebraeus, édité et traduit en français par J. Bakoš, Paris, 1930, 1933, 1957 (PO, t. XXII, fasc. 4; t. XXIV, fasc. 3; t. XXVII, fasc. 4).
* См. также: A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, стр. 312-320.
Barhebraeus, Chron. eccles.— Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum quod e codice Musei Britannici descriptum conjuncta opera ediderunt, latinitate donarunt, annotationibusque theologicis, historlcis, geographicis et archaeologicis illustrarunt J.B. Abbeloos et Th.J. Lamy, t. I-II, Lovanii (Parisiis—Lovanii), 1871—1877.
Barhebraeus, Chronography.— [E.A.W. Budge], The Chronography of Gregory Abul Faraj, commonly known as Bar Hebraeus. Political History, ed. and transl. by E.A.W. Budge, t. 1-2, Oxford, 1932.
Вaudissin, Eulogius und Alvar.— W.W.F. Вaudissin, Eulogius und Alvar, Leipzig, 1872.
Becker, Beiträge.— Beitrage zur Geschichte Ägyptens under dem Islam von С.H. Becker, Heft I-II, Strassburg, 1902—1903.
Becker, DI, II — С.H. Becker, Historische Studien über das Londoner Aphroditowerk,— DI, Bd II, 1911, стр. 359-371.
* Becker, Islamstudien.— Vom Werden und Wesen der islamischen Welt. Islamstudien von С.H. Becker, Bd 1, Leipzig, 1924; Bd 2, Leipzig, 1932.
Becker, Papyri Schott-Reinh.— Papyri Schott-Reinhardt I,… hrsg. und erklärt von С.H. Becker, Heidelberg, 1906 (Veröffent., aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung, III. I).
Becker, ZA, XVIII.— С.H. Becker, Die Entstehung von ‘Ušr- und Harağ-Land in Aegypten,—ZA, Bd XVIII, 1904/05, стр. 301-309.
См. такжe: Вecker, Islamstudien, Bd I, стр. 218-233.
Becker, ZA, XXVI.— С.H. Becker, Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung.— ZA, Bd XXVI, 1912, стр. 175-195.
См. также: Becker, Islamstudien, Bd I, стр. 432-449.
R. Benjamin v. Tudela — см. Вениамин Тудельский.
Bergbauer, Das Itenerar des Münchener Orientreisenden Schiltberger.— J. Вergbauer, Das Itenerar des Münchener Orientreisenden Hans Schiltberger,— PM, 1914.
Berthelot, La chimie au moyen âge.— M. Вerthelоt, La chimie au moyen âge, I-III, Paris, 1893; t. III. L’alchimie arabe (M.O. Houdas), Paris, 1893.
Bibl. des literar. Vereins Schiltberger.—см.: Schiltberger, Bibl. des literar. Vereins.
* Bibliography of Bibliographies.— A Bibliography of Bibliographies on Iranian Studies by Irag Afshar, Tehran, 1963 (Iranica. Bull. of the Centre for the Studies of Civilisation and Culture of Iran and the Middle East, vol. 1, Jan. 1963).
* Bielawski.— J. Вielawski, Ksiąźka w świecie Islamu, Wrocław, 1961.
* Bišr Fāris.— Bišr Fāris, L’honneur chez les Arabes avant ITslam. Paris, 1932.
* Bishai, Islamic History,— W.В. Вishai, Islamic History of the Middle East, backgrounds, development, and fall of the Arab Empire, Boston, 1968.
Blachère, Extraits.— R. Blachère, Extraits des principaux géographes arabes du Moyen Age,— Bibliotheca Arabica d’Alger, Beyrouth, 1932.
* Blachère, Histoire.— R. Blachère, Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XVе siècle de J.—C., Paris, 1952—66.
* Blachère, Un jardin secret.— R. Blachère, Un jardin secret; la poésie arabe,— Studia Islamica, IX, 1938.
* Blachère, Principaux themes.— R. Blachère, Principaux themes de la poésie érotique au siècle des Umayyades de Damas,— Annales de l’lnstitut d’Etudes Orientales d’Alger, t. V, 1939—41.
* Blachère et Darmaun.— R. Blachère et H. Darmaun, Géographes arabes du Moyen Age, Paris, 1957.
* Blachère et Masnou.— R. Вlachère et P. Masnou, Choix de maqāmāt, Paris, 1907.
* Вlоchet, Catalogue BN, nouv. acq.—Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles acquisitions (1884—1924) par E. Blochet, Paris, 1925.
* Bonebakker.— S.A. Bonebakker, Notes on the Kitab Nadrat al-Igrid of al-Muzaffar al-Husayni, 1968.
* Bousquet.— G.H. Bousquet, L’éthique sexuelle de l’Islam, 2e, éd., Paris, 1968.
* Boustany.— S. Boustany, Ibn ar-Rūmī. Sa vie et son œuvre (I. Ibn ar-Rūmī dans son milieu), Beyrouth, 1967.
* Bowen, Life and times.— H. Bowen, The life and times of ‘Alí ibn ‘Isà‘, the Good Vizier, Cambridge, MCMXXVIII [1928].
Bretschneider, Researches.— E. Bretschneider, Mediaeval researches from Eastern Asiatic sources. Fragments towards the knowledge of the geography and history of Central and Western Asia from the 13th to the 17th century, vol. I-II, London, 1888; 2nd ed., 1910.
Bricteux, Au pays du lion.— A. Bricteux, Voyage en Perse. Au pays du lion et du soleil, preced. d’une préface de J. Leclerq, Bruxelles, 1910.
Browne, A Literary History.— E.G. Вrоwne, A Literaty History of Persia, vol. I. From the Earliest Times until Firdawsi, Cambridge, 1902; vol. II. From Firdawsi to Sa‘di. Cambridge, 1906.
* [vol. III]. A History of Persian Literature under Tartar Dominion (A.D. 1265—1502), Cambridge, 1920; [vol. IV]. A History of Persian Literature in modern times (A.D. 1600—1934), Cambridge, 1924.
Browne, Travels in Africa.— W.G. Browne, Travels in Africa, London, 1790.
Вrucker, Strassburger Zunft- und Polizeiverordnungen.
Вrünnоw, Die Charidschiten.— Die Charidschiten unter den ersten Omayyaden. Ein Beitrag zur Geschichte des ersten islamischen Jahrhunderts. Inauguraldissertation zur Erlangung des philosophischen Doctorgrades auf der Universität Strassburg von R.E. Brünnow, Leiden, 1884.
* Английский перевод: S. Khuda Bukhsh, Kharijites under the First Omayyads,— «Muslim Review», 1927.
* Brunschvig.— R. Вrunschvig, Classicisme et dйclin culturel dans l’histoire de I’Islam, Paris, 1957.
Buchser, Marokkanische Bilder.— F. Buchser, Marokkanische Bilder, nach des Malers Franz Buchser Reiseskizzen ausgeführt v. A. Roth, Berlin, 1864.
Budge, Book of Governors.— The Book of Governors: The historia monastica of Thomas Bishop of Marga A.D. 840. Edited from Syriac manuscripts in the British Museum and other libraries by E.A. Wallis Budge, vol. I. The Syriac text, introduction etc., London, 1893; vol. II. The English translation, London, 1893.
Burckhardt, Die Zeit Constantin’s des Grossen.— Die Zeit Constantin’s des Grossen von J. Burckhardt, 2-te verbesserte und vermehrte Auflage, Leipzig, 1880; 3-te Aufl., Leipzig, 1898.
* См. также: J. Burckhardt, Gesammelte Werke, Bd II, Stuttgart, 1929.
* Burton, Arabian Nights — R.F. Вurtоn, A plain and literal translation of the Arabian Nights’ Entertainments, now entituled the Book of the Thousand Nights and a Night, with introduction, explanatory notes and a terminal essay, vol. 1-10, Benares, 1885.
* R.F. Burton, Supplemental Nights to the Book of the Thousand Nights and a Night, with notes anthropological and explanatory, vol. 1-6, Benares, 1886—88.
* См. также: Mia I. Gerhardt, The art of Story-telling. A literary study of the Thousand and One Nights, Leiden, 1968.
Busse, Bewässerungswirtschaft in Turan.— Bewässerungswirtschaft in Turan und ihre Anwendung in der Landeskultur von Dr. W. Busse, Jena, 1915 (Veröffentlichungen des Reichs-Kolonialamts, № 8).
* Cahen, Contribution à l’étude des impots.— C. Cahen, Contribution à l’étude des impots dans l’Égypte Médiévale,— JESHO, vol. V, part III, 1962, стр. 244-275, 277-278.
Caro, Wirtschaftsgeschichte.— G. Caro. Social- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und der Neuzeit. Bd I. Das frühere und das hohe Mittelalter, Leipzig, 1908 (Schriften hrsg. von der Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft des Judentums).
* Caskel — Festschrift Werner Caskel. Zum siebzigsten Geburtstag 5. März 1966 gewidmet von Freunden und Schülern. Hrsg. von E. Graf, Leiden, 1968.
Catalogue L.B.— Catalogus codicum orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno Batavae, vol. I-II, auctore R.P.A. Dozy, Lugduni Batavorum, 1851; vol. III, auctoribus P. de Jong et M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1865; vol. IV, auctoribus P. de Jong et M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1866; vol. V, auctore M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1873; vol. VI, auctore M.Th. Houtsma, Lugduni Batavorum, 1877.
Catalogus LB, ed. sec.— Catalogus codicum arabicorum Bibliothecae Academiae Lugduno—Batavae. Editio secunda, auctoribus M.J. de Goeje et M.Th. Houtsma, vol. I, Lugduni Batavorum, 1888; vol. II (pars prior), auctoribus M.J. de Goeje et Th.W. Juynboll, Lugduni Batavorum, 1907.
Catalogus MB [G. Rieu].— Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur, Pars I-III, Londini, MDCCCXXXVIII — MDCCCXLVI — MDCCCXLVII [1838—1846—1847].
Centenario di M. Amari.— Centenario della nascita di Michele Amari. Scrittio di filologia e storia araba…, t. 1-2, Palermo, 1910.
* Cheikho, Catalogue raisonné.— L. Cheikho, Catalogue raisonné des mss. historiques de la Bibliothèque Orientale de l’Université St. Joseph, fasc. I-VI, Beyrouth, 1913—1929 (Mélanges de la faculté orientale, extrait du tome VI, стр. 213-304; du t. VII, стр. 245-304; t. VIII, fasc. 6, стр. 387-440; t. X, fasc. 5, стр. 107-179; t. XIV, fasc. 3, стр. 43-171); [выпуски имеют заглавия:] fasc. II — Catalogue raisonné des manuscrits de la Bibliothèque Orientale de l’Université de Beyrouth; fasc III-VI — Catalogue raisonné des manuscrits de la Bibliothèque Orientale.
Chenery, Hariri.— The Assemblies of al Ḥarîri, translated from the Arabic, with an introduction, and notes historical and grammatical. By Th. Chenery, vol. I. Containing the first twenty-six assemblies. London — Edinburgh, 1867 (OTS, NS, III, vol. 9); vol. II. The assemblies of al-Ḥarîri, translated from the Arabic, with notes, historical and grammatical. By F. Steingass, prefaced and indexed by F.F. Arbuthnot, vol. II. Containing the last twenty-four assemblies, London, 1898 (OTS. NS, III, vol. X).
Corpus script, historiae Byzant.— Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio emendatior et eopiosior, consilio B.G. Niebuhrii instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque philologorum parata… t. 1-50, Bonnae, 1829—1897.
* Creswell. Bibliography.— К.A.C. Creswell, Bibliography of the architecture, arts and crafts of Islam to the Jan. 1960, Cairo, 1961.
* Creswell, Bibliography of the Architecture.— К.А.С. Creswel, A bibliography of the Muslim architecture of Mesopotamia,— «Sumer», vol. XII, 1956, стр. 51-65.
Cron. Moro Rasis.— Cronica del Moro Rasis — MAH, VIII.
Description of Syria, Transl. by Le Strange.— см.: Le Strange, Description of Syria.
Dict, technic, terms.— …A dictionary of the technical terms used in the sciences of the musalmans, pt I-II. Edited by Mawlawies Mohammad Wajih, Abd Al-Haqq and Gholam Kadir under the superintendence of A. Sprenger and W. Nassau Lees, [Calcutta], 1862 (Bibliotheca Indica; a collection of oriental works published by the Asiatic Society of Bengal. Old series).
Diels, Antike Technik,— Antike Technik. Sechs Vorträge von H. Diels, Leipzig — Berlin, 1914.
* Sieben Vorträge von H. Diels, 2-te erweiterte Aufl. Leipzig und Berlin, 1920.
* Русский перевод: Г. Дильс, Античная техника. Перевод и примечания М.Е. Сергеенко и П.П. Забаринского, под редакцией и с предисловием С.И. Ковалева, М.—Л., 1934 (АН СССР, Труды Института истории науки и техники. Переводы, выл. I).
Diehl, Afrique byzantine.— С. Diehl, L’Afrique byzantine. Histoire de la domination byzantine en Afrique (533—709), Paris, 1896.
Dionys. von Tellmachre — Chronique de Denys de Tell-Mahré. Quatrième partie. Publiée et traduite par J.-B. Chabot. Texte syriaque; Traduction française, Paris, 1896 (BÉHÉt, f. 112).
* Об авторе: В. Райт, Краткий очерк истории сирийской литературы. Пер. с английского K.А. Тураевой. Под редакцией и с дополнениями проф. П.К. Коковцева, СПб., 1902, стр. 138-144.
Dorn, Caspia.— В. Dorn. Caspia. Über die Einfälle der alten Russen in Tabaristan nebst Zugaben über andere von ihnen auf dem Kaspischen Meere und in den anliegenden Ländern ausgeführte Unternehmungen, St.-Pbg., 1875 (MA, VII-е ser., t. XXIII, № 1).
* Русский перевод: Б. Дорн, Каспий. О походах древних русских в Табаристан, СПб., 1875.
Dozy, Catalogus.— Catalogus codicum orientalium bibliothecae Academiae Lugduno Batavae auctore R.P.A. Dozy, vol. (I-III, Lugduni Batavorum, MDCCCLI — MDCCCLXV [1851—1865]; vol. IV, auctoribus P. de Jong et M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, MDCCCLXVI [1861]; vol. V, auctore M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, MDCCCLXXIII [1873].
Dozy, Gesch. der Mauren.— Geschichte der Mauren in Spanien bis zur Eroberung Andalusiens durch die Almoraviden (711—1110), von R. Dozy. Deutsche Ausgabe mil Originalbeitragen des Verfassers, Bd I-II, Leipzig, 1874.
Французский оригинал: Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’a la conquête de l’Andalousie par les Almoravides (711—1110) par R. Dozy, t. 1-4, Leyde, 1861.
* Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’à la conquête de l’Andalousie par les Almoravides (711—1110) par R. Dozy. Nouvelle édition revue et mise à jour par E. Levi Provençal, I-III, Leide, 1932.
Dozy, Noms des vêtements.— Dictionnaire détaillé des noms de vêtements chez les Arabes, ouvrage couronné et publié par la troisième classe de l’Institut Royale des pays-bas par R.P A. Dozy, Amsterdam, 1845.
Dvořak, Abu Firas,— см. Абу Фиpac.
Ebers, ZDMG, 41.— G. Ebers, Gustav Seyffarth, sein Leben und der Versuch einer gerechten Würdigung seiner Tätigkeit auf dem Gebiete der Äegyptologie,— ZDMG, Bd XLI,1886, стр. 193-231.
Ebersоll, Le grand palais de Constantinople.— J. Ebersоll, Le grand palais de Constantinople et le livre des Cérémonies, avec un avant-propos de Ch. Diehl et un plan de A. Thiers, Paris, 1910.
Édrisi, Description de l’Afrique.— см.: Идриси (изд. Дози).
Elias Nisibenus.— см. Илья из Нисибина.
Erman.— A. Erman, Bruchstücke koptischer Volksliteratur, Berlin, 1897 (APAW).
Eusebius.— The ecclesiastical history of Eusebius in Syriac edited from the manuscripts by the late W. Wright and N. Mc Lean with a collation of the ancient Armenian version by A. Merx, Cambridge, 1898.
Eutychius, CSCO.— Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales, pars prior; pars posterior accedunt Annales Yahia Ibn Saïd Antiochensis conjuncta opera…, ediderunt L. Cheikho. B. Garra de Vaux, H. Zayyat, Beryti — Parisiis — Lipsiae, MDCCCCIX [1909] (CSCO, SA, t. VI, VII).
* См. также: …Contextio Gemmarum, sive Eutichii Patriachae Alexandrini Annales, Interpreto Edw. Pocockio, t. I-II, Oxonia, 1658, 1659.
Fagnan, Histoire de Almohades de Merrakechi — см. Марракуши (пер. Фаньяна).
Fagnan, Les tabakat malekites.— E. Fagnan, Les tabakat malekites,— Homenaje à D. Francisco Codera, стр. 105-113.
Fagnan.— E. Fagnan, Arabo-Judaica,— REJ, t. 59, 1910, стр. 225-230.
* Fahd.— T. Fahd, La divination arabe. Études religieuses. sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l’Islam, Leiden, 1966.
Falke, Geschichte des Geschmacks.— J. v. Falke, Geschichte des Geschmacks im Mittelalter und andere Studien auf dem Gebiete von Kunst und Kultur, Berlin, 1892.
* Farmer, A History of Arabian music.— H.G. Farmer, A History of Arabian music to Thirteenth Century, London, 1929.
* Farmer, The Organ of the Ancients.— H.G. Farmer, The Organ of the Ancients, from Hebrew, Syriac and Arabic Sources, London, 1931.
* Farmer, The sources of Arabian music.— H.G. Farmer, The sources of Arabian music. An annotated bibliography of Arabic manuscripts which deal with the theory, practice, and history of Arabian music from the eighth to the seventeenth century, Leiden, 1965.
* Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments.— H.F. Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments, Glasgow, 1939.
Fischer, Mittelmeerbilder.— Th. Fischer, Mittelmeerbilder. Gesammelte Abhandlungen zur Kunde der Mittelmeerbilder, Leipzig—Berlin, 1908.
Fleischer.— Kleinere Schriften von H.L. Fleischer. Gesammelt. durchgesehen und vermehrt, Bd I-III, Leipzig, 1885—1888.
Flügel, Handschriften.— Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien. Im Auftrage der Vorgesetzten К.K. Behörde geordnet und beschrieben von Prof. Dr. G. Flügel, Bd I-III, Wien, 1865—1867 (I-II, 1865; III, 1867).
Flügel, Die Klassen.— G. Flügel. Die Classen der hanefitischen Rechtsgelehrten,— ASGW, VIII, Leipzig, 1860, стр. 269-338.
Fontane, Fünf Schlösser.— Th. Fоntane, Fünf Schlösser. Altes und Neues aus Mark Brandenburg.— Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Bd I, Berlin, 1899.
Fraenkel, ZA, XX,— S. Fraenkel, Zu den Papyri von Aphrodito,— ZA, Bd XX, 1907, стр. 196-198.
Fragmenta, I-II — Fragmenta historicorum arabicorum. Tomus primus, continens partem tertiam operis Kitábo ’l-Oyun wa ’l-hadáï'k fi akhbári ’l-hakáïk, quern ediderunt M.J. de Goeje et P. de Jong, Lugduni Batavorum, 1869.
Tomus secundus, continens partem sextam operis Tadjáribo ‘Omami, auctore Ibn Maskowaih, cum indicibus et glossario, quern edidit M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1871.
Fraser, Journey into Khorasan.— J.B. Fraser. Narrative of a journey into Khora san, in the years 1821 and 1822. Including some account of the countries to the north-east of Persia; with remarks upon the national character, government, and resources of that Kingdom, London, 1825.
Friedländer, The Heterodoxies.— I. Friedländer, The Heterodoxies of the Shī‘a,— JAOS, XXVIII, 1907, стр. 1-80; XXIX, 1908, стр. 1-183.
Friedländer, ZA, 23, 24.— I. Friedländer, ‘Abdallāh b. Sabā, der Begründer der Ši‘a, und sein jüdischer Ursprung,— ZA, Bd XXIII, 1909, стр. 296-327; Bd XXIV, 1910, стр. 1-46.
Friedrichsen.— Morphologie des Tiën-schan, von Dr. M.Friedrichsen,— ZGE, Bd XXXIV, Jg. 1899, T. 1, стр. 1-62; T. 2, стр. 193-271.
Führer durch die Ausstellung Rainer.— Führer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog Rainer, Wien, 1894 (Verf. J. v. Karabaček).
* Gabriel, Die Erforschung Persiens.— A. Gabriel, Die Erforschung Persiens. Die Entwicklung der abendländischen Kenntnis der Geographie Persiens, Wien, [1952].
Gartenflora.— Gartenflora. Allgemeine Monatsschrift für deutsche, russische und schweizerische Garten- und Blumenkunde und Organ des K. Russischen Gartenbau-Vereins in St. Petersburg, hrsg. und redigiert Dr. E. Regel, Stuttgart.
Gebhart. Italie mystique.— É. Gebhart, L’ltalie mystique. Histoire de la Renaissance religieuse au moyen âge, Hachette, 1904.
Gelzer, Byzantinisehe Kulturgeschichte.— H. Gelzer, Byzantinische Kulturgeschichte, Tübingen, 1909.
Gelzer, Studien.— M. Gelzer, Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägyptens, Diss., Leipzig, 1909.
Geoponica.— Cassianus Bassus Scholasticus, Geoponica, ed. H. Beck, Leipzig, 1895.
* См. также: Геопоники. Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X века. Введение, пер. с греческ. и комментарий Е.Э. Липшиц, М.—Л., 1960.
* Gibbon.— Е. Gibbon. History of the Decline and Fall of the Roman Empire, ed. J.B. Bury, vol. 1-7, London, 1923.
Gildemeister,— Ueber arabisches Schiffswesen. Von J. Gildemeister,— NGGW, 1882, № 13, стр. 431-448.
Glaser, Von Hodeida nach San’â.— Von Hodeida nach San’â vom 24. April bis 1. Mai 1885. Aus dem Tagebuch des Forschungsreisenden E. Glaser,— PM, Bd 32, 1886, стр. 33-48.
Gleichen-Russwurm, Elegantiae.— A. v. Gleichen-Russwurm, Elegantiae Geschichte der vornehmen Welt im klassischen Altertum, Stuttgart, 1913.
Gloss. Georg.— см.: de Goeje, BGA, IV.
de Goeje, Carmathes.— Mémoire sur les Carmathes du Bahraïn par M.J. de Goeje, Leyde, 1862 (Mémoires d’histoire et de géographie orientales par M.J. de Goeje, № 1); Mémoire sur les carmathes du Bahraïn et les Fatimides par M.J. de Goeje, Leide, 1886 (Mémoires d’histoire et de géographie orientales par M.J. de Goeje, № 1, 2-e ed.).
de Goeje, Mémoires, 3.— Mémoire sur les migrations des Tsiganes a travers l’Asie par M.J. de Goeje, Leide, 1903 (Mémoires d’histoire et de géographie orientales par M.J. de Goeje, № 3).
de Goeje, De Muur.— M.J. de Goeje, De Muur van Gog en Magog,— Verslagen en Mededeelingen der Koninglijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 3-de Reeks, Deel V, стр. 87-124.
de Goeje, Verslagen.— M.J. de Goeje, Internationale Handelsverkeer in de Middeleeuwen,— Verslagen en Mededeelingen der Koninglijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 4-de Reeks, Deel 9, 1908.
de Goeje, ZDMG, 52.— M.J. de Goeje, Partiel — Djauhar,— ZDMG, Bd LII, 1898, стр. 76-80.
de Goeje, BGA, IV,— Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Parsa quarta. Continens indices, glossarium et addenda et emendanda ad part I-III auctore M.J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1879.
* Goitein.— S.D. Goitein, Studies in Islamic history and institutions, Leiden, 1966.
Gоldziher, Abhandlungen.— Abhandlungen zur arabischen Philologie von I. Goldziher, Erster Theil, Leiden, 1896; Zweiter Theil, Das Kitâb al-mu‘ammârin des Abû Hâtim al-Siġistânî bearbeitet von I. Goldziher, Leiden, 1899.
Gоldziher, Kitab ma‘ani.— Kitâb ma‘ânî al-nafs. Buch vom Wesen der Seele. Von einem Ungenannten. Auf Grund der einzigen Handschrift der Bibliothèque nationale hrsg., mit Anmerkungen und Exkursen versehen von I. Goldziher, Berlin, 1907 (AKGWG, ,N. F., Bd IX, № 1).Goldziher, «Kultur der Gegenwart».— Die islamische und die jiidische Philosophie des Mittelalters, von I. Goldziher,— «Die Kultur der Gegenwart», hrsg. von P. Hinneberg, Th. I, Abt. V, Leipzig — Berlin, стр. 45-77; 2-te vermehrte und verbesserte Aufl., Leipzig — Berlin, 1913, стр. 301-337.
Goldziher, Le livre de Ibn Toumert.— Le livre de Mohammed Ibn Toumert Mahdi des Almohades. Texte arabe accompagné de notices biographique et d’une introduction par I. Goldziher, Alger, 1903.
Goldziher, Materialien.— см.: Goldziher, WZKM, 13, 1899.
Goldziher, Muh. Studien.— Muhammedanische Studien von I. Goldziher, Erster Theil, Halle a.S., 1889; Zweiter Theil, Halle, a.S., 1890.
Goldziher, REJ, VIII.— I. Goldziher, Renseignements de source musulmane sur la dignité de Resch-Galuta,— REJ, VIII, 1884, стр. 121-125.
Goldziher, RHR, 1890.— I. Goldziher, Le rosaire dans l’Islam,— RHR. vol. XXI, 1890, стр. 295-300.
Goldziher, SBAW Wien, 67.— Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern. Mit Mittheilungen aus der Refâi‘jja von I. Goldziher,— SBAW, Wien, Bd LXVII, 1871, стр. 207-251.
Goldziher, SBAW Wien, 72 — Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bee den Arabern. Von I. Goldziher, — SBAW, Wien, Bd LXXII, 1872, стр. 587-631.
Goldziher, SBAW Wien, 73,— Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern. Von I. Goldziher. III. Abu-l-Husein ibn Fâris,— SBAW, Wien, Bd LXXIII, 1873, стр. 611-652.
Goldziher, Vorlesungen über den Islam.— I. Goldziher, Vorlesungen über den Islam, Heidelberg, 1910 (Religionswissenschaftliche Bibliothek, I); 2-te umgearb. Aufl. v. F. Babinger, Heidelberg, 1925.
* См. также: И. Гольдциер, Лекции об исламе. Пер. с немецкого А.Н. Черновой, СПб., 1912.
* Французский перевод: Le dogmne et la loi d’Islam, transl. F. Arin, Paris, 1917.
* Английский перевод: Mohammed and Islam, transl. by K.C. Seelye, New Haven, 1917.
Goldziher, WZKM, 13 — I. Goldziher, Materialien zur Entwickelungsgeschichte des Ṣûfismus,— WZMK, Bd XIII, 1899, стр. 35-56.
Goldziher, ZA, 1909.— I. Goldziher, Neuplatonische und gnostische Elemente im Ḥadīṭ,— ZA, Bd XXII, 1909, стр. 317-344.
Goldziher, Zahiriten.— I. Goldziher, Die Zâhiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte. Beitrag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie, Leipzig, 1884.
Goldziher, ZDMG, 29.— I. Goldziher, Abû-l’-‘Ala al-Ma‘arrî als Freidenker,— ZDMG, Bd XXIX, 1876, стр. 637-644.
Goldziher, ZDMG, 41.— I. Goldziher, Materialien zur Kenntniss der Almohadenbewegung in Nordafrika,— ZDMG, Bd XLI, 1887, стр. 30-140.
Goldziher, ZDMG, 50.— I. Goldziher, Neue Materialien zur Literatur des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern.— ZDMG, Bd L, 1896, стр. 465-506.
Goldziher, ZDMG, 56.— I. Goldziher, «Säulenmänner» im arabischen,— ZDMG, Bd LV, стр. 503-508.
Goldziher, ZDMG, 61.— I. Goldziher, Kämpfe um die Stellung des Ḥadīṭ im Islam,— ZDMG, Bd LXI, 1907, стр. 860-872.
Goldziher, ZDMG, 62.— I. Goldziher, Zur Geschichte der hanbalitischer Bewegungen,— ZDMG, Bd LXII, 1908, стр. 1-28.
Goldziher, Zur Charakteristik es-Sujutis.— I. Goldziher, Zur Charakteristik Ğelâl ud-Dîn us-Sujûtî’s und seiner literarischen Tätigkeit.— SBAW Wien, Bd LXIX, стр. 7-28.
Gottheil, The cadi.— The cadi: the history of this institution by R. Gottheil,— SA REES, Août, 1908.
Gottheil, Dhimmis.— R.J.H. Gottheil, Dhimis and Moslems in Egypt,— OTSS, II, 1908, стр. 358-414.
Gottheil, JAOS, 1906.— R.J.H. Gоttheil, A distinguished family of Fatimide cadis (al-Nu‘man) in the tenth century,— JAOS, 27, 1906, стр. 217-296.
Gottlieb, Ueber mittelalterliche Bibliotheken.— Th. Gottlieb, Ueber mittelalterliche Bibliotheken, Leipzig, 1890.
* См. также: Th. Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken, Graz, 1955.
Graetz, Geschichte der Juden.— Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu bearbeitet von Dr. H. Graetz, 4-te verbesserte Aufl.; Bd 5. Geschichte der Juden vom Abschluß des Talmuds (500) bis zum Aufblühen der jüdisch-spanischen Kultur, (1027). Bearbeitet von Dr. Eppenstein, Leipzig, 1909.
* Русские переводы: Г. Гpeтц, История евреев, СПб., 1883; Г. Гретц, История евреев от расцвета еврейско-испанской культуры до смерти Маймонида, пер. А.Я. Гаркави, СПб., 1902.
Grasshoff, Die suftağa und hawâla.— R. Grasshoff, Die suftağa und hawâla der Araber, Jur. Diss., Königsberg, 1899.
Grenard, JA, 15.— M.F. Grenard, La légende de Satok Boghra Khân et l’histoire,— JA, sér. 9, t. XV, 1900, стр. 5-79.
Grothe, Geographische Charakterbilder.— H. Grothe, Geographische Charakterbilder aus der asiatischen Turkei…, Leipzig. 1909.
Grothe, Persien.— H. Grothe, Wanderungen in Persien…, Berlin, 1910; H. Grothe, Zur Natur und Wirtschaft von Vorderasien. I. Persien, Frankfurt, 1944 (Angewandte Geographie, III Ser., H. 11).
* Grоtzfeld.— H. Grоtzfeld, Das Bad im arabischen-islamischen Mittelalter. Kulturgeschichtliche Studie, Wiesbaden, 1970.
* Grunebaum, Fall and rise.— G. von Grunebaum. Fall and rise of Islam. A selfview,— Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida, vol. I, Roma, 1956.
* Grunebaum, Der Islam.— G. von Grunebaum, Der Islam in seiner klassischen Epoche (622—1258), Zürich, 1966.
* Grunebaum, Kritik.— G. von Grunebaum, Kritik und Dichtkunst, Studien zur arabischen Literaturgeschichte, Wiesbaden, 1955.
* Grunebaum, Medieval Islam.— G. von Grunebaum, Medieval Islam. Chicago, 1966.
* Grunebaum, Studien.— G. von Grunebaum, Studien zum Kulturbild und Selbstverständnis des Islam. Geleitwort von B. Spuler, Zürich, 1969.
* Grunebaum, A Tenth-century document.— G. von Grunebaum, A Tenth-century document of Arabic literary criticism. The sections on poetry of al-Bâqillânî’s I‘jâz al-Qur’an transl. and annot., Chicago, 1950.
* Guillou.— A. Guillou, Essai bibliographique sur les dynasties musuimanes de l’Irân, Madrid, 1957 [Ministerio de education nacional de Egipto. Instituto de estudios islámicos].
* Gurgis.— A. Gurgis, Arabic publications on historical geography of Iraq,— «Sumer», vol. IX, 1953, стр. 63-97, 295-316; vol. X., 1954, стр. 40-72.
Guуard, Grand Maître des Assassins.— S. Guyard, Un grand maître des assassins au temps des Saladin,— JA, sér. 7, t. IX, 1877, стр. 324-489.
Ğahiz, Opuscula — см.: Джахиз, Манакиб.
Hartmann, AfR, I.— Aus dem Religionsleben der Lybischen Wüste, von M. Hartmann,— AfR, I, 1898, стр. 260-274.
Hartmann, Chinesisch-Turkestan,— Chinesisch-Turkestan. Geschichte, Verwaltung, Geistesleben und Wirtschaft von Prof. Dr. M. Hartmann, Halle a.S., 1908 (Angewandte Geographie. Hefte zur Verbreitung geographiseher Kenntnisse in ihrer Beziehung zum Kultur- und Wirtschaftsleben. III. Reihe, 4. Bd).
Hartmann, MSOS, 1909.— Der Islam 1908. Von M. Hartmann,— MSOS-2, Jg. XII, 1909, стр. 33-108.
Hedin, Durch Asiens Wüsten.— Durch Asiens Wüsten. Drei Jahre auf neuen Wegen in Pamir, Lop-nor, Tibet und China, von Sven Hedin, Bd I-II, Leipzig, 1899.
* Английский перевод: Through Asia by Sven Hedin (transl. by J.T. Bealby and E.H. Hearn), vol. I-II, London, 1898.
Hedin, Zu Land nach Indien.— Zu Land nach Indien durch Persien, Seistan, Belutschistan, von Sven Hedin, Bd I-II, Leipzig, 1940, 2-te Aufl., Leipzig, 1920.
Hehn, Kulturpflanzen.— V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien. sowie in das übrige Europa…, Berlin, 1870; 5-te Aufl., Berlin, 1887; 6-te Aufl. neu hrsg. v. O. Schrader, Berlin, 1894; 7-te Aufl. v. O. Schrader mit botanischen Beiträgen v. Engler, Berlin, 1902; 8-te Aufl. neu hrsg. v. O. Schrader, Berlin, 1911.
* Русский перевод: В. Ген, Культурные растения и домашние животные в их переходе из Азии в Грецию и Италию, а также в остальную Европу… Пер. с немецк. просмотр. автором, СПб., 1872.
Helmolt, Weltgeschichte.— Weltgeschichte… hrsg. von H.F. Helmolt, Bd 3. Westasien und Afrika. Von H. Winckler, H. Schurtz und C. Niebuhr, Leipzig und Wien, 1901.
* Русский перевод: История человечества. Всемирная история… под общ. ред. Г. Гельмольта, Т. 3. Западная Азия и Африка. Г. Винклера, К. Нибура и Г. Шурца. Перевод под ред. В.В. Бартольда и Б.А. Тураева, СПб., 1903.
Неуd, Levantehandel.— W. Неуd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, Bd 1-2, Stuttgart, 1879.
* Французский перевод: Histoire du commerce du Levant au moyen-âge par W. Heyd. Edition française refondue et considérablement augmentée par l’auteur publiée sous le patronage de la Société de l’Orient latin par F. Raynaud, t. I-II, Leipzig, 1885—86.
* Переиздание: W. Heyd, Histoire de commerce du Levant au moyen-âge, vol. 1-2, Leipzig, 1936 (édition française).
* Hilgenfeld, Bardesanes, der letzte Gnostiker.— A. Hilgenfeld, Bardesanes, der letzte Gnostiker, Leipzig, 1864.
Hilgenfeld, Ketzergeschichte.— A. Hilgenfeld, Ketzergeschichte des Urchristentums, Leipzig, 1884.
* Hinz, Islamische Masse.— W. Hinz, Islamische Masse und Gewichte umgerechnet ins metrische System, Leiden, 1956 (Handbuch der Orientalistik, Ergänzungs bd. I, H. I).
* Русский перевод: В. Хинц, Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. Пер. с нем. Ю.Э. Брегеля.— Е.А. Давидович, Материалы по метрологии средневековой Средней Азии, М., 1969.
Нirth, Die Länder des Islam.— Fr. Hirth, Die Länder des Islam nach chinesischen Quellen, Leiden, 1894.
Hirth and Rockhill.— Chau Ju-kua: His work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fan-chi, transl. from the Chinese and annotated by F. Hirth and W.W. Rockhill, St.-Pbg., 1911.
Historia Patriarcharum Alexandrinorum.— [C.F. Seybold], Historia Patriarcharum Alexandrinorum,— CSCO, SA, t. 9; fasc. 1/2.
См. также: [C.F. Seybold], Severus ibn al-Muqaffa‘, Alexandrinische Patriarchengeschichte v.S. Marcus bis Michael I (61—767), Hamburg, 1913;
[B. Evetts], History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, ed. and transl. by B. Evetts,— PO, I, 2/4; 5, 4; 10, 5.
* [Sawīrus ibn al-Muḳaffa‘], History of the Patriarchs of the Egyptian Church known as the History of the Holy Church by Sawīrus ibn al-Muḳaffa‘, Bishop of al-Ašmunīn, ed. transl. by A.S. Atiya, Yassā ‘Abd al-Masīh, О.H.E.K. Burmester, vol. I-II, Cairo, 1943—48 (PSAC).
Hofmeier, Islam, IV.— K.W. Hofmeier, Beiträge zur arabischen Papyrusforschung.— DI, Bd IV, 1913, стр. 97-120.
Homenaje à D. Francisco Codera.— Homenaje à D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado. Estudios de erudicion oriental con una introducción D.E. Saavedra, Zaragoza, 1904.
* Honigmann, Die sieben Klimata.— E. Honigmann, Die sieben Klimata und die πολεις ὲπ́σημοι, Heidelberg, 1929.
Horovitz, Über den Einfluß.— J. Horovitz, Über den Einfluß der griechischen Philosophie auf die Entwicklung des Kalâm, Breslau, 1909.
Houtsma, Seljoucides.— Recueil de textes relatifs a l’histoire des seljoucides par M.Th. Houtsma, vol. I. Histoire des seljoucides de Kermân par Muhammed Ibrahîm. Texte persan acompagné d’index alphabétiques et de notes historiques et philologiques publié d’après le ms. de Berlin par M.Th. Houtsma, Lugduni Batavorum, 1886; vol. II. Histoire des seldjoucides de l’Irâq par al-Bondârî d’après Imâd ad-dîn al-Kâtib al-Isfahânî. Texte arabe publié d’après les mss. d’Oxford et de Paris par M.Th. Houtsma, Leide 1889; vol. III. Histoire des seldjoucides d’Asie Mineure d’après Ibn-Bībī. Texte turc publié d’après les mss. de Leide et de Paris par M.Th. Houtsma, Leide. 1902; vol. IV. Histoire des seljoucides d’Asie Mineure d’après l’abrégé du Seldjouknameh d’Ibn-Bībī. Texte persan publié d’après le ms. de Paris par M.Th. Houtsma, Leide, 1902.
Howorth, JRAS, 1898.— H.H. Howorth, The Northern Frontagers of China,— JRAS, 1898, стр. 467-502, 809-838.
Huart, Calligr.— Les Calligraphes et les Miniaturistes de l’Orient musulman par Cl. Huart, Paris, 1908 (Publié sous les auspices de la Société Asiatique).
Huart, Le rationalisme musulman.— Cl. Huart, Le rationalisme musulman au IV-e siècle de l’hégire,— RHR, t. 50, 1904, стр. 200-213.
Hughes, Dictionary of Islam.— A dictionary of Islam, being a Cyclopaedia of the Doctrines, Rites, Ceremonies and Customs, together with the Technical and Theological terms, of the Muhammadan religion by T.P. Hughes, London, 1895.
* Ibn al-Mu‘tazz, Kitab al-badi‘,— [I. Kratchkovsky], Kitāb al-badī‘ of ‘Abd Allah ibn al-Mu‘atazz, ed. I. Kratchkovsky, London, 1935 (GMS, X).
* См. также: И.Ю. Крачковский. Избран, соч., VI, М.—Л., 1960 (текст, стр. 176-256; перевод, стр. 279-300; исследование, стр. 97-179).
* Inауаtullah, Contribution to the historical study of hospitals.— Sh. Inayatullah, Contribution to the historical study of hospitals in mediaeval Islam.— IC, XVIII, 1944, стр. 1-14.
Itinera Hierosolymitana, ed. P. Geyer.— Itinera Hierosolymitana, ed. P. Geyer, Wien, 1898 (Corp. scr. eccl. lat. XXXIX).
Jackson, Persia.— A.V.W. Jackson, Persia Past and Present. A Book of Travels and Research, New York — London, 1906.
* См. также: A.V.W. Jacksоn, From Constantinople to the home of Omar Khayyam. Travels in Transcaucasia and Northern Persia for historic and literary research, New York, 1911.
Jacob, Altarab. Beduinenleben — Altarabisches Beduinenleben nach den Quellen geschildert von G. Jacob, zweite um mehrere Kapitel und Zusatze vermehrte Ausgabe, Berlin, 1897.
См. также: Das Leben der vorislamischen Beduinen nach den Quellen. geschildert von G. Jacob, Berlin, 1895 (Studien in arabischen Dichtern, H. III).
Jaqut, Text und Übersetzung v. Frahn.— см. Йакут (Ибн Фадлан).
Jošua Stylites, ed. Wright — см. Иешу Стилит (изд. Райта).
Julien, JA, sér. 4, IХ.— S. Julien, Notices sur les pays et les peuples étrangeres, tirées des géographies et des annales chinoises,— JA, sér. 4, t. IX, 1847, стр. 50-66, 189-210.
Junker, Koptische Poesie.— Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts von H. Junker, 1. Theil, Berlin, 1908; 2. Theil (Text und Übersetzung), Berlin, 1911.
Karabaček, Das arabische Papier.— J. Karabaček, Das arabische Papier. Eine historischantiquarische Untersuchung, Wien, 1887 (Mitteil. Samml. Rainer, II-III).
Karabaček, Die persische Nadelmalerei.— J. Karabaček, Die persische Nadelmalerei Sûsandschird, Leipzig, 1881.
Karabaček. Über einige Benennungen.— J. Karabaček, Über einige Benennungen mittelalterlicher Gewebe, Wien, 1882.
Кinany.— A.Кh. Кinany, The development of gazal in Arabic literature (pre-Islamic and early Islamic periods), Damascus, 1951.
Klaproth, Lettre sur l’invention de la boussole.— Lettre M. le Baron A. de Humboldt, sur l’invention de la boussole, par M.J. Klaproth, Paris, 1834.
Klaproth, Tableaux histor.— Tableaux historiques de l’Asie, depuis la monarchie de Cyrus jusqu’a nos jours, ouvrage dédié à MM.G. et A. de Humboldt, par J. Klaproth. Texte, avec un atlas in-folio, Paris — Londres — Stuttgard, MDCCCXXIV (1824).
* Kowalski. Relacja Ibrahima Ibn Ja‘kuba.— T. Kowalski, Relacja Ibrāhīma Ibn Ja‘ḳūba z podróźy do krajów słwiánskich w przekazie al-Bekrīego, Krakow, 1946.
* См. также: J. Widajewicz, Studia nad relacja о słowianach Ibrāhima Ibn Ja‘ḳūba, Krakow, 1946.
Krauß, Talmudische Archäologie.— S. Krauß, Talmudische Archäologie, I-II, Leipzig, 1910.
Kremer, Culturgeschichte.— A. v. Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, Bd I-II, Wien, 1875—77.
* Английский перевод: The Orient under the Caliphs [Translated from von Kremer’s Culturgeschichte des Orients] by S. Khuda Bukhsh, Calcutta, 1920.
Kremer, Einnahmebudget.— Ueber das Einnahmetbudget des Abbasiden-Reiches vom Jahre 306 H. (918—919), von A. v. Kremer,— DMA, Bd XXXVI, 1888, стр. 283-362.
Kremer, SBAW Wien, 117.— Ueber die philosophischen Gedichte des Abu l-Alā Ma‘arry. Eine culturgeschichtliche Studie von A. v. Kremer,— SBAW Wien, Bd CXVIII, 1889, VI Abh., стр. 1-108.
Kremer, ZDMG, 30.— A. Kremer, Ein Freidenker des Islam,— ZDMG, Bd XXIX, 1876, стр. 304-312; Bd XXX, стр. 40-52.
Kremer, ZDMG, 31.— A. Kremer, Philosophische Gedichte des ’Abû-l‘alâ Ma‘arrî,— ZDMG, Bd XXXI, 1877, стр. 471-483.
Kremer, ZDMG, 34.— A. Müller, Arabische Quellen zur Geschichte der indischen; Medizin,— ZDMG, Bd XXXIV, 1880, стр. 465-556.
Kremer, ZDMG, 38. — A. Kremer. Philosophische Gedichte des ’Abû-l‘alâ Ma‘arrî,— ZDMG, Bd XXXVIII, 1884, стр. 499-529.
Krumbacher, Byzantinische Litteratur.— K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des osträmischen Reiches (527—1453) 2. AufL, bearbeitet unter Mitwirking von A. Ehrhard und H. Gelzer, München, 1897 (Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft… hrsg. von J. v. Müller, Bd IX, Abt. I).
Land, Anecdota.— Anecdota syriaca. Collegit edidit explicuit J.P.N. Land. t. I. Symbolae syriacae, Lugduni Batavorum, MDCCCLXII [1862]; t. II. Joannis episcopi Ephesi monophysitae scripta historica quotquot adhuc inedita supererant, Lugduni Batavorum. MDCCCLXVIII [1868]; t. III. Zachariae episcopi Mitylenes aliorumque scripta historica graece plerumque deperdita, Lugduni Batavorum, MDCCGLXX [1870]; t. IV. Otia syriaca, Lugduni Batavorum, MDCCCLXXV [1875].
Landberg, Proverbes arabes.— Proverbes et dictons du peuple arabe. Matériaux pour servir à la connaissance der dialects vulgaires recueillis, traduits et annotés par G. Landberg, vol. I, Leyde — Paris, 1883.
Lane, Madd al-qamus.— (Madd al-qāmūs) an Arabic-English lexicon, derived from the best and most copious eastern sources; comprising a very large collection of words and significations omitted in the Kámoos, with supplements to its abridged and defective explanations, ample grammatical and critical comments, and examples in prose and verse: composed by means of the munificence of the most noble Algernon, Duke of Northumberland. R.G. etc. etc. etc. and the Bounty of the British Government: by E.W. Lane, Book I — Part 1, London, Edinburgh, 1863, Book I — Part 2, ibid., 1805; Book I — Part 3, ibid., 1867; Book I — Part 4, ibid., 1872; Book I — Part 5, ibid., 1874, Book I — Part 6, ibid., 1877; Book I — Part 7, ibid., 1885; Book I — Part 8, ibid., 1893.
Lane, Manners and customs.— An account of the manners and customs of the modern Egyptians, written in Egypt during the years 1833, 34 and 35, partly from notes made during a former visit to that country in the years 1825, 26, 27 and 28, by E.W. Lane, vol. I-II, London, MDCCCXLVI [1846]; …the 5th edition, with the numerous additions and improvements, from a copy annotated by the author: edited by his nephew, E.S. Poole, vol. I-II, London, 1871.
Немецкий перевод: Sitten und Gebräuche der heutigen Egypter von E.W. Lane. Nach der dritten Originalausgabe übersetzt von J.Th. Zenker, Bd 1-3, Leipzig, 1832.
Lane-Pооl, Mohammadan Dynasties.— S. Lane-Pооle, The Mohammadan Dynasties. Chronological and genealogical tables with historical introductions, London, 1894.
* Русский перевод: С. Лэн-Пуль, Мусульманские династии. Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями. Перевел с английского с примечаниями и дополнениями В. Бартольд, СПб., 1899.
Lang, ZDMG, 40, 41,— Mu‘taḍid als Prinz und Regent, ein historisches Heldengedicht von Ibn el Mu‘tazz, hrsg., erläutert und übersetzt von C. Lang,— ZDMG, Bd XL, 1886, стр. 563-611; Bd XLI, стр. 232-279.
* Laоust, L’hérésiographie musulmane.— H. Laоust, L’hérésiographie musulmane sous les Abbasides,— Cahiers de civilisation médiévale, Paris, vol. X, 1967, стр. 157-178.
* Laoust, La profession de foi.— H. Laоust, La profession de foi d’Ibn Baṭṭa, Damas, 1958.
* Laоust, Les schismes dans l’Islam.— H. Laоust, Les schismes dans l’Isiam, Paris, 1965.
* Lassner.— J. Lassner, The Topography of Baghdad in the early Middle Ages. (Texts and studies), Detroit, 1970.
Le Strange, Baghdad.— Baghdad during the Abbasid caliphate from contemporary arabic and persian sources by G. Le Strange, Oxford, MDCCCC [1900]; 2d ed., London, 1924.
Le Strange, Description of Syria.— Palestine under the Moslems. Description of Syria and the Holy Land from 650—1500. Translated from medieval arabic geographers by G. Le Strange, London, 1890.
Le Strange, Ibn Serapion.— Description of Mesopotamia and Baghdad, written about the year 900 A.D. by Ibn Serapion. The arabic text edited by G. Le Strange with translation and notes,— JRAS, 1895, стр. 1-76, 255-315.
Le Strange, The Lands.— The lands of the eastern caliphate. Mesopotamia, Persia and Central Asia from the Moslem conquest to the time of Timur by G. Le Strange, Cambridge, 1905 (Cambridge Geographical Series); 2d ed., ibid., 1930.
Le Strange, Mustawfi.— Description of Persia and Mesopotamia in the year 1340 A.D. from the Nuzhat al-Kulūb of Ḥamd-Allah Mustawfi, with a summary of the contents of that work by G. Le Strange.— JRAS, 1902, стр. 49-74; 237-266; 509-536; 733-784.
* Levy, A Baghdad Chronicle.— A Baghdad Chronicle by R. Levy, M.A., Cambridge, 1929.
* Levy, The Nizamiya Madrasa.— R. Levy, The Nizamiya Madrasa at Baghdad,— JRAS, 1928, стр. 265-270.
* Lewicki, Etudes Ibadites.— T. Lewicki, Études Ibāḍites nord-arficaines. Pt I. Tasmiya šuyūḫ Ğabal Nafūsa wa-qurāhum. Liste anonyme des šayḫs ibadites et les localités du Ğabal Nafūsa contenue dans les «Siyar al-mašā’ih» (VIе-XIIе s.). Texte arabe avec introduction, comment, et index, Warszawa, 1955.
* Lewicki, Les Ibāḍites.— T. Lewicki, Les Ibāḍites dans l’Arabie du Sud au moyen âge.— Folia Orientalia, vol. 1, 1959, стр. 3-17.
* Lewicki, Les subdivisions.— T. Lewicki, Les subdivisions de l’ibāḍiyya,— Studia Islamica, f. IX, 1956, стр. 71-82.
* Leуerer, Die Verrechnung.— C. Leуerer, Die Verrechnung und Verwaltung von Steuern im islamisehen Ägypten,— ZDMG, Bd 103, 1953, стр. 40-69.
Lippmann, Geschichte des Zuckers,— E.O. v. Lippmann, Geschichte des Zuckers, Leipzig, 1890; 2-te Aufl., Berlin, 1929; Suppl., 1934.
L.M., RMM, V — L.M., Le Béloutchistan d’après l’administration britanique,— RMM., t. V, 1908, стр. 121-144.
* Løkkegaard, Islamic taxation — Fr. Løkkegaard, Islamic taxation in the classic period, with special reference to circumstances in Iraq, Copenhagen, 1950.
Lуal, JRAS, 1912 — см.: ал-А‘ша, Хизанат.
* Makdisi.— G. Makdisi, Ibn ‘Aqil et la résurgence de l’Islam traditionaliste au Xle siècle. Damas, 1963.
Maltzan, Meine Wallfahrt.— H. v. Mallzan, Meine Wallfahrt nach Mekka, Bd 1-2, Leipzig, 1865.
Maltzan.— Reisen in Arabien. Erster Band: Reise nach Südarabien und Geographische Forschungen im und über den südwestlichsten Theil Arabiens von H. v. Maltzan, Braunschweig, 1873; Zweiter Band: Adolph von Wrede’s Reise in Ḥadhramaut Beled Beny ‘Yssà und Beled el Hadschar. Hrsg., mit einer Einleitung, Anmerkungen und Erklärung der Inschrift von ‘Obne versehen von H. v. Maltzan, Braunschweig, 1873; отдельное издание с тем же титулом: Braunschweig, 1870.
Marçais, Taqrib de en-Nawawi.— Le Taqrîb de en-Nawawi, traduit et annoté par M. Marçais,— JA, sér. 9, t. XVI, 1900, стр. 315-346, 478-534; t. XVII, 1901, стр. 101-149, 193-232, 524-540; t. XVIII, 1901, стр. 61-146.
* Margoliouth, Arab. Historians.— D.S. Margоliоuth, Lectures on Arabic Historians, Calcutta, 1930.
Margoliouth, Centenario di M. Amari.— D.S. Margoliouth, Index librorum Abu’l-Alae Ma‘arrensis,— Centenario di M. Amari, vol. I, стр. 217-231.
Margoliouth,— «Transactions of the Third Religious Congress», Oxford, vol. I.
Marquart, Beninsammlung.— Die Beninsammlung des Reichsmuseums für Völkerkunde in Leiden beschrieben und mit ausführlichen Prolegomena zur Geschichte der Handelswege und Völkerbewegung in Nordafrika versehen von J. Marquart, Leiden, 1913 (Veröffentlichungen des Reichsmuseums für Völkerkunde in Leiden, Ser. II, № 7).
Marquart. Ğuwainis Bericht,— Ğuwainis Bericht über die Bekehrung der Uiguren von J. Marquart,— SBAW Berl, Bd XXVIII, 1942, стр. 486-502.
Marquart, Das Reich Zabul.— Das Reich Zābul und der Gott Zun vom 6-9. Jahrhundert, von J. Marquart und J.J.M. de Groot,— Sachau-Festschrift, стр. 248-292.
Marquart, Streifzüge.— Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische- und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts. (ca. 840—940) von J. Marquart, Leipzig, 1903.
Marsilius — см.: Tafel u. Thomas, Urkunden.
* Massignon, Hallaj.— L. Massignon, La passion d’al-Hosayn-ibn-Mansour el-Hallaj, martyr mystique de l’islam… Étude d’histoire religieuse par L. Massignon,, t. I-II, Paris, 1922.
Massignon, Kitab at-Tawasin.—см.: Китаб ат-тавасин.
* Massignon, Lexique technique.— L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris, 1922; Nouvelle éd. revue et considérablement augmentée, Paris, 1954.
* Massignon, Opera minora.— L. Massignon, Opera minora. Textes recueillis, classés et presentés avec une bibliographie par Y. Moubarac, 3 vols. Beyrouth, 1903.
* Maуer.— H.E. Mayer, Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge, Hannover, 1960.
* Mélanges Massignon.— Mélanges Louis Massignon, Damas, 1956—57.
Mendoza, Lazarillo de Tormes,— Mendoza, Lazarillo de Tormes, Leipzig, [s.a.] (Ph. Reclams Universal — Bibliothek).
Meyer, Kulturgeschichtliche Studien.— Kulturgeschichtliche Studien. Gesammelte Aufsätze von Chr. Meyer, Berlin, 1903.
Middendorff.— Einblicke in das Ferghana-Thal von A. v. Middendorff. Nebst chemischer Untersuchung der Bodenbestandtheile von C. Schmidt, Sl.-Pbg., 1881 (MA, VIIе ser., t. XXIX, № 1).
Miller, Itin. Romana.— Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana. Dargestellt von K. Miller, Stuttgart, 1916.
* Miquel.— A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du XIе siècle, Paris — La Haye, 1967.
Mirchond, Hist. Samanid.— Mohammedis filii Chavendschahi vulgo Mirchondi Historia Samanidarum Persice. E codice Bibliothecae Gottingensis nunc primum edidit, interpretation latina, annotationibus historicis et indicibus illustravit F. Wilken, Goettingae, MDCCCVIII [1808].
Mitteil. Samml. Rainer, II-III — см.: Karabaček, Das arabische Papier.
Mittwoch, Die literarische Tätigkeit al-Isfahanis.— см.: Mittwoch, MSOS-2, 1910.
Mittwoch, MSOS-2, 1910.— E. Mittwoch, Die literarische Tätigkeit Hamza al-Isbahānīs. Ein Beitrag zur älteren arabischen Literaturgeschichte,— MSOS-2, Jg. XII, 1909, стр. 109-169.
Müller, Mitteil. Samml. Rainer, V.— D.H. Müller, und D. Kaufmann, Der Brief eines ägyptischen Rabbi an den Gaon (Salomo) ben Jehuda,— Mitteil. Samml. Rainer V, 1892, стр. 127-132.
* Murray, History of chess.— H.J.R. Murray, A history of chess, Oxford. 1913.
* Mžik, BAH, Bd V.— H. Mžik, Bibliothek arabischer Historiker und Geographen, Bd V, Leipzig, 1930.
* Nader.— A.N. Nader, Le système philosophique des Mu‘tazila (premiers penseurs de l'Islam), Leiden, 1956.
Nicholson, JRAS, 1906.— A historical enquiry concerning the origin and development of Sufiism, with a list of definitions of the terms «Ṣúfi» and «Tasawwuf», arranged chronologically, by R.A. Nicholson,— JRAS, 1906, стр. 303-348.
Nöldeke. Gesch. d. Qorans.— Geschichte des Qorâns von Th. Nöldeke. Eine von Pariser Académie des Inscriptions gekrönte Preisschrift, Göttingen, 1860.
Geschichte des Qorans von Th. Nöldeke, 2-te Aufl. bearbeitet von Fr. Schwally. Th. I. Über den Ursprung des Qorāns, Leipzig, 1909; Th. II. Die Sammlung des Qorāns mit einem literarhistorischen Anhang über die muhammedanischen Quellen und die neuere christliche Forschung, Leipzig, 1919; Th. III. Die Geschichte des Qorāntexts von G. Bergsträsser, Lfg. I, Leipzig, 1926; Th. III, Lfg. 2, Leipzig, 1929.
Nöldeke, Tabari — см. Tабapи-Нёльдеке.
* Nоrden, Die antike Kunstprosa.— E. Norden, Die antike Kunstprosa vom 6 Jhr. v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance, Bd I-II, Leipzig, 1918.
Obermeyer, Modernes Judentum.— J. Obermeyer, Modernes Judentum, Wien, 1907.
d’Ohssоn.— C. d’Ohssоn, Histoire des Mongols, depuis Tchinguiz-khan jusqu’à Timour bey ou Tamerlan, t. I-IV, ed. 2, La Haye et Amsterdam, 1834—1835; ed. 3, Amsterdam, 1892 (repr.: Tientsin, 1940).
* Русский перевод: Д’Оссон, История монголов. От Чингис-хана до Тамерлана. Пер. и предисл. Н. Козьмина, т. I, Иркутск, 1937.
Orient. Studien Th. Nöldeke gewidmet.— Orientalische Studien Theodor Nöldeke zum siebzigsten Geburtstag (2. März 1906) gewidmet von Freunden und Schülern und in ihrem Auftrag hrsg. von C. Bezold, Bd 1-2, Giessen, 1906.
Palgrave.— W.G. Palgrave, Narrative of years journey through Central and Eastern Arabia, vol. 1-2, London, 1865.
Немецкий перевод: William Gifford Palgrave’s Reise in Arabien. Aus dem Englischen, Bd 1-2, Leipzig, 1867—1868.
Французский перевод: W.G. Palgrave, Une année de voyage dans l’Arabie Centrale (1862—1863). Ouvrage traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par É. Jonveaux, t. I-II, Paris, 1866.
W.-G. Palgrave, Une annee dans l’Arabe Centrale (1862—1863). Traduction d. É. Jonveaux abrégéé par J. Belin de Launay, Paris, 1869.
* Pellat, Le culte.— Ch. Pellat, Le culte de Mu‘awia au IIIе siècle de l’Hègire,— Studia Islamica, vol. VI, Leiden, 1956, стр. 58-66.
Pellat, Le milieu baṣrien.— Ch. Pellat, Le milieu baṣrien et la formation de Ğāḥiẓ, Paris, 1953.
Péretié, RMM, XIII.— A. Péretié, L’organisation judiciaire au Maroc,— RMM, XIII, 1914, стр. 509-531.
Pérez, Six semaines de dragages.— C. Pérez, Six semaines de dragages sur lesbancs perliers du Golfe Persique, Orléans, 1908.
Pertsch, Handschriften.— Die arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Auf Befehl Sr. Hoheit des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha verzeichnet von W. Pertsch, Bd I-V, Gotha, 1878—1892 (I, 1878; II, 1880; III, 1881; IV, 1883, V, 1892).
Petachia,— Tour du monde, ou Voyages du Rabbin Péthachia, de Ratisbonne, dans le XIIе siècle (traduit de l’hébreu par M. Carmoly),— JA, VIII, 1831, стр. 257-332, 363-413.
См. также: Travels of Rabbi Petachia of Ratisbon, who in the latter end of the twelfth century, visited Poland, Russia, Little Tartary, the Crimea, Armenia, Assyria, Syria, the Holy Land, and Greece. Translated from the Hebrew, and published, together with the original on opposite pages, by A. Benisch, with explanatory notes by the translator and W.F. Ainsworth, London, 1856.
Petermann, Reisen im Orient.— Reisen im Orient von H. Petermann, Bd I-II, Leipzig, 1860—1861.
Petrus Ibn Rahib,— Petrus Ibn Rahib chronicon orientale edidit. L. Cheikho. Beryti — Parisiis — Lipsiae. MCMIII [1903] (CSCO, SA, Textus, t. I); Petrus Ibn Rahib chronicon orientale. Interpretationem olim ab Abrahamo Ecchellensi institutam turn a I.S. Assemano revisam iterum ad fidem arabici textus recognovit L. Cheikho, Beryti — Parisiis — Lipsiae, MCMIII [1903] (CSCO, SA, Versio, t. I).
* Pfanmüller.— D.G. Pfanmüller, Handbuch der Islam-Literatur, Berlin u. Leipzig, 1923.
Pfizmaier, SBAW Wien, 67.— A. Pfizmaier, Alte Nachrichten und Denkwürdigkeiten von einigen Lebensmitteln China’s. Von A. Pfizmaier.— SBAW Wien, Bd LXVII, 1871, стр. 413-466.
Philosophi abessini.— Philosophi abessini. Edidit E. Littmann, Textus, Parisiis — Lipsiae, MCMIV [1904]; Versio, Parisiis — Lipsiae, MCMIV [1904], (CSCO, Scriptores aethiopici, t. XXXI, № 18, 19).
Plinius, Hist. nat.— Plinius, Historia Naturalis, ed. Sillig, Hamburgi et Gothae, 1851—1857.
* Popper, The Cairo Nilometer.— W. Popper, The Cairo Nilometer. Studies in Ibn Taghrî Birdî’s Chronicles of Egypt, I, Berkeley & Los Angeles, 1951 (Univ. of Cal. Publ. in Semitic philol., 12).
Preisigke, Girowesen.— F. Preisigke, Girowesen im griechischen Ägypten, Strassburg, 1910.
Pückler, Aus Mehemed Alis Reich.— [H. Pückler-Muskau], Aus Mehemed Ali’s Reich. Vom Verfasser der Briefe eines Vestorbenen. Erster Theil. Unter-Aegypten. Stuttgart, 1844; Zweiter Theil. Ober-Aegypten, Stuttgart, 1844; Dritter Theil. Nubien und Sudan, Stuttgart, 1844.
Pückler, Semilasso in Africa.— H. Pückler-Muskau, Semilasso in Afrika, Stuttgart, 1836.
Quatremère, Hist. des mameloucs.— Histoire des sultans mameloucs de l’Égypte, écrite en arabe par Taki-eddin-Ahmed-Makrizi, traduit en français et accompagnée de notes philologiques, historiques, géographiques par M. Quatremère, t. I, Paris, MDCCCXXXVII [1837]: t. I. Deuxième partie, Paris, MDCCCXL [1840]; t. II, Première partie, Paris, MDCCCXLII [1842]; t. II. Deuxième partie, Paris, MDCCCXLV [1845].
Radlоff, Sibirien — W. Radloff, Aus Sibirien. Lose Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Linguisten, Bd I-II, Leipzig, 1884.
W. Radloff, Aus Sibirien. Lose Blätter aus meinem Tagebuche, 2-te Ausgabe, Bd I-III, Leipzig, 1893.
Regel, Aus Kuldscha.— A. Regel, 2) Aus Kuldscha. Das Achburtam-Gebirge und Tekesgebiet,— «Gartenflora», Jg. 28, 1879, стр. 35-48.
Reich, Mimus.— H. Reich, Der Mimus. Ein Literar-Entwickelungsgeschichtlicher Versuch. Bd I-II, Berlin, 1903.
Reise des Tschan Tschun im Jahre 1221.— Вretschneider, Mediaeval Researches, vol. I, стр. 35 и сл.
* Русский перевод: Си ю цзи, или описание путешествия на Запад. (Перевел с китайского, с примечаниями, архимандрит Палладий <Кафаров>),— ТЧРДМ, IV, СПб., 1866, стр. 259-436.
* Английский перевод: The travels of an alchemist. The Journey of the Taoist Ch’ang-ch’un from China to the Hindukush at the summons of Chingiz Khan. Recorded by his disciple Li Chin-ch’ang. Translated with an introduction by A. Waley, London, 1931 (The Broadway Travellers).
Relation, trad. de Sacy— см. ‘Абд ал-Латиф.
Rescher, Studien über Ibn Ğinnî.— O. Rescher, Studien über Ibn Ğinnî und sein Verhältnis zu den Theorien der Basrî und Bagdadî,— ZA, Bd XXIII, 1909, стр. 1-54.
* Ribera, La música araba.— J. Ribera, La música araba у su influencia en la espaсola,— Collecion Hispania, 1927.
Ribera, Origen del Colegio Nidami de Bagdad.— J. Ribera, Origen del Colegio Nidami de Bagdad,— Homenaje à D. Francisco Codera, стр. 3-17.
См. также: J. Ribera у Tarragó, Disertaciones у opúsculos, I, Madrid, 1928, стр. 361-383.
* Ribera у Tarragó, Disertaciones у opúsculos.— J. Ribera у Tarragó, Disertaciones у opúsculos, I, Madrid, 1928.
Richthofen, China — China. Ergebnisse eigener. Reisen und darauf gegründeter Studien von F. v. Richthofen. Bd I. Einleitender Theil, Berlin, 1877; Bd II. Das nördliche China, Berlin; Bd III; Bd IV. Palaeontologischer Theil, Berlin, 1883.
* Riederer.— G. v. Riederer, Die Post in Persien,— OMfO, 1878.
Rieu, Suppl. Arab.— Ch. Rieu. Supplement to the Catalogue of the Arabic manuscripts in the British Museum, London, 1894.
Rizby, Report on the Zanzibar Dominions.
* Roberts, Social laws of the Qoran.— R. Roberts, The social laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes, London, 1925.
* Robson, Ancient arabic musical instruments.— J. Robson, Ancient arabic musical instruments, as described by al-Mafaddal b. Salama…, Glasgow, 1938 (Coll. of or. writers on music, 4).
Rоhlfs, Mein erster Aufenthalt in Marokko.— G. Rоhlfs, Mein erster Aufenthalt in Marokko, Bremen, 1873.
* Rоhr-Sauer, Des Abu Dulaf Bericht.— Des Abû Dulaf Bericht über seine Reise nach Turkestân. China und Indien. Neu übersetzt und untersucht von A. v. Rohr-Sauer, Stuttgart, 1939 (Bonner Orientalistische Studien, H. 26).
* Rosenthal, Four essays.— F. Rosenthal, Four essays on art and literature in Islam, Leiden, 1971.
* Rosenthal, «The herb».— F. Rosenthal, «The herb». Hashish versus medieval Muslim society, Leiden, 1971.
* Rosenthal, History.— F. Rosenthal, A history of Muslim Historiography, Leiden, 1952; 2nd, revised ed., Leiden, 1968.
* Rosenthal, Humor.— F. Rosenthal, Humor in early Islam, Leiden, 1956.
* Rosenthal, Knowledge.— F. Rosenthal, Knowledge triumphant, Leiden, 1970.
Sachau, Am Euphrat und Tigris.— Am Euphrat und Tigris. Reisenotizen aus dem Winter 1897—98 von E. Sachau, Leipzig, 1900.
Sachau-Festschrift.— Festschrift Eduard Sachau zum siebzigsten Geburtstage gewidmet von Freunden und Schülern. In deren Namen hrsg. von G. Weil, Berlin, 1915.
Sachau, India.— см. Биpуни, Индия.
Sachau, Muhammedanisches Recht.— Muhammedanisches Recht nach schafiitischer Lehre von E. Sachau, Stuttgart & Berlin, 1897 (LSOS. Bd XVII).
Sachau, Von den rechtlichen Verhältnissen.— E. Sachau, Von den rechtlichen Verhältnissen der Christen im Sasanidenreich,— MSOS, Jg. X, Abt. 2, стр. 69-95.
de Sacy, Religion der druzes.— Exposé de la religion des druzes, tiré des livres religieux de cette secte, et précédé d’une introduction et de la vie du khalife Hakem- Biamr-Allah. Par M. le Bon S. de Sacy, t. I-II, MDCCCXXXVIII [1838].
Sarasin, Das Bild ‘Alis.— W. Sarasin, Das Bild ‘Alls bei den Historikern der Sunnah, Basel, 1907.
Sarre u. Herzfeld, Erster vorläufiger Bericht.— Erster vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen von Samarra v. E. Herzfeld mit einem Vorwort v. F. Sarre, Berlin, 1912.
* См. также: E. Herzfeld, Geschichte der Stadt Samarra, Hamburg, 1948 (Die Ausgrabungen v. Samarra, Bd VI).
* Sauvaget.— J. Sauvaget, Introduction a l’histoire de l’Orient Musulman. Elements de bibliographie. Edition refondue et cornplétée par Cl. Cahen, Paris, 1961 (Initiation à I'Islam, I).
Sauvaire, JA, ser. 7, XIV.— M.H. Sauvaire, Matériaux pour servir à l’histoire de la numismatique et de la métrologie musulmanes,— JA, sér. 7, t. XIV, стр. 455-533; t. XV, стр. 228-277.
* Schacht, Esquisse d’une histoire du droit musulman.— J. Schacht, Esquisse d’une histoire du droit musulman, Paris, 1953 (Inst. des Hautes-Études Marocaines, Notes et Documents, XI).
* Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence,— J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1953; 2nd ed., 1959.
Schaube, Handelsgeschichte.— A. Schaube, Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebietes bis zum Ende der Kreuzzüge, München u. Berlin, 1906.
Schiltberger,— Bibl. des literar. Vereins.— [V. Langmantel], Schiltbergers Reisebuch. Nach der Nürnberger Handschrift hrsg. v. V. Langmantel, Tübingen, 1885 (Bib. d. literar. Vereins).
* Русский перевод: Путешествие Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год. Перевел с немецкого и снабдил примечаниями Ф. Бун,— «Зал. Ими. Новороссийского ун-та», год 1, т. I, вып. 1-2, Одесса, 1867.
Schlumberger, Épopée byzantine.— G. Schlumberger, L’épopée byzantine à la fin du X siècle (969—1057), vol. 1-3, Paris, 1896—1905.
Schmidt, Die Occupatio.— DI, I,— F.F. Schmidt, Die Occupatio im islamischen Recht.— DI, Bd I, 1910, стр. 300-363.
Schreiner, Aś‘aritenthum.— M. Schreiner, Zur Geschichte des Aś‘aritenthums,— Actes du CIO Stockholm, I, 1, Leiden, 1891, стр. 79-117.
Schreiner, ZDMG, 52,— M. Schreiner, Beiträge zur Geschichte der theologischen Bewegungen im Islam,— ZDMG, Bd LII, 1898, стр. 463-640; Bd LIII, 1899, стр. 51-88.
Schurtz.— см. Helmоll, Weltgeschichte, Bd 3.
Schwarz, Iran.— P. Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Bd I-IX, Leipzig—Zwickau, Stuttgart, 1896—1936.
Schwarz, Turkestan.— Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünf-zehnjährigem Aufenthalt in Turkestan dargestellt von F. v. Schwarz, Freiburg im Breisgau, 1900.
* Semaan.— Kh.I. Semaan, Linguistics in the Middle Ages. Phonetic studies in early Islam, Leiden, 1968.
Seetzen, Reisen.— Ulrich Jasper Seetzen’s, Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia Petraea und Unter-Aegypten, Hrsg. und commentiert von Fr. Kruse in Verbindung mit Hinrichs, H. Müller und mehreren andern Gelehrten, Bd 1-4, Berlin, 1854—1899.
* Shaban,— M.A. Shaban, The ‘Abbasid revolution, Cambridge, 1970.
* Sharif.— M.M. Sharif (ed.), History of Muslim Philosophy. With short accounts of other disciplines and the modern renaissance in Muslim lands, vol. 1-2, Wiesbaden, 1963—66.
Silviae peregrinatio.— Peregrinatio ad loco santa, strictly Itenerarium Aetheriae abbatissae, publ. by Gammurrini, 1877; 3d ed. by W. Heraeus, 1929.
Simоnet, Hist. de los Mozarabes.— F.J. Simоnet, Historia de los Mozárabes de España,— MAH, 13, 1897—1903.
Simonsen, REJ, 1907.— D. Simоnsen, Les marehandes juifs appelés «Radanites»,— REJ, t. LIV, 1907, стр. 144-442.
de Slane, Catalogue BN.— de Slane, Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1883—1895.
* Smith, An early mystic.— M. Smith, An early mystic in Bagdad. A study of the life and teaching of Harith b. Asad al-Muhasibi, A.D. 781—A.D. 857, London, 1935.
Snоuck-Hurgгоnje.— Ch. Snouck-Hurgronje, Mekka, Bd I. Die Stadt und ihre Herren; Bd II. Aus dem heutigen Leben, Haag, 1888—89.
Snouck-Hurgronje, RHR, 37.— Ch. Snouck-Hurgгоnje, Le droit musulman,— RHR, t. XXXVII, 1898, стр. 174-203 (suite et fin).
* Sоurdel, L’lslam.— D. Sоurdel, L’lslam, Paris, 1959.
* Sourdel, La politique.— D. Sourdel, La politique religieuse des suсcesseurs d’al-Mutawakkil,— Studia Islamica, Leiden, vol. XIII, 1960, стр. 5-21.
* Sourdel, La vizirat ‘Abbaside,— D. Sоurdel, Le vizirat ‘Abbaside de 749 à 936 (132 à 324 de l’Hйgire), vol. I-II, Damas, 1959.
Spitta, Aš‘ari.— см. Аш‘apи.
* Spuler, Iran.— B. Spuler, Iran in früh-islamischer Zeit. Politik, Kultur, Verwaltung und öffentliches Leben zwischen der arabischen und der seldsehukischen Eroberung (633 bis 1055), Wiesbaden, 1952.
* Spuler, Forrer.— B. Spuler, L. Fоrrer, Der Vordere Orient in islamischer Zeit, Bern, 1954 (Wissenschaftliche Forschungsberichte, Geisteswissenschaftliche Reihe, hrsg. von K. Höhn, Bd 21, Orientalistik, t. III).
Streck, Landschaft Babylonien.— Die alte Landschaft Babylonien nach den arabischen Geographen, von M. Streck, T. I-II, Leiden, 1900—01.
Suуuti, History of the caliphs.— History of the caliphs by Jalálu’ddín a’s Suyuṭi, translated from the origin arabic by H.S. Jarret, Calcutta, 1881.
Sujuti, De interpretibus Corani.— Specimen e litteris orientalibus exhibens Sojutii librum de interpretibus Corani ex MS. codice Bibliothecae Leidensis editum et annotatione illustratum, quod annuente summo numine, praeside viro clarissimo H.E. Weijers…, in auditorio majori, ad publicam desceptationem proponit A. Meursinge, Lugduni Batavorum, MDCCCXXXIX [1839].
* Sulaуman, Voyage en Inde et en Chine.— G. Ferrand. Voyage du marchand arabe Sulaymân en Inde et en Chine rédigé en 851 suivi de remarques par Abû Zayd Ḥasan (vers 916). Traduit de l’arabe avec introduction, glossaire et index…, Paris, 1922 (Les classiques de l'Orient, VII).
Sourdel, La civilisation.— D. et J. Sоurdel, La civilisation de l'Islam classique, Paris, 1968 (Les Grandes Civilisations).
Sykes, A travers la Perse.— cm.: A travers la Perse orientale.
Tab. Peut.— Weltkarte des Castorius genannt die Peutinger’sche Tafel. In den Farben des Originals hrsg. und eingeleitet v. K. Miller, Ravensburg, 1888.
Tafel u. Thomas, Urkunden. — G.L.F. Tafel u. G.M. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzans und die Levante, Bd 1-3, Wien, 1856—57 (Fontes rerum Austriacarum, Sectio II, Bd 12-14).
Tha‘alibi, ‘Umad el-mansub.— J. Hammer-Purgstall, Auszüge aus Saalebi’s Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen worauf es sich bezieht,— ZDMG, Bd V, 1831, стр. 179-194, 289-307; Bd VI, 1852, стр. 48-66; Bd VII, 1853, стр. 542-557; Bd VIII, 1854, стр. 499-529.
Tomaschek, Die Thraker.— W. Tomaschek, Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung, Wien, Bd I-III, 1893—94 (SBAW Wien, CXXVIII, CXXX, GXXXI).
Tomaschek, Topographische Erläuterung.— Topographische Erläuterung der Küstenfahrt Nearchs vom Indus bid zum Euphrat von W. Tomaschek,— SBAW Wien, Bd CXXI, 1890, Abt. VIII, стр. 1-88.
Tomaschek, Zur historischen Topographie.— Zur historischen Topographie von Persien. Von W. Tomaschek. I. Die Strassenzüge der Tabula Peutingerana, Wien, 1883; II. Die Wege durch die Persische Wüste, Wien, 1885.
* Trabulsi.— A. Trabulsi, La critique poétique des Arabes jusqu’au Ve siècle de l'hégire, Damas, 1955.
* Tritton, Materials on muslim education.— Materials on muslim education in the middle ages by A.S. Tritton, London, 1957.
Türk. Bibl.— Türkische Bibliothek, hrsg. von G. Jacob und R. Tschudi, Berlin.
* Vadet, L’esprit.— J.-C. Vadet, L’esprit courtois en Orient dans les cinq premiers siècles de l'Hegire, Paris, 1968.
Vámbéry, Geschichte Bochara’s.— Geschichte Bochara’s oder Transoxaniens von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Nach orientalischen benützten und unbenützten handschriftlichen Geschichtsquellen. Zum erstenmal bearbeitet von H. Vámbéry. Deutsche Originalausgabe, Bd I-II, Stuttgart, 1872.
* Veсcia-Vaglieri, H̱arigismo. — L. Veсcia-Vaglieri, Le vicende del H̱arigismo in epoca abbaside,— RSO, XXIV, 1949, стр. 1-44.
* Veсcia-Vaglieri, H̱awārig.— L. Veсcia-Vaglieri, Sulla denominazione H̱awārig,— RSO, XXVI, 1951, стр. 41-46.
* Viré.— F. Viré, Le Traité de l'art de volerie (Kitab al-bayzara). Rédigé vers 385/995 par le Grand-Fauconnier du calife fatimide al-‘Azïz billāh, Leiden, 1967.
Vierkandt, Naturvölker.— A. Vierkandt, Naturvölker und Kulturvölker, Leipzig, 1896.
Vogt, Basile.— A. Vоgt, Bazile, I, Paris, 1908.
Von der muhammedanischen Stadt im 4. Jahrhundert,— ZA, Bd 27 — A. Mez, Von der muhammedanischen Stadt im 4. Jahrhundert,— ZA, Bd XXVII, 1912, стр. 65-74.
Wanslebs, Beschreibung Äegyptens.
* Watt.— W.M. Watt, Islamic philosophy and theology, Edinburgh, 1962 (Islamic Surveys I).
* Watt, Kharijite Thought.— W.M. Watt, Khārijite Thought in the Umayyad Period.— Der Islam, Bd 36, 1961, стр. 215-231.
* Watt, Political Thought.— W.M. Watt, Islamic Political Thought, The Basic Concepts, Edinburgh, 1968 (Islamic Surveys, 6).
Weil, Gesch. der Chalifen.— Geschichte der Chalifen. Nach handschriftlichen grösstenteils noch unbenützten Quellen bearbeitet von G. Weil. Bd I. Vom Tode Mohammeds bis zum Untergange der Omejjaden, mit Einschluss der Geschichte Spaniens, vom Einfalle der Araber bis zur Trennung vom östlichen Chalifate, Mannheim, 1846; Bd II. Die Abbasiden bis zur Einnahme von Bagdad durch die Bujiden. 132—334 d.H.—749—945. n. Chr., Mannheim, 1848; Bd III. Von Einnahme von Bagdad durch die Bujiden bis zum Untergange des Chalifats von Bagdad. 334—656. d.H.— 945—1258 n. Chr., Mannheim. 1851.
Wellhausen, Oppositionsparteien.— Die religiös-politischen Oppositionsparteien im alten Islam. Von J. Wellhausen, Berlin, 1901 (AKGWG, NF, Bd V, № 2).
Westberg, Ibrahim ibn Ja‘qubs Reisebericht.— F. Westberg. Ibrahim's-ibn-Ja‘kub's Reisebericht über die Slawenlande aus dem Jahre 965, St.-Pbg., 1898 (ЗИАН, VIII, сер. по ист.-фил. отд., т. III, № 4).
Weule, Negerleben.— Negerleben in Ostafrika. Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise. Von R. Weule, 2-te Aufl., Leipzig, 1909.
Wiedemann, DI, II.— см.: Биpуни, Китаб ал-джамахир.
Wilken, Griech. Ostraka — U. Wilken, Griechische Ostraca aus Aegypten und Nubien, Bd I-II, Berlin u. Leipzig, 1899.
Wüstenfeld, AGGW, 1879.— см.: Калкашанди (пер. Вюстенфельда).
Wüstenfeld, AGGW, 37.— см.: Wüstenfeld, Schafiiten.
Wüstenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber.— Die Gesehichtschreiber der Araber und ihre Werke. Von F. Wüstenfeld, Göttingen, 1882 (AKGWG, XXVIII, XXIX).
Wüstenfeld, Schafiiten.— Der Imam el-Schafi’i seine Schüler und Anhänger bis zum J. 300 d.H. von F. Wüstenfeld, Göttingen, 1890—1891 (AKGWG, XXXVI, XXXVII).
Wüstenfeld, Statthalter Ägyptens.— Die Statthalter von Ägypten zur Zeit der Chalifen von F. Wüstenfeld. Abt. I-IV, Göttingen, 1875—1876 (AKGWG, XX, XXI).
* Yahya ben Adam.— Yahya ben Adam's Kitab al-Kharaj. Transl. and provided with an introd. and notes by A. Ben Shemesh. With a foreword by S.D. Goitein, 2nd rev. ed., Leiden, 1967.
Zehme, Arabien. — Arabien und die Araber seit hundert Jahren. Eine geographische und geschichtliche Skizze von A. Zehme, Halle, 1875.
Zeys, Une française au Maroc.— M. Zeуs, Une française au Maroc, Paris, 1908.
* Zolondek.— L. Zolondek, Di‘bil b. ‘Alī. The life & writings of an early ‘Abbasid poet, University of Kentucky, 1961.
1
Fürsten und Völker in Südeuropa im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. 1, Die Osmanen und die spanische Monarchie, Hamburg, 1827.
2
Подробно о Л. Ранке см.: О.Л. Вайнштейн, Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней, М.—Л., 1940, стр. 164-174, 215-221; Н. Herz, Morgenland-Abendland. Fragmente zu einer Kritik «abendländischer» Geschichtsbelrachtung, Leipzig, 1963, стр. 18 и сл., 28 и сл. Любопытно, что после 1945 г. в Западной Германии было создано «Общество Ранке», объединившее наиболее реакционных историков, разделявших концепцию их патрона.
3
Отношению Я. Буркхардта к Л. Ранке уделялось много внимания (см.: Вайнштейн, там же, стр. 221-223; Н. Herz, там же, стр. 29 и сл.; F. Meinecke, Ranke und Burckhardt, Berlin, 1948).
4
Следует отметить, что другая часть самых близких учеников Л. Ранке (Г. Зибель, К. Лампрехт и др.) впоследствии стала уделять больше внимания экономическим проблемам, полностью игнорировавшимся их учителем.
5
P. Wаltеrs, Aus Ferdinand Dümmlers Leben, Leipzig, 1917.
6
Этим и ряду других сведений о жизни А. Меца автор этих строк обязан любезности профессора Базельского университета Ф. Мейера.
7
Цитировано по кн.: Вайнштейн, Историография средних веков, стр. 217.
8
Особый интерес представляет гл. 8, в которой тщательно разобрана экономика халифата: формы земельной собственности, налоги и т.п. В другом месте автор говорит, например, о смене натурального хозяйства денежным (стр. 101).
9
А. v. Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, Bd. I-II, Wien, 1875—1877.
10
И.Ю. Крачковский, В.В. Бартольд в истории исламоведения.— Избран. соч., V, стр. 355.
11
Среди них диссертация А. Меца: Geschichte der Stadt Harran in Mesopotamien bis zum Einfall der Araber. Inaug.— Diss. der philosophischen Fakultät der Kaiser-Wilhelms Universität Strassburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von A. Mez, Strassburg, 1892, а также: Die Bibel des Josephus untersucht für Buch V-VII der Archäologie, von A. Mez, Basel, 1895; Über einige sekundäre Verba im Arabischen,— Orient Studien Th. Nöldeke gewidmet, Bd I, стр. 249-254: Abulkasim ein Bagdader Sittenbild von Muhammad ibn ahmad abulmutahhar alazdi. Mit Anmerkungen hrsg, von A. Mez, Heidelberg, 1902; Von der muhammedanischen Stadt im 4. Jahrhundert,— ZA Bd XXVI (Festschrift für I. Goldziher), 1912, стр. 65-74 (гл. 22 настоящей книги). Этим перечнем ограничивается описок опубликованных работ А. Меца.
Сохранилось письмо А. Меца к русскому академику В.Р. Розену (15.X.1898), в котором он просит прислать на время переписанную Розеном копию рукописи сочинения Абу-л-Касима из библиотеки де Гуе для сравнения ее с рукописью Британского музея ЛО Архива АЦ СССР, ф. 777, оп. № 278.
12
The Renaissance of Islam, by Adam Mez, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London, Lusac & Co., 1937.
13
He говоря уже об очень большом количестве опечаток (напр., вместо 82 f.— 821, 28b — 286 и т.д.), во многих случаях просто неверно указаны страницы и тома, пропущено много сносок автора, целые фразы, абзацы и страницы. Во многих местах неверные переводы, часто искажающие мысли автора, а порой передающие их с диаметрально противоположным значением, напр., начало гл. 22 и много др. мест. Недавно стало известно, что в 1966 г. в Англии собираются переиздать этот перевод, к сожалению, фотомеханическим способом.
14
A. Mez, El Renacimiento del Islam, traducción del Alemán por Salvador Vila, Madrid, 1936 (Publicaciones de las escuelas de estudios árabes de Madrid у Granada. Serie A. Num. 4). В том же 1936 г. появилась краткая рецензия на испанский перевод книги А. Меца итальянского востоковеда K. Наллино: «Oriente Moderno», XVI, 1936, стр. 299-300; см. также С.А. Nаllino, Raccolta di scritti editi e inediti, vol. III. Storia dell’ Arabia preislamica. Storia e istituzioni musulmane a cura di M. Nallino, Roma, 1941, стр. 439-444. Об испанском переводе см. также: А. Мiеli, La science arabe et son rôle dans revolution scientifique mondiale, Leiden, 1939, стр. 342.
15
A. Mez, Ortazaman Türk-Islam dünyasında alimler, Almancadan çeviren Cemal Köprülü,— «Ülkü», cilt XIV, 1939, sayı 79, стр. 28-33; 80, стр. 145-123; 81, стр. 242-250, 1940, sayı 84, стр. 557-658.
Ortazaman Türk-Islam dünyasında filoloji-edebiyat,— «Ülkü», cilt XIV, 1939, sayı 82, стр. 353-360; 1940, sayı 83, стр. 407-414;
Ortazaman Türk-Islam dünyasında şiir sanatı,— «Ülkü», cilt XV, 1940, sayı 85, стр. 59-60; 86, стр. 129-137; 87, стр. 217-223;
Ortazaman Türk-Islam dünyasında istihsal,— «Ülkü», cilt XV, 1940, sayı 88, стр. 340-347; 89, стр. 427-436; 90, стр. 529-538;
Ortazaman Türk-Islam dünyasında cografya,— «Ülkü», cilt XVI, 1940, sayı 91, стр. 17-21;
Ortazaman Türk-Islam dünyasında din,— «Ülkü», cilt XVI, 1940, sayı 92, стр. 113-122; 93, стр. 214-219; 94, стр. 354-360; 95, стр. 413-423, 96, стр. 449-508; cilt XVII, 1941, sayı 97, стр. 25-32; 98, стр. 105-111; 99, стр. 244-247; 100, стр. 303-309.
16
Сведения о турецком переводе книги А. Меца сообщила переводчику Л.В. Дмитриева.
17
Ал-хадара ал-исламиййа фи-л-карн ар-раби ал-хиджри ау ‘аср ан-нахда фи-л-ислам, т. 1-2, Каир, 1940—4941; изд. 2, там же, 1947.
18
Пользуюсь случаем, чтобы от души поблагодарить Ма‘руфа Хазнадара, приславшего мне эту ценную книгу.
19
«Arabica», 1955, t. II, fasc. 2, стр. 263.
20
С.Н. Becker, Adam Mez und die Renaissance des Islams,— DI, Bd XIII, 1923, стр. 278-280.
21
OLZ, Jg. XXVIII, 1925, стлб. 718-720.
22
Архив востоковедов ЛО ИВАН СССР, Р. I, оп. 8, № 85 (написана в августе 1936 г.).
23
ЗКВ, V, 1930, стр. 1-14 (Сборник, посвященный 25-летию научной деятельности И.Ю. Крачковского); см. также (Бартольд, Сочинения т. VI, стр. 617-629),
24
Например, В.М. Штейн, Участие стран Востока в подготовке европейского Возрождения,— сб. «Китай. Япония. История и филология», М., 1961, стр. 105.
25
Следует также обратить внимание на начало глав 13, 16.
26
Например, Ибн ал-Кифти, Та’рих ал-хукама, стр. 241.
27
J. Füсk, Die arabischen Studien in Europa, Leipzig, 1955, стр. 289.
28
И.Ю. Кpачковский, Избран. соч., VI, стр. 21,— «Ибн ал-Му’тазз» (написано в 1917 г., подготовлено к печати в 1925 г., т.е. через три года после выхода в свет книги А. Меца).
29
И.Ю. Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 171,— «Ал-Мас‘уди и путешественники X в. на Север» (написано в 1940 г.).
30
Этот термин встречается уже у А. Дюрера — «die itzige Wiedererwachung», у Меланхтона — «renascentia studia», в своей известной виттенбергской речи (1518 г.) он подразумевал под этим изучение греческого языка и античной литературы; и у Макиавелли — «Roma rinata». Все эти авторы обозначали термином «возрождение» наступившее в культуре XIV-XVI вв. оживление. Подробнее см.: В.Н. Лазарев, Проблема Возрождения у ренессансных писателей,— «Из истории социально-политических идей. Сборник статей к 75-летию академика В.П. Волгина», М., 1955, стр. 130-140.
31
Ф. Энгельс, Диалектика природы,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 20, стр, 345.
32
Например, в статье В.М. Штейна «Участие стран Востока в подготовке европейского Возрождения» (см. прим. 24), стр. 106.
33
Ш.И. Нуцубидзе, Руставели и Восточный Ренессанс, Тбилиси, 1947; Н.И. Конрад, «Средние века» в исторической науке, 1955; В.М. Жирмунский, Алишер Навои и проблема Ренессанса в восточных литературах,— Уч. зап. ЛГУ, № 299, Серия филолог. наук, вып. 59, 1961, стр. 86-87; В.К. Чалоян, Армянский Ренессанс, М., 1963 (с послесловием акад. Н.И. Конрада, стр. 159-165); его же, Восток—Запад (Преемственность в философии античного и средневекового общества), М., 1968; Л.М. Баткин, Тип культуры как историческая целостность. Методологические заметки в связи с Итальянским Возрождением,— «Вопросы философии», 1969, № 9, стр. 99-108; В.М. Рутенбург, Итальянское Возрождение и «возрождение мировое»,— «Вопросы истории», 1969, № 11, стр. 93-415.
Приведем также несколько исследований западных авторов: Н.A.R. Gibb and Н. Bowen, Islamic Society and the West, Oxford, 1950; R. Schwab, La Renaissance orientale, Paris, 1950; R. Landau, Arab contribution to civilization, San-Francisco, 1958; W. Вraune, Der islamische Orient zwischen Vergangenheit und Zukunft, Bern—München, 1960; S. Hunke, Allahs Sonne über dem Abendland, unser arabisches Erbe, Stuttgart, 1960.
34
«Вклад народов Востока в историю мировой культуры»,— Уч. зап. ИВ АН COOP, № XXV, М., 1960, стр. 319-352; «Участие стран Востока в подготовке европейского Возрождения».
35
В.М. Штейн, Участие стран Востока…, стр. 105.
36
R. Frye, Notes on the Renaissance of the 10th and 11th centuries in Eastern Iran,— «Central Asiatic Journal», vol. 1, № 2, стр. 137.
37
H.И. Конpад, Послесловие к кн.: В.К. Чалоян, Армянский Ренессанс, стр. 161.
38
О. Вайнштейн и Б. Чагин, например, считают: «Наличие на Востоке такого же культурного, экономического, социального и политического перелома, каким было Возрождение на Западе, никто еще не доказал», Рец. сб. «Из истории социально-политических идей», М., 1955,— «Вопросы истории», 1957, № 2, стр. 176.
39
Надо помнить, что в другом месте Ф. Энгельс писал: «Это было время, которое французы правильно назвали Ренессансом»,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 20, стр. 508.
40
Ф. Энгельс, Диалектика природы,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 20, стр. 347.
41
О некоторых линиях изучения этого вопроса писал Н.И. Конрад (Послесловие к кн.: В.К. Чалоян, Армянский Ренессанс, стр. 164).
42
Мискавайх, V, стр. 594; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 58а; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 241 и сл.; Китаб ал-‘уйун, IV, 1936; Абу-л-Фида, Анналы, год 324.
43
Мас‘уди, I, стр. 306; II, стр. 73 и сл.
44
Мас‘уди, IV, стр. 38, по Фазари.
45
Мискавайх, VI, стр. 323.
46
См. Китаб ал-‘уйун, IV, л. 69а, где приводятся сведения о Магрибе, заимствованные у Ибн Джаззара (ум. 395/1004).
47
Бакри (изд. де Слэна), стр. 151.
48
Абу-л-Фида, Анналы, год 350; Маккари, I, стр. 212; <964 г.—год смерти ‘Абд ар-Рахмана, а правителем он провозгласил себя в 929 г.— Прим. перев.>.
49
Мукаддаси, стр. 64.
50
Ибн Xаукал, стр. 10 и сл.; <см. также: Крачковский, Избран. соч., (V, стр. 204-205.— Прим. перев.>
51
Только некоторые сектантствующие упрямцы как, например, карматы, проповедовали иное.
52
Фихрист, стр. 189.
53
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 118а.
54
<У А. Меца приведено современное арабское произношение имени этого племени ‘Агел. См.: EI, I, стр. 191: EI, NE, стр. 245.— Прим. перев.>
55
Ибн ал-Асир, IX, стр. 157; Ибн Тагрибирди, стр. 107.
56
Ибн Тагрибирди, стр. 114.
57
Мас‘уди, I, стр. 362.
58
<В тех случаях, когда А. Мец проводит аналогии с современностью, надо иметь в виду, что это относится к концу прошлого и началу нашего века.— Прим. перев.>
59
Snouck-Hurgгоnjе, I, стр. 59.
60
Иоанн Камениат, который тоже попал тогда в плен. См. Corpus script, historiae Byzant., стр. 491, 589.
61
Mискавайх, V, стр. 249.
62
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 98.
63
Мас‘уди, II, стр. 43 и сл.
64
<Ал-Массиса — древняя Мопсуестия (Mopsuestia) — город в Малой Армении на р. Джейхан, недалеко от ее впадения в залив Искандерун. См. Le Strange, The Lands, стр. 130, 131.— Прим. перев.>
65
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 123; Мискавайх, VI, стр. 254, 272.
66
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 131; Михаил Сириец, стр. 551.
67
<Нисибин (или Насибин) — город в Верхней Месопотамии на одном из левых притоков Евфрата.— Прим. перев.>
68
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 140 и сл.; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 104; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 41-55; Абу-л-Махасин, II, стр. 435.
69
Мискавайх, VI, стр. 386; 389; Йахйа ибн Са‘ид, стр. 141; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 456; Абу-л-Махасин, II, стр. 436.
70
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 145, ср. Ebersolt, Le grand palais de Constantinople, стр. 22.
71
Mас‘уди, III, стр. 39.
72
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 114; Макризи, Хитат, I, стр. 198.
73
По данным Мухаллаби, писавшего в 70-х годах IV/X в., также и в Ранканена р. Нигер правитель и большинство жителей были мусульманами (Йакут, Словарь. IV, стр. 3129). Однако позднее у Бакри и Ибн Са‘ида они названы язычниками (Marquагt, Beninsammlung, стр. ХСVII).
74
Мискавайх, V, стр. 249.
75
Там же, VI, стр. 240; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 267а.
76
Йа‘куби, BGA, VII, стр. 295. По данным более позднего персидского источника, этот город отождествлен с Сайрамом, в 17 км восточнее Кункента <Чимкент>, что, пожалуй, соответствует его положению по приведенным Ибн Хордадбехом географическим данным. Это отождествление принято Лерхом (Лерх, Археологическая поездка, стр. 35) и Гренаром (Grenard, JA, 15, стр. 27, прим. 4). Однако оно мало вероятно, ибо Сам‘ани (ум. 562/1167), хорошо знавший Среднюю Азию, говорит об Исбиджабе еще как о большом городе (см. Абу-л-Фида, География, стр. 494); Йакут совершенно определенно сообщает (Словарь, I, стр. 250), что Исбиджаб был разрушен монголами в 616/1219 г., а путешественник Чан-чунь уже в ноябре 1221 г. делает остановку «в городе Сайлан» (Bretschneider, Researches, I, стр. 74).
<Русский перевод записок о путешествии Чан-чуня см. ТЧРДМ, т. IV, 1866, стр. 259-436 (пер. П. Кафарова).
Вопрос об отождествлении Сайрама с Исбиджабом (также Исбишаб, Асбиджаб, Асбишаб), по мнению В.М. Массона, пока еще остается открытым. См.; Бартольд. Сочинения, т. IV, М., 1966, стр. 111, прим. 3.— Прим. перев.>
77
Мукаддаси, стр. 64.
78
Marquart, Ğuwainis Bericht, стр. 496.
79
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 181б.
80
Ибн Хаукал, стр. 341 и сл.
81
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 126.
82
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 67а; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 190а.
83
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 205б.
84
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 72a.
85
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 141; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 462.
86
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 229а.
87
Мукаддаси, стр. 120.
88
<Биссус — прочные шелковистые нити, выделяемые некоторыми двустворчатыми раковинами. На побережье Средиземного моря из них изготовлялась прочная ткань — виссон. Так же называли тончайшую прозрачную льняную ткань.— Прим. перев.>
89
Китаб ал-вузара, стр. 439.
90
Мукаддаси, стр. 197. <Le Strange, Baghdad, стр. 77.— Прим. англ. перев.>
91
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 58б.
92
Китаб ал-вузара, стр. 116.
93
‘Ариб, стр. 28.
94
<Сули называет: ‘Аджа’иб ал-бахр, Хадис Синдбад и Ас-синнаур ва-л-фа’р.— Прим ред.>
95
Сули, Аурак, стр. 9.
96
Мас‘уди, Танбих, стр. 377; Мискавайх, V, стр. 379; ‘Ариб, стр. 176 и сл.; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 129а.
97
Китаб ал-вузара, стр. 352.
98
3ахаби, Та’рих ал-ислам; Китаб ал-вузара, стр. 11.
99
‘Ариб, стр. 181.
100
Мас‘уди, Танбих, стр. 388; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 141б.
101
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 123б. <«Нафси, нафси» — букв.: «Моя душа! Моя душа!», в значении «Помилуй меня!» или «Не губи мою душу!».— Прим. перев.>
102
Мас‘уди, Танбих, стр. 388; Мискавайх, V, стр. 424; ‘Ариб, стр. 185.
103
Мискавайх, IV, стр. 419.
104
Мас‘уди, Танбих, стр. 388.
105
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 333.
106
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 142а.
107
Мас‘уди, Танбих, стр. 388; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 183б.
108
Сули, Аурак, стр. 27.
109
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 54а.
110
Там же, л. 54а (по Сули).
111
Там же, л. 65б.
112
Сули, Аурак, стр. 55; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 181а — со слов Зука, камердинера ар-Ради, вернее, пожалуй, через Фаргани, которому Зука (л. 244а) что-то об этом рассказывал.
113
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 182а.
114
Там же, л. 160б, 183б и сл.; Сули, Аурак, стр. 139.
115
Мас‘уди, Танбих, стр. 397; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 220а.
116
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 66б.
117
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 221б.
118
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 304.
119
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 219а.
120
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 101.
121
Мас‘уди, Танбих, стр. 398; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 222а, где она названа рабыней.
122
Мас‘уди, Танбих, стр. 399; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 238б.
123
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 239а.
124
Там же, л. 232а.
125
Там же, л. 238а.
126
Там же, л. 238б.
127
Там же, л. 240а.
128
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 106а.
129
Там же, л. 132б.
130
Там же, л. 132а; Субки, Табакат, III, стр. 2.
131
Ибн ал-Асир, IX, стр. 81.
132
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 155.
133
Ибн Тагрибирди, стр. 63.
134
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 185.
135
Там же, стр. 188.
136
Там же, стр. 217.
137
Там же, стр. 206.
138
Там же, стр. 208.
139
Там же, стр. 218 и сл.
140
<У А. Меца эта глава названа «Имперские князья». Здесь следует отметить, что автор часто пользуется терминологией, типичной для феодальной Европы.— Прим. перев.>
141
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 124. На Востоке устад был титулом везиров; так называли Ибн ал-Амира ((Мискавайх, VI, стр. 220), о другом — см. Ибн Тагрибирди, стр. 34. В наши дни <т.е. в дни А. Меда.— Д.Б.> в Каире так кличут извозчика.
142
Мискавайх, V, стр. 474.
143
Сули, Аурак, стр. 83.
144
Термин султан — «власть» в то время употреблялся только в применении к халифу и дар ас-султан в Багдаде — это дворец халифа. Сообщение жившего позднее Ибн Халдуна (III, стр. 410), утверждавшего, что Му‘изз ад-Даула присвоил себе титул султана, неверно. По данным позднего египетского автора Абу-л-Махасина (II, стр. 202), существовал особый титул для правителей Египта: раньше — фараон, а позднее — султан; также и Захири (IX/XV в.) считает, что единственный правитель, который с полным на то правом именует себя султаном,— это правитель Египта. Такому утверждению соответствует и языковое употребление слова в средневековой Европе, когда «султан» был обязательно египетским. Более поздние багдадские правители, кажется, не упоминались в соборной молитве, пока ‘Адуд ад-Даула не получил в 308/979 г. эту честь, «которой никогда не удостаивался ни один правитель ни до, ни после него» (Мискавайх, VI, стр. 499).
145
<Lane-Poole, Mohammadan Dynasties, стр. 111-113 (317—394/929—1003), русск. пер. стр. 89-91.— Прим. перев.>
146
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 182б.
147
Там же, л. 60а.
148
Мискавайх, VI, стр. 60; Китаб ал- ‘уйун, IV, л. 198 и сл.
149
См., напр., Мискавайх, VI, стр. 224 об отношении Насира ад-Даула к своим сыновьям.
150
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 334; Ибн-Халликан (по Сабиту ибн Синану), см. Абу Фирас, стр. 114 и сл.
151
Абу-л-Фида, Анналы, год 349.
152
<Бариди — см. EI, I, стр. 686, 687.— Прим. англ. перев.>
153
У Мискавайха (V, стр. 565) — асхаб дарари‘.
154
Мискавайх, VI, стр. 58; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 192а.
155
<Подробно относительно слова нудама см. Burton, Arabian Nights, vol. I, стр. 46. Надимом называли того, кто был близок к халифу; это было весьма почетное звание, но наряду с этим оно таило в себе большую опасность. Последним халифом, обедавшим в обществе нудама, был ар-Ради би-ллах (329/940). См. Suyuti, History of the caliphs.— Прим. англ. перев.>
156
Мискавайх, VI, стр. 154; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 247.
157
Мискавайх, VI, стр. 377.
158
‘Ариб, стр. 43.
159
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 190б.
160
<Имеется в виду горный хребет Эльбурс».— Прим. перев.>
161
Мас‘уди, IX, стр. 23 и сл.
162
Там же, стр. 24.
163
Сули, Аурак, стр. 81.
164
Мас‘уди, IX, стр. 27; Мискавайх, V, стр. 480 и сл. <См. также: Ибн ал-Асир, VIII, стр. 226.— Прим. ред.>
165
Мискавайх, V, стр. 480 и сл.
166
Мас‘уди, IX, стр. 26 и сл.
167
Сули, Аурак, стр. 81.
168
Мискавайх, V, стр. 482.
169
Хамадани, Такмилат, л. 100б; Китаб ал-вузара, «Введение» Амедроза, стр. 7.
170
Мискавайх, V, стр. 435.
171
Мискавайх, V, стр. 464.
172
Мискавайх, V, стр. 437.
173
Там же, стр. 444.
174
Там же, VII, стр. 357.
175
Ибн Тагрибирди, стр. 82 и сл.
176
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 159б.
177
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 353.
178
Там же, стр. 366.
179
Мискавайх, VI, стр. 298.
180
Там же, стр. 444 и сл.
181
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 146а.
182
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 493.
183
Amedroz, DI, III, стр. 335; Мискавайх, VI, стр. 280 и сл. <А. Мец, вероятно, имел в виду Ибрахима ибн ал-Марзубана — правителя Азербайджана, который в 355/966 г., разбитый своим дядей Вахсуданом, бежал к Рукн ад-Даула. См. Sрuler, Iran, стр. 98. Anm. 10.— Прим. перев.>
184
Amedrоz, DI, III, стр. 336; Мискавайх, VI, стр. 293.
185
Мискавайх, VI, стр. 354 и сл.
186
Там же, стр. 194, 241.
187
Там же, стр. 210.
188
Там же, стр. 217.
189
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 405.
190
Мискавайх, VI, стр. 293; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 398. Согласно Ибн- ал-Джаузи (Мунтазам, л. 90а),— 100 млн. динаров.
191
Мискавайх, VI, стр. 138.
192
Там же, VI, стр. 219. <См. также Le Strange, The Lands, стр. 80.— Прим. англ. перев.>
193
Ибн Тагрибирди, стр. 19.
194
Мискавайх, VI, стр. 386.
195
Там же, стр. 389.
196
Там же, стр. 419.
197
Там же, стр. 469.
198
Китаб ал-вузара, стр. 308; Йакут, Иршад, II, стр. 120.
199
Йакут, Иршад, V, стр. 349.
200
Ибн Халликан, № 709 (из ‘Уйун ас-сийар Хамадани). <Сочинение Хамадани называлось не ‘Уйун ас-сийар, а ‘Унван ас-сийар, ср.: Wüstenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber, стр. 79, № 232; Rosenthal, History, стр. 339, прим. 5, стр. 411.— Прим. перев.>
201
Мискавайх, VI, стр. 481.
202
Там же, стр. 514. Многое, однако, приписывали ему совершенно несправедливо. Так, например, Ибн Тагрибирди (стр. 15 и сл.) рассказывает, что он сватался к хамданидской принцессе Джамиле, но получил отказ. Он отомстил за это, забрав у нее все, так что она впала в полную нищету. По более поздней легенде, он даже велел прогнать ее в квартал проституток, из-за чего она утопилась в Тигре (Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 48). На самом же деле девушка была верна его брату, смертельному врагу ‘Адуд ад-Даула, бежала вместе с ним, а после его смерти была выдана ‘Адуд ад-Даула, и он держал ее под замком вместе со своими рабынями и женами (Мискавайх, VI, стр. 507).
203
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 120а.
204
Там же.
205
Там же.
206
Ибн ал-Джаузи, Китаб ал-азкийа, стр. 38; согласно Хамадани, Та’рих. <А. Мец, вероятно, имеет в виду Мухаммада ибн ‘Абд ал-Малика ал-Хамадани ал-Фаради (ум. 521/1127); его сочинение Китаб та’рих ал-мулук ва-д-дувал не сохранилось; у него есть несколько сочинений, в которых идет речь о Бундах, но в их названиях нет слова Та’рих. Предположение испанского переводчика книги А. Меца [Hamadan de Sirawayhi b. Sahridar?] al-Hamadani (стр. 42, прим. 5) ошибочно. В английском переводе вторая часть сноски опущена (стр. 26, прим. 7).— Прим. перев.>
207
Мискавайх, VI, стр. 509 и сл.
208
Там же, стр. 502.
209
Кинди, Приложение, стр. 574.
210
Мискавайх, VII, стр. 509 и сл.; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 119б и сл.; Ибн ал-Асир, VIIII, стр. 518.
211
Мукаддаси, стр. 449.
212
Мискавайх, VI, стр. 464.
213
Хатиб ал-Багдади, Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 56 и сл. (арабский текст).
214
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 120а.
215
Ибн ал-Кифти, стр. 226.
216
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 120; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 518.
217
См. гл. 12 — «Ученые».
218
Йатима, II, стр. 2; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 120а.
219
Йакут, Иршад, V, стр. 286; Ибн ал-Джаузи, Китаб ал-азкийа, стр. 38.
220
Йатима, II, стр. 3 и сл.
221
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 120а.
222
Мискавайх, VI, стр. 511; Ибн ал-Асир, VIIII, стр. 518.
223
Ибн ал-Асир, IX, стр. 16.
224
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 120б.
225
Мискавайх, VI, стр. 511.
226
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 161б.
227
Там же, л. 156б; Ибн Тагрибирди, стр. 111.
228
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 182, 184б.
229
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 147аб.
230
Мискавайх, V, стр. 507; Китаб ал-‘уйун (IV, л. 154б) дает 290 человек.
231
Мискавайх, V, стр. 508.
232
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 163б.
233
Сули, Аурак, стр. 55.
234
Китаб ал-‘уйун, IV, стр. 166б.
235
Мискавайх, VI, стр. 26 и сл.
236
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 154б.
237
Там же, л. 164а.
238
Там же, л. 175а.
239
<О Беджкеме см.: Weil, Gesch. der Chalifen, Bd II, стр. 664 и сл.— Прим. англ. перев.>
240
См. гл. 20 — «Нравы».
241
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 174б.
242
Там же, л. 179а.
243
См. гл. 8 — «Финансы».
244
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 20.
245
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 227б.
246
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 39.
247
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 208б.
248
Там же, л. 212б.
249
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 35.
250
См. гл. 20 — «Нравы».
251
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 15, 37.
252
Там же, стр. 34 и сл.
253
Там же, стр. 37.
254
Там же, стр. 35.
255
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 209а.
256
Этому, несомненно, должны были предшествовать попытки вторичного обращения в свою веру. Мы располагаем сведениями из эпохи первых Фатимидов: «Кади как-то сообщили, что один старый христианин в возрасте за 80 лет, который в свое время перешел в ислам, вновь переменил веру, а когда ему предложено было обратиться в ислам, он отклонил это предложение. Кади довел это дело до сведения халифа, тот передал этого человека в руки начальника полиции, а последний послал к кади, чтобы он направил четырех заседателей, необходимых для обращения его в ислам. Если он покается, кади должен посулить ему 100 динаров, если он будет упрямиться, его следует казнить. Старику-христианину предложили принять ислам, он отказался, был убит, и тело его было брошено в Нил». (Кинди, Приложение, стр. 593). В Сарудже (Месопотамия) один чрезмерно ревностный мусульманин в III/IX в. пытался вновь обратить в ислам тех христиан, которые переходили в ислам, а затем снова возвращались к старой вере, посредством всевозможных истязаний, за что в конце концов был по приговору кади брошен в тюрьму и убит (Михаил Сириец, стр. 535).
Христианин переходит в ислам корыстолюбия ради, а не из любви,
Он жаждет лишь власти, или боится судьи, или хочет жениться,—
так пел в своих стихах Абу-л-‘Ала (ум. 449/4057) — см. Лузумиййат, стр. 250. Даже и высокопоставленные клирики переходили в ислам, за что их, правда, летописцы церкви надлежащим образом обливали потоками грязи. К концу II/VIII в., когда несторианский митрополит Мерва был публично изобличен в мужеложестве, он принял ислам и стал клеветать на христиан при дворе халифа (Barhebraeus, Chron. eccles., III, стр. 171 и сл.). Около 360/970 г. епископ Азербайджана перешел в ислам; после того как был застигнут за развратом с женщиной-мусульманкой (там же, стр. 247). В 407/1016 г. некий митрополит из Текрита, которому его дьяконы грозили смещением за разврат, сам стал мусульманином, получил имя Абу Муслим и взял много жен. Христианская хроника с удовлетворением сообщает, что после этого поступка он стал пользоваться у халифа меньшим уважением, чем раньше, когда был представителем своих единоверцев. Под конец жизни он вынужден был добывать себе пропитание нищенством (Илья из Нисибина, стр. 226; Barhebraeus, Chron. eccles., III, стр. 278 и сл.). Также и в Испании в III/IX в. один высокопоставленный клирик — епископ Самуэль из Эльвиры, лишенный сана из-за того, что погряз в грехах, перешел в ислам (Вaudissin, Eulogius und Alvar, стр. 162). Своеобразное изречение пришло в голову в III/IX в. поэту Абу-л-‘Айна, когда ему пришлось долго ждать в приемной везира из обращенцев, так как тот стоял на молитве: «Все новое имеет свою прелесть!» (Мас‘уди, VIII, стр. 122).
257
Sасhаu, Syrische Rechtsbücher, II, стр. 75, 170.
258
Там же, стр. 75.
259
Особенно настойчиво об этом сказано в патенте на должность кади у Кудамы (парижск. рук.), л. 126.
260
Китаб ал-вузара, стр. 248.
261
Саби, Раса’ил (рук.), л. 211а.
262
Nöldеkе, Tabari, стр. 68, прим.
263
Михаил Сириец, стр. 519. «В Мосуле люди платили налог с головы по одному золотому в год. Из того, что поступает от иудеев, половина идет их предстоятелю, а другая половина — государству» (Реtасhjа, стр. 275).
264
Dionys. von Tellmachre, стр. 148; Barhebraeus, Chron. eccles., I, стр. 372.
265
Следует читать либас вместо лисан.
266
Знаками отличия католикоса были посох и высокая шапка (буртулла — вероятно, от греческого hyperbole). (Джахиз, Байан, II, стр. 76). Буртуллу из луба носил, впрочем, в III/IX в. также и один из мусульманских землевладельцев в Вавилонии (Байхаки, стр. 566).
267
Приведенная у Амедроза догадка здесь излишня. Католикос никогда не взимал подушной подати, это было делом налоговых чиновников государства.
268
По Флейшеру, здесь всюду следует читать во втором лице.
269
Из Тазкира Ибн Хамдуна, недавно изданного Амедрозом (JRAS, 1908), стр. 467 и сл.
270
Михаил Сириец, стр. 519.
271
Barhebraeus, Chron. eccles., III, стр. 275.
272
Михаил Сириец, стр. 532; Barhebraeus, Chron. eccles., I, стр. 384.
273
Graetz, Geschichte der Juden, V, стр. 276 и сл.; о мусульманских данных см. Goldziher, REJ, VIII, стр. 121 и сл. Согласно народному поверью, глава иудеев должен был иметь такие длинные руки, чтобы в выпрямленном положении касался кончиками пальцев своих колен (Xваризми, Мафатих ал-‘улум, стр. 35). См. гл. 10 — «Знать».
274
Вениамин Тудельский, стр. 61. Согласно Петахье, также в Дамаске и Акке.
275
Там же, стр. 98.
276
Karabaček, Das arabische Papier, V, стр. 130.
277
Реtасhjа, стр. 289.
278
Только одна рукопись дает число 200.
279
<Байюло назывался посол республики Венеции при дворе в Константинополе, а также в Алеппо, Александрии и других приморских городах.— Прим. перев.>
280
Тafеl u. Thomas, Urkunden, II, стр. 359.
281
Реtасhjа, стр. 279.
282
По сведениям рабби Петахьи — 6 тыс.
283
Конечно, так нужно читать вместо «Харда».
284
Вениамин Тудельский, стр. 19, а также Реtасhjа, стр. 280. В наши дни, по имеющимся сведениям, там проживают свыше 40 тыс. евреев и открыта 21 синагога. См. Obermeyer, Modernes Judentum, стр. 23. Новейшее издание Вениамина Тудельского дает 40 тыс., что не сходится ни с данными Петахьи, ни с суммой подушной подати (см. ниже).
285
Ибн ал-Кифти, стр. 194.
286
Эти цифры символичны, ибо Вениамин Тудельский не был на Востоке. Передают, что арабский городок Хайбар насчитывал 50 тыс. иудеев!
287
Мукаддаси, стр. 323.
288
Там же, стр. 394.
289
Там же, стр. 414.
290
Там же, стр. 439. Один автор XIV в. сообщает, что персидский городок Абаркух отличался тем, что иудеи могли там оставаться в живых не более сорока дней. Если же они продолжали оставаться в этом городке по истечении этого срока, то их убивали (Хамдаллах, Муставфи, стр. 66).
291
Мукаддаси, стр. 95.
292
Там же, стр. 184.
293
С этим сходятся также и данные Мукаддаси — «мало иудеев» (стр. 202). В древности, как передают, они составляли более 1/8 населения (Caro, Wirtschaftsgeschichte, I, стр. 27).
294
Ибн Хордадбех, стр. 44.
295
Führer durch die Ausstellung Rainer, стр. 152.
296
Ибн Хордадбех, стр. 125; по данным Кудамы (стр. 251), на 204/819 г.— 200 тыс. дирхемов.
297
Kremer, Einnabmebudget, стр. 313.
298
Ибн Хаукал, стр. 156.
299
Мукаддаси, стр. 126.
300
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 522.
301
Кудама, стр. 209.
302
Михаил Сириец, стр. 497.
303
Субки, Табакат, II, стр. 193.
304
Саби, Раса’ил (рук.), л. 214а.
305
Ибн Xазм, Милал, I, стр. 145.
306
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 69.
307
Мукаддаси, стр. 183.
308
Врач Гавриил и его коллега Михаил провели, например, в 210/825 г. выборы несторианского католикоса (Barhеbraеus, Chron. eccles., III, стр. 187). Имя этого врача встречается в одном стихотворении Абу Нуваса (ум. ок. 195/810):
Опросил я друга моего Абу ‘Ису и умного Гавриила,
Сказав при этом: Мне нравится вино; он ответил: слишком много его — убивает,
Я нашел, что четыре элемента в человеке — это основа,
А посему [пей] четыре на четыре — на каждый элемент по литру.
А живший далеко в Нишапуре поэт поет в своих стихах:
Когда я узрел тело, полное недугов, и боли заползли в суставы,
Призвал я шейха из числа детей подушной подати — чей брат отца — патриарх, чей матери брат — католикос.
309
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 69; Мукаддаси, стр. 183. «Как хайбатская сандалия из лавки иудея Ибн Эзры»,— говорит Абу-л-Касим (стр. 42). Иудеи в Исфагане «занимались особо грязными ремеслами, как то: сдирание шкур, дубление кож, шерстобитное дело и убой скота» (Абу Ну‘айм, Та’рих Исфахан, л. 11а).
310
Вениамин Тудельский, стр. 35.
311
Там же, стр. 40.
312
Там же, стр. 32, 43, 44, 49.
313
Йахйа ибн Адам, стр. 55; Sасhau, Muhammedanisches Recht, стр. 787. В Галии, например, вира за свободного франка была в два раза выше, чем за римского гражданина.
314
Кудама (парижск. рук.), л. 29б.
315
В теории они не имели права носить во время своих процессий хоругви, распятия и факелы (Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 75-80), однако в большинстве случаев с этим запретом не считались. См. гл. 23 — «Праздники».
316
Dionys. von Tellmachre, стр. 176.
317
Около 300/912 г. родители покупали келью для своего сына, идущего в монастырь (Йакут, Иршад, II, стр. 24).
318
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 115б; см. также Streck, Landschaft Babylonien, стр. 284. О жизни монахов в Месопотамии вплоть до III/X в. см. Budgе, Book of Governors, I, стр. CXLCII и сл.
319
Абу Салих, л. 54б. Так как устав монастырей в Египте предписывал монахам нищету, то организация монастырей была там совершенно иной, чем в Сирии.
320
Михаил Сириец, стр. 556 и сл.
321
Barhebraeus, Chron. eccles., I, стр. 432 sq.
322
Schlumberger, Épopée byzantine, стр. 168. Так, впрочем, поступала и английская церковь с католиками вплоть до XIX в., а Испания и Чили — еще и в наши дни с протестантами.
323
Михаил Сириец, стр. 536.
324
Йахйа ибн Са‘ид, л. 83б.
325
Михаил Сириец, стр. 517.
326
Sасhau, Von den rechtlichen Venhältnissen, стр. 78 и сл.
327
Собрание этих воззрений см.: Gottheil, Dhimmis, стр. 353 и сл.
328
Кинди, стр. 131 и сл.
329
Йахйа ибн Са‘ид, л. 81а.
330
Ибн Са‘ид, (изд. Талквиста), стр. 32 и сл.; Кинди, Приложение, стр. 554.
331
Ибн ал-Кифти, стр. 194.
332
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 174.
333
Sасhau, Syrische Rechtsbücher, II, стр. 57.
334
Там же, стр. 67, 191.
335
Там же, стр. 169, 204.
336
Кинди, стр. 351.
337
Там же, стр. 390.
338
Маварди, стр. 109.
339
Так стоит в проекте патента на должность кади у Кудамы (написано вскоре после 316/908 г.), рук. л. 12б.
340
Sасhau, Syrische Rechtsbücher, II, стр. VI.
341
Там же, стр. 68 и сл.
342
Вaudissin, Eulogius und Alvar, стр. 13, прим. 6.
343
Реtасhjа, стр. 275.
344
Sасhau, Muhammedanisches Recht, стр. 739; Кинди, стр. 351. Согласно патенту, приведенному у Кудамы (рук., л. 12б), кади должен был принимать свидетельские показания христиан и иудеев друг против друга.
345
Sасhau, Syrische Rechtsbücher, II, стр. 107.
346
По данным Вениамина Тудельского (стр. 77) и Марсилия, нижней возрастной границей было 15 лет, а в персидской империи — 20 лет (Nöldeke, Tabari, стр. 247).
347
Ибн Xордадбех, стр. 111.
348
Ибн Хаукал, стр. 127. Когда Василий в 358/909 г. занял Алеппо, каждый взрослый мужчина наряду с другими обложениями должен был платить по одному динару. Йахйа ибн Са‘ид, л. 98б.
349
Ибн Хаукал, стр. 77. Ср. данные китайского путешественника о персидских подушных податях: Nöldeke, Tabari, стр. 246, прим. 2.
350
Реtасhjа, стр. 275, 288.
351
Tafel u. Thomas, Urkunden, II, стр. 359. <Безант — золотая византийская монета.— Прим. перев.>
352
Karabaček, Das arabische Papier, II-III, стр. 176 и сл.
353
Михаил Сириец, стр. 516. Позже в Сирии в качестве особого налога на христиан стали использовать свиней: венецианский байюло из Тира сообщает, что до сего времени каждый, кто хотел забить или продать свинью, должен был уплатить царю (4 динара). Венецианцы отменили этот закон (Tafel u. Thomas, Urkunden, II, стр. 360).
354
Как и в персидской империи, см. Nöldeke, Tabari, стр. 242. К соответствующим местам у Карабачека (Das arabische Papier, II-III, стр. 176 и сл.) см. еще и Dionys. von Tellmachre, стр. 61.
355
Karabaček, Das arabische Papier, II-III, стр. 163.
356
Йахйа ибн Адам, стр. 56.
357
Lеоvigildus, De habitu clericorum (Esp. sagr., XI): «Vectigal, quod omni lunari mense pro Christi nomine solvere cogimur»,— «Подать, которую нас, во имя Христа, принуждают платить каждый лунный месяц»; Eulogius Memoriale I, стр. 247: «Quod lunariter solvimes cum gravi moerore tributum»,— «Подать, которую мы с тяжким сокрушением уплачиваем каждый лунный месяц»; цит. по кн.: Вaudissin, Eulogius und Alvar, стр. 10.
358
Саби, Раса’ил, стр. 112. См. также выше в тексте грамоты о назначении католикоса.
359
Например, в Египте при последних Омейядах, когда каждый монах обязан был носить железный браслет на руке, а каждому христианину ставили на руку печать с изображением льва. См. Макризи, Хитат, I, стр. 492.
360
Марини, «Машрик», 5, стр. 651.
361
Krauss, Talmudische Archäologie, II, стр. 89.
362
Иешу Стилит (изд. Райта), § 42. Также и в Страссбурге XIV в. городские бедняки должны были открыто носить особые значки — см. Brucker, Straßburger Zunft- und Polizeiverordnungen, стр. 6 и сл. В Китае IX в. зарегистрированные проститутки, платившие налог со своего ремесла, носили на шее медную печать императора,— см. Силсилат ат-таварих, стр. 69.
363
Diоnys. v. Тellmасhre, стр. 148 и сл. <Дионисий, вероятно, имеет в виду библейское изречение: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Откровение, 13, 16.— Прим. перев.>
364
Китаб ал-агани, III, стр. 26.
365
Джахиз, Байан, I, стр. 41.
366
Karabаčеk, Das arabische Papier, II-III, стр. 176.
367
Мас‘уди, IX, стр. 15.
368
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 70.
369
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 83.
370
Wanslеbs, Beschreibung von Aegypten, стр. 57.
371
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 69.
372
Табари, Анналы, III, стр. 713.
373
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 75.
374
Кинди, стр. 424. В Египте их называли буртулла, а на Востоке они входили в облачение католикоса.
375
Динан Йахуд в стихотворении Абу Дуламы в Китаб ал-ава’ил, ‘Али Деде, л. 135б.
376
Мустатраф, II, стр. 222, на полях; Муфид ал-‘улум, стр. 200, на полях.
377
Джахиз, Байан, I, стр. 41.
378
<Маср, или чаще Миср,— арабское название Египта, а также и его главного города — Каира.— Прим. перев.>
379
Кинди, стр. 390.
380
Табари, Анналы, III, стр. 1389 и сл.; Макризи, Хитат, II, стр. 494, где неправильно стоит ‘ала дарари‘ихим — «на их платьях», вместо ‘ала зарарийихим — «на их слугах», как Абу-л-Махасин (II, стр. 184) передает мамалик Табари. Сабейцы также носили одежды, окрашенные в определенный цвет (Йатима, II, стр. 45). На Западе отличительного знака для евреев потребовал лишь Латеранский собор в 1215 г., несомненно, на основе знакомства с соответствующими восточными уложениями.
381
Табари, Анналы, III, стр. 1419. Также и в Константинополе XII в. ни один еврей не имел права сесть верхом на лошадь.— Вениамин Тудельский, стр. 24.
382
Илья из Нисибина, стр. 188. По Табари, это произошло в 272 г.
383
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 9; Абу-л-Махасин, II, стр. 181.
384
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 192б.
385
Маварди, стр. 428.
386
Caro, Wirtschaftsgeschichte, I, стр. 296.
387
Например, Ибн Кутайба, Адаб ал-катиб, стр. 26.
388
Особенно в праздник Пасхи,— Йатима, III, стр. 97.
389
Ибн ал-Кифти, стр. 398.
390
Джахиз, Хайаван, I, стр. 56.
391
Бируни, Индия (пер. Захау), II, стр. 161.
392
Для Сирии — Мукаддаси, стр. 183; для Египта — Йахйа ибн Са‘ид, л. 122а.
393
Ибн Кутайба, ‘Уйун ал-ахбар, стр. 99.
394
Там же, стр. 62.
395
Китаб ал-вузара, стр. 95.
396
См. Диван ал-инша.
397
Fagnan, стр. 229.
398
Кинди, стр. 203.
399
Табари, Анналы, III, стр. 1438.
400
‘Ариб, стр. 30.
401
Абу-л-Махасин, II, стр. 174. Например, в Египте, как свидетельствуют папирусы, множество христиан занимали посты сборщиков податей. А один из них даже приложил в 349/960 г. к квитанции об уплате подати свою печать с изображением креста (Karabaček, Das arabische Papier, II-III, стр. 168).
402
Китаб ал-вузара, стр. 240.
403
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 51а.
404
Мискавайх, V, стр. 352.
405
‘Ариб, стр. 164.
406
Там же, стр. 112.
407
Сули, Аурак, стр. 96.
408
Мискавайх, V, стр. 465.
409
Там же, VI, стр. 310.
410
Ибн а л-Хаджжадж, Диван, X, стр. 18.
411
Мискавайх, VI, стр. 511; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 518.
412
Абу Салим, Ал-‘икд ал-фарид, стр. 147 (автор умер в 652 г.).
413
Еutусhius, GSCO, стр. 58.
414
Абу-л-Мaxaсин, II, стр. 233.
415
Кинди, Приложение, стр. 595, 597.
416
Йахйа ибн Са‘ид, л. 81а; Макризи, Хитат, I, стр. 494.
417
Йахйа ибн Са‘ид, л. 81а.
418
Там же, л. 84б.
419
Там же, л. 82а.
420
Barhebraeus, Chron. eccles., III, стр. 259.
421
Там же.
422
Китаб ал-вузара, стр. 443; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 147б; Barhebraeus, Chron. eccles., III, стр. 262 и сл.
423
<Таййар — легкое парусное судно.— Прим. перев.>
424
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, берлинск. рук., л. 159а.
425
Так, пожалуй, лучше всего можно объяснить тот факт, что Мукаддаси, который в третьей четверти IV/X в. побывал там, сообщает: «Христиане говорят по-коптски» (стр. 203), в то время как епископ Ашмунайна (Египет), писавший вскоре после 400/1010 г., рассказывает, что он переводил на арабский язык коптские и греческие донесения, так как большинство недостаточно хорошо понимает эти языки (Historia Patriarcharum Alexandrinorum, стр. 6). Ставшая известной коптская «народная поэзия» X в. н.э.— я просмотрел переводы А. Эрмана (A. Erman) и А. Юнкера (Н. Junker) — по своему содержанию исключительно церковного характера.
426
Абу Салих, л. 28б (из Кинди, Фада’ил маср); Макризи, Хитат, I, стр. 24 и сл.
427
Йахйа ибн Са‘ид, л. 92а.
428
Там же, л. 92б.
429
Graetz, Geschichte der Juden, V, стр. 266.
430
de Gоeje, ZDMG, 52, стр. 77 — по Ибн ал-Джаузи (Bodl. Uri № 679, год 380).
431
Guуard, Grand Maître des Assassins, стр. 14.
<Публичные диспуты между христианами и мусульманами имели место еще задолго до исмаилизма, см.: Khuda Bukhsh, Essays Indian and Islamic, London, 1912, стр. 58—Прим. англ. перев.>
432
Йахйа ибн Са‘ид, л. 108а.
433
Ибн ал-Асир, IX, стр. 82.
434
Там же, стр. 81-82 и сл.
435
Йахйа ибн Са‘ид, л. 113а; Макризи, Хитат, II, стр. 195. Последний сообщает об этом лишь в самых общих чертах, однако добавляет, что подвергнутых наказанию водили по городу с головой убитого на шее. Подобная мера наказания является единственным случаем в IV/X в.
436
История правления ал-Хакима подробнее всего изложена у de Sacy, Religion des druzes, стр. CCLXXVIII и сл. He использовано у де Саси только продолжение хроники Евтихия, изложенное у Йахйи ибн Са‘ида, современника Хакима, который повествует трезво и надежно. Так, в частности, именно благодаря ему впервые стало возможным установление хронологической последовательности событий. Что же касается описаний другого современника — епископа Севера,— то это скорее благочестивая легенда.
437
Мусаббихи (ум. 420/1029) в кн.: Becker, Beitrage, I, стр. 61.
438
Йахйа ибн Са‘ид, л. 122.
439
Там же, л. 131а.
440
Там же, л. 133б. Предписания о ношении определенной одежды всегда приходилось время от времени повторять. Так, при Кала‘униде ан-Насире в VIII/XIV в. христианам было приказано носить синие одежды, иудеям — желтые, а самаритянам — красные головные повязки (‘Али Деде, Китаб ал-ава’ил, л. 59а). Последние носят в Самарии и в наше время; такие же повязки носят и йазидиты.
441
См. гл. 23 — «Праздники».
442
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 117.
443
О хариджитах-ибадитах см. также Brünnow, Die Charidschiten (есть английский перевод: Khuda Bukhsh, Kharijites under the First Omayyads,— «Muslim Review», 1927.) <Новые работы в этой области: Lewicki, Études Ibadites; Lewicki, Les subdivisions; Lewicki, Les Ibadites; Чуpаков, Магриб; Чураков, Хариджитские восстания.— Прим. перев.>
444
Mас‘уди, V, стр. 320.
445
Мукаддаси, стр. 323.
446
Goldziher, ZDMG, 41, стр. 31 и сл. Они придерживались ибадитского толка, в частности наккаритского направления его; Восток же был привержен более строгому суфритскому направлению, а все остальные хариджитские партии исчезли около 400/1009 г. (Ибн Xазм, Милал, IV, стр. 190). В наше время арабы Омана и находящиеся под их влиянием общины Восточной Африки являются единственными значительными остатками хариджитского направления.
447
Wellhausen, Oppositionsparteien, стр. 91.
448
Хваризми, Раса’ил, стр. 49.
449
Та’рих Багдад, парижск. рук., л. 14б. Только предместье Кунаса было суннитским — см. Мукаддаси, стр. 126.
450
Джахиз, Манакиб, стр. 9.
451
<Сули умер 336/946 г., см. GAL, I, стр. 149, 150; Sb I, стр. 218-219.— Прим. перев.>
452
Фихрист, стр. 150.
453
Насир-и Хусрау, стр. 87.
454
Там же, стр. 87.
455
Мукаддаси, стр. 179.
456
Ибн Халликан (изд. Вюстенфельда), I, стр. 37; Субки, Табакат, II, стр. 84.
457
Насиp-и Хусрау, стр. 42.
458
<«Кто правит, тот и определяет религию» — основное положение церковной территориальной системы; в эпоху Реформации приобрело силу закона, позднее было отменено как несовместимое с принципами свободы вероисповедания.— Прим. перев.>
459
Мукаддаси, стр. 96.
460
Там же, стр. 415.
461
Там же, стр. 439.
462
Там же, стр. 395. «Шиитка из Кума», говорится в одном стихотворении (Йатима, IV, стр. 135), что означает «шиитка вообще». Кроме того, шиизм господствовал еще и в маленьком кухистаноком городке Ракка (Мукаддаси, стр. 323). Уже в III/IX в. жители Кума дают 30 тыс. дирхемов за реликвию — рукав на подкладке ют одежды одного Алида (Китаб ал-агани, XVIII, стр. 43).
463
Йакут, Словарь, IV, стр. 176.
464
<О секте гурабийа см.: Friedlander, The Heterodoxies, стр. 56 и сл.— Прим. англ. перев.>
465
Субки, Табакат, II, стр. 194.
466
Мукаддаси, стр. 399.
467
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 388.
468
Хамадани, Раса’ил, стр. 424 и сл.; Ибн Хаукал, стр. 268.
469
Мукаддаси, стр. 439.
470
Там же, стр. 235.
471
Ахмад ибн Йахйа, стр. 5.
472
Макризи, Хитат, II, стр. 352.
473
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 165б.
474
Wellhausen, Oppositionsparteien, стр. 99.
475
Абу-л-Махасин, II, стр. 333.
476
Поэтому нет нужды предполагать что-то специфически мессианское в иудее из Южной Аравии, которого обычно именуют отцом этого учения (Friedlander, ZA, 23, стр. 24).
477
<Ср.: Жуковский, Легенда об Иисусе, стр. 63-72.— Прим. перев.>
478
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 178а.
479
Китаб ал-‘илал, л. 77б: Фатиму называли пречистой девой потому, что у нее не было менструаций.
480
Там же, л. 99б.
481
Там же, л. 100а.
482
Йатима, II, стр. 206.
483
Китаб ал-‘илал, л. 135а; ‘Али Деде (Китаб ал-ава’ил, л. 135б) в качестве доказательства цитирует отдельные строки из стихов той эпохи. Впрочем, уже Ма’мун из Хорасана в 204 г. въезжал в Багдад в зеленых одеждах и под зелеными знаменами (Ибн Тайфур, л. 2а). Зеленые знамена развевались и над Ноубехаром в Балхе (Мас‘уди, IV, стр. 48), так что, возможно, это был цвет Хорасана.
<Зеленые одежды халифа Ма’муна, вероятно, все же следует объяснять его политикой по отношению к шиитам, когда он в 202/817 г. объявил восьмого шиитского имама своим наследником. См.: Cl. Нuаrt, ‘Ali al-Rida, EI, I, стр. 311; В. Lewis, Ali al-Rida, EJ, NE, I, стр. 399-400.— Прим. перев.>
484
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 35а.
485
Например, Насиp-и Xусрау, стр. 48. Абу-л-Махасин, II, стр. 408.
486
Goldziher, «Kultur der Gegenwart»; Китаб ал-вузара, стр. 170; Йакут, Иршад, VI, стр. 400, 94.
487
Мас‘уди, VIII, стр. 374.
488
Мукаддаси, стр. 126. При помощи этого противопоставления Му‘авию причисляли к лику святых: «Еще и в наши дни, в 332 г., совершаются паломничества к могиле Му‘авии близ малых ворот Дамаска. Над могилой возведено там строение, которое каждый понедельник и четверг украшают» (Мас‘уди, V, стр. 14).
489
Мукаддаси, стр. 399; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 60б; Абу-л-Фида, Анналы, год 236.
490
Sarasin, Das Bild ‘Alîs.
491
Хамадани, Раса’ил, стр. 424 и сл.
492
<Хамадани умер в 398/1007 г.— Прим. перев.>
493
Хваризми, Диван (рук.), стр. 90 и сл.
494
Хамадани, Раса’ил, стр. 58 и сл.
495
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 158.
496
Например, там же, л. 29б.
497
Абу-л-Фида, Анналы, год 351.
498
Китаб ал-агани, XIX, стр. 141.
499
Кинди, стр. 198.
500
Там же, стр. 204.
501
Это, вероятно, был общепринятый суннитский символ веры. Так, Нафтавайхи (ум. 323) рассказывает такой анекдот: «Одному шииту сказали: „Брат твоей матери (хал) — Му‘авия!“, на что тот отвечал: „Этого я не знаю, моя мать христианка — это ее дело!“ (Йакут, Иршад, I, стр. 318).
502
Макризи, Итти‘аз, стр. 87.
503
Макризи, Хитат, II, стр. 339 и сл.
504
Там же, I, стр. 389.
505
Ибн Тагрибирди, стр. 91; Ибн ал-Асир, IX, стр. 126. Согласно первому, он был затем обезглавлен, а по данным второго — всего лишь выслан из города.
506
Йахйа ибн Са‘ид, л. 116а. Передают также, что в том же году целый караван паломников принуждали подвергнуть поношению трех первых халифов. Паломники этого, разумеется, не сделали, и получился огромный скандал (Макризи, Хитат, II, стр. 342).
507
Макризи, Хитат, I, стр. 431; Кинди, Приложение, стр. 600.
508
Йахйа ибн Са‘ид, л. 119а.
509
Мукаддаси, стр. 202.
510
Бакри (изд. де Слэна), стр. 75.
511
Мукаддаси, стр. 126. Согласно Мукаддаси (стр. 37), основной ошибкой ханбалитов была их ненависть к ‘Али (читай ли-н-насб).
512
Китаб ал-вузара, стр. 371.
513
Ибн ал-Асир, IX, стр. 146.
514
См. Йакут, словарь под словами: Карх, Багдад. <Le Strange, Baghdad, стр. 96.— Прим. англ. перев.>
515
Китаб ал-вузара, стр. 483.
516
Табари, Анналы, III, стр. 2164 и сл.
517
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 29б. В Багдаде было немало жуликов, существовавших тем, что они продавали шиитам четки, а также глиняные таблички, по их клятвенному заверению, с могилы Хусайна (Йатима, III). Такие таблички (табак, вульг. табок) продаются и по сей день: это круглые таблички, величиной приблизительно с монету в 5 марок, которые шиит, совершая намаз, кладет перед собой, чтобы во время поклонов касаться лбом священной земли.
518
Там же, л. 67а.
519
Подробно у Мискавайха, V, стр. 413; кратко у Ибн ал-Асира, VIII, стр. 204; Абу-л-Махасин, II, стр. 254.
520
Мискавайх, VI, стр. 495 и сл.
521
Позднее к этому указу было добавлено несколько сочных богословских изречений: «Вы полагаете, что ваши мерзкие и подлые лица подобны облику повелителя мирозданий» и т.д.— Абу-л-Фида, Анналы, год 323.
522
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 67а; Ибн ал-Асир, IX, стр. 278; Мискавайх (VI, стр. 37) сообщает только о завершении строительства мечети, без каких бы то ни было других указаний.
523
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 13.
524
Мискавайх, VI, стр. 123.
525
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 89а; Абу-л-Махасин, II, стр. 351; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 397.
526
См. выше, стр. 65.
527
Китаб ал-вузара, стр. 371; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 93б; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 403, 407; Абу-л-Махасин, II, стр. 364. Обычные для нашего времени мистерии нигде не упоминаются, однако создается впечатление, что встречающаяся у Хваризми цитата (Раса’ил, стр. 7) — «…подобно тому как госпожа Сукайна, дочь Хусайна, сказала: я была прекраснее неба и слаще воды!» — заимствована из какого-то драматического произведения.
528
Бируни, Хронология, стр. 329.
<Русский перевод «Хронологии», стр. 373; см. также стр. 374, где Бируни подробно говорит о происхождении слова ‘ашура. Об этом празднике см.: A. Wеnsinсk, HdI, стр. 59-60; M. Plessner, HdI, стр. 540-541.— Прим. перев.>
529
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 93б, 95б; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 407. Согласно Абу-л-Махасину (II, стр. 427), впервые лишь в 360/970 г.,— однако это неверно.
530
Китаб ал-вузара, стр. 371; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 93б, 95б; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 407.
531
Бируни, Хронология, стр. 329.
532
Казвини, Космография, I, стр. 68.
533
Китаб ал-‘илал, л. 99б.
534
Макризи, Хитат, I, стр. 490.
535
Поэтому-то и знает эту гробницу еще Йакут.
536
Китаб ал-вузара, стр. 371; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 143.
537
Так, например, в 382/992 г. Му‘аллим (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 134а) и в 392/1001 и 407/1015 гг. ‘Амид ал-Джуйуш (Китаб ал-вузара, стр. 482 и сл.; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 147б; Ибн ал-Асир, IX, стр. 184).
538
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 152б.
539
Там же, л. 178а, 179а.
540
Так же пишет и Ибн Хаукал, стр. 163.
541
Мас‘уди, IV, стр. 289; V, стр. 68.
542
Ибн Xаукал, стр. 163.
543
Ибн ал-Асир, IX, стр. 154.
544
Там же, VIII, стр. 380.
545
Там же, IX, стр. 13.
546
Табари, Анналы, III, стр. 1407. Сохранились также сатирические стихи на это событие Ибн Бассама (ум. 302/944) — Абу-л-Фида, Анналы, год 303.
547
Он же отстроил гробницу Фатимы в Куме (Xамадани, Раса‘ил, стр. 425).
548
Мукаддаси, стр. 46, 333.
549
Макризи, Хитат, I, стр. 427.
550
Ибн Таймийа, Bd LIII, стр. 81.
551
Йакут, Иршад, I, стр. 68.
552
Ибн ал-Асир, IX, стр. 209; Ибн Тагрибирди, стр. 123.
553
Мукаддаси, стр. 333.
554
Кудама (ум. 337/948), (рук.), л. 10; это же значение имеет асл и в документе, приведенном в Китаб ал-вузара, стр. 11.
555
Об этом см.: Amedroz, JRAS, 1913, стр. 829 и сл.; Мискавайх, VI, стр. 338. Во главе этого ведомства обычно стоял финансист. Даже мелкие ведомства, такие, как управление имениями одной из жен халифа, также имели оба этих отдела, а каждый отдел — своего начальника,— см.: Мискавайх, V, стр. 390.
556
Говорят, что никогда так слаженно не сотрудничали высшее начальство империи — халиф, везир, министр (сахиб диван) и верховный главнокомандующий (амир джайш), как при нем (Китаб ал-вузара, стр. 189).
557
Китаб ал-вузара, стр. 131; это ведомство называлось также и диван ад-дар ал-кабир — «Великий диван двора».— Там же, стр. 262.
558
Там же, стр. 77.
559
Там же, стр. 271, 124; Мискавайх, V, стр. 324.
560
Кудама (рук.), л. 2б.
561
Там же, л. 8а-9б.
562
Там же, л. 9б-10а.
563
Мискавайх, V, стр. 257.
564
Китаб ал-вузара, стр. 303, 306.
565
Мискавайх, V, стр. 261.
566
Термин инша’ употребляется на Востоке для обозначения оформления документов отдельными ведомствами. Мафатих ал-‘улум, стр. 78; Китаб ал-вузара… стр. 151, 216.
567
Йакут, Иршад, I, стр. 242.
568
Кудама (пишет ок. З15/927), стр. 184.
569
Макризи, Хитат, II, стр. 180.
570
Burckhardt, Die Zeit Constantins des Großen, стр. 70. Один египетский почтмейстер первого мусульманского столетия был официальным доносчиком о действиях префектов, ZA, XX, стр. 196. <А. Мец несомненно имел в виду происхождение арабского слова барид от греческого beredos (лат. veredus).— Прим. перев.>
571
В III/IX в. поэта Ибн Бассама заставили придержать свой острый язык, назначив почтмейстером (Мас‘уди, VIII, стр. 271; Йакут, Иршад, V, стр. 322 и сл.). Желая вознаградить одного поэта, ему предоставили право выбрать себе место среди почтовых пунктов Хорасана (Йатима, IV, стр. 62). Поэт ал-Васики ждал места почтмейстера (там же, стр. 112). Почтмейстер Нишапура имел больше всех книг даже в этом городе ученых (Ибн Хаукал, стр. 320). А магрибинец Ибн Халдун, напротив, относит почтмейстеров к сословию военных (Мукаддима, I, стр. 196).
572
Кудама (рук.), л. 8б и сл.
573
‘Ариб, стр. 39.
574
Кудама (рук.), л. 20а.
575
Ибн Xалдун, Китаб ал-‘ибар, I, стр. 206.
576
Кудама (рук.), л. 20б.
577
Там же, л. 21б.
578
Китаб ал-вузара, стр. 178. Ото место немного неясно. Мне кажется, что прежде вся корреспонденция, адресованная халифу, шла непосредственно во дворец и там вскрывалась. Позднее эта система была отменена и сортировка корреспонденции и рассылка ее в соответствующие министерства перешла в ведение везира. В то же время продолжал существовать и прежний порядок, и чиновник во дворце, по-видимому, вскрывал корреспонденцию и выкладывал ее перед халифом. Этот чиновник, непосредственно отвечавший перед халифом, должен был иметь во дворце свою контору (диван ал-фадд). Позднее, когда везир взял на себя корреспонденцию, диван ал-фадд превратился в кабинет везира со своим секретарем. Это, очевидно, была дополнительная работа, возложенная на секретаря. Будучи, таким образом, добавлена к функциям секретаря дивана ал-фадд, эта функция составила часть его общих секретарских обязанностей. Никакое другое объяснение не приходит мне в голову.— Прим. англ. перев.>
579
<Ажио — повышение курса денежных знаков и т.п. против их номинальной стоимости.— Прим. перев.>
580
Кудама (рук.), л. 23б.
581
Мискавайх, V, стр. 257.
582
Китаб ал-вузара, стр. 156.
583
Там же, стр. 314.
584
Там же, стр. 20.
585
Там же, стр. 81.
586
Там же, стр. 314; Мискавайх, V, стр. 257.
587
Китаб ал-вузара, стр. 77.
588
Там же, стр. 11 и сл.
589
Там же, стр. 156.
590
Там же, стр. 50.
591
Например, Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 15.
592
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 165.
593
Там же, стр. 252.
594
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 15.
595
Михаил Сириец, стр. 538.
596
Согласно Михаилу Сирийцу (стр. 541), следует понимать так, несмотря на то что описано это довольно неясно. Обычно этот пост был связан с должностью военачальника, однако начальник полиции (сахиб ма‘уна) получал от халифа отдельный патент (Кудама, рук., л. 14б).
597
Ибн Хаукал, стр. 307, 309. Вавилония, так же как и Хорасан, была разделена по двенадцатиричной системе на 24 округа (тассудж) по 12 районов (рустак) каждый (Китаб ал-вузара, стр. 258).
598
Китаб ал-фарадж, II, стр. 10.
599
Ибн ал-Acир, IX, стр. 16.
600
Ибн Са‘ид (изд. Талквиcта), стр. 39; Mакризи, Хитат, I, стр. 99.
601
Mакризи, Итти‘аз, стр. 78.
602
Йакут, Иршад, II, стр. 238.
603
<Такие имена, как Йакут, Джаухар, Йалбак, содержат в себе намек на то, что их носители по своему происхождению были рабами. Под выражениями «свободные» и «несвободные» А. Мец подразумевает имена свободных и имена рабов. Этим примечанием я обязан проф. Марголиусу.— Прим. англ. перев.>
604
Истахри, стр. 146. Их было 5 категорий: 1) письмоводитель (экспедитор), 2) писарь налогового ведомства, 3) военный писарь, 4) судебный писарь, 5) полицейский писарь (Байхаки, стр. 448); более подробно см.: Шайзари, Джамхарат ал-ислам, л. 199а и сл.
605
Aus Persien, Wien, 1882, стр. 184. <А. Мец не указывает автора упомянутой работы. Однако в 70-х годах прошлого века пост генерального директора почт в Персии занимал австриец Г. фон Ридерер (G. v. Riederer), автор работы «Die Post in Persien», OMFO, 1878. См. Gabriel, Die Erforschung Persiens, 1952, стр. 214, 283.— Прим. перев.>
606
Mискавайx, VI, стр. 326 и сл.
607
Например, Йакут, Иршад, I, стр. 234; Мукаддаси, стр. 440. <Тайласан — шарф или клобук (академический), ниспадавший на плечи. По данным арабских авторов, следует, что тайласан иногда также носили поверх чалмы. См.: Lane, Madd al-qamus, s.v.; Brоwnе, A Literary History, I, стр. 335; Dozy, Noms des vêtements, стр. 278 и сл.; Бурхан-и Кати, s.v. Тайласан носили также и судьи. «Иногда я говорил,— пишет Мукаддаси в своем Ахсан ат-таксим (стр. 7),— кратко, но выразительно, что лучше, чем вдаваться в детали. Так, например, мои слова относительно Ахваза: „Там нет святости в их мечети“. Я подразумевал тем самым, что она полна мошенниками, людьми непристойными и невежественными, которые сговариваются собираться там. Поэтому мечеть никогда не бывает свободна от сидящих там людей, в то время как другие погружены в молитву. Это место скопления назойливых нищих и родной дом для грешников… И таковы же мои замечания о Ширазе. Я говорю: „Там множество накрытых тайласаном“. Тем самым я полагал, что тайласан подобен роду одежды людей благородных, ученых и невежественных. Как часто приходилось мне видеть пьяных людей, вывернувших наизнанку свой тайласан и волочащих его за собой! Когда я искал приема у везира, облаченный в тайласан, мне отказывали в доступе; возможно, все было бы по-иному, если бы мне об этом сказали, но меня всегда приглашали войти, когда я был одет в дурра‘а».
Я признателен за это примечание д-ру Сиддики из Дакки.
Дурра‘а (дарра‘а) — род одежды с вырезом или разрезом спереди; обычно шерстяная и без подкладки.— Прим. англ. перев.>
608
Субки, Табакат, II, стр. 166.
609
Китаб ал-вузара, стр. 322.
610
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж; Китаб ал-вузара, стр. 66.
611
Китаб ал-вузара, стр. 263.
612
Мискавайх, V, стр. 344.
613
Китаб ал-вузара, стр. 184 и сл.
614
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 14. Правда, ему, как принцу, не пользовавшемуся благосклонностью двора, пришлось испытать в жизни немало тяжелого: тридцать лет писал он чиновникам и в стихах и в прозе, но так ничего и не добился (Китаб ал-вузара, стр. 115).
615
Ахмад ибн Йахйа, стр. 44.
616
Там же, стр. 61, 56.
617
Кашф ал-махджуб, стр. 366.
618
Мискавайх, V, стр. 244.
619
‘Ариб, стр. 128.
620
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 39.
621
Китаб ал-вузара, стр. 303, 308.
622
Becker, Beiträge, I, стр. 34; согласно ал-Мусаббихи (420 г.х.).
623
Eutychiuş, (ум. 318/930), CSCO, стр. 54, по данным одного очень надежного источника.
624
Китаб ал-вузара, стр. 153 и сл.
625
Ибн Тагрибирди, стр. 34. (К везиру из христиан ‘Исе ибн Несториусу также обращались «величайший господин» (сайидна ал-аджалл),— Йахйа ибн Са‘ид, л. 112а.
626
Йатима, IV, стр. 145.
627
Йакут, Иршад, V, стр. 407.
628
Йахйа ибн Са‘ид, л. 129.
629
Китаб ал-вузара, стр. 148 и сл.
630
Та’рих Багдад (изд. Кренкова), стр. 67.
631
Китаб ал-вузара, стр. 151.
632
Там же, стр. 22.
633
Фахри (изд. Альвардта), стр. 180. <Для ранней истории должности везира см.: S. Khuda Bukhsh, Contributions, стр. 242 и сл.— Прим. англ. перев.>
634
Китаб ал-вузара, стр. 282, 350; Мискавайх, V, стр. 268.
635
Китаб ал-вузара, стр. 23. В империи Фатимидов даже все его братья получали по 200-300 динаров в месяц (Макризи, Хитат, I, стр. 401).
636
Китаб ал-вузара, стр. 50 и сл.; Мискавайх, V, стр. 214.
637
Китаб ал-вузара, стр. 325.
638
В стихотворении Исфагани, приведенном у Фахри (изд. Альвардта), стр. 324.
639
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 66а; Мискавайх, VI, стр. 45, 46; Йакут, Иршад, V, стр. 356. В 319/1031 г. народ был поражен, когда во время одного празднества везир появился в солдатской шапке (шашийа) и с мечом, подвешенным на перевязи через плечо (‘Ариб, стр. 165).
Нам известен распорядок дня одного везира приблизительно от 275/888 г. Поднимался он к концу ночи и молился до восхода солнца. Затем принимал людей, желавших его приветствовать, после этого ехал во дворец халифа, где четыре часа кряду докладывал повелителю. Потом у себя дома он вплоть до полудня решал дела «присутствующих и отсутствующих», обедал и ложился спать. В поздние послеобеденные часы занимался государственными финансовыми делами: ему ежедневно представляли выписку о всех доходах и расходах. Затем проверял состояние своих собственных владений и поведение служащих, развлекался и удалялся на покой (Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 118б). Около середины IV/X в. везир Бундов в Рее имел обыкновение появляться в канцелярии до восхода солнца со свечами и факелами (Йакут, Иршад, V, стр. 358). Также и на исходе V/XI в. везир приходил рано утром (т.е. после восхода солнца) в присутствие, около 10 часов возвращался домой, до обеда пребывал в одиночестве, а затем после обеда отдавался своим личным склонностям (Субки, Табакат, III, стр. 141).
640
‘Ариб, стр. 164.
641
Китаб ал-вузара, стр. 31.
642
Там же, стр. 238.
643
Йакут, Иршад, I, стр. 342.
644
Китаб ал-вузара, стр. 208.
645
Там же, стр. 59; Мискавайх, V, стр. 233.
646
Мискавайх, V, стр. 410; Китаб ал-вузара, стр. 23 называет размеры — 173 346 локтей.
647
Мискавайх, V, стр. 391.
648
Китаб ал-вузара, стр. 121.
649
Там же, стр. 112.
650
Там же, стр. 241, 352.
651
Ибн аб-Асир, VIII, стр. 7; Китаб-ал-‘уйун, IV, л. 59б.
652
Китаб ал-вузара, стр. 268.
653
Там же, стр. 342.
654
Фахри, стр. 292 и сл.; Макризи, Хитат, I, стр. 156.
655
Китаб ал-вузара, стр. 267; для Каира — Ибн ал-Асиp, IX, стр. 82.
656
Китаб ал-вузара, стр 322.
657
Flügel, Die Klassen, стр. 296.
658
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 66а.
659
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 127.
660
Йакут, Иршад, V, стр. 356.
661
Amedroz, JRAS, 1908, стр. 418; Йатима, III, стр. 33.
662
Amedroz, JRAS, 1908, стр. 431.
663
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 51.
664
Китаб ал-вузара, стр. 239; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 73.
665
‘Ариб, стр. 58.
666
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 75.
667
Мискавайх, VI, стр. 125; Мас‘уди, Таибих, стр. 399.
668
Китаб ал-вузара, стр. 3.
669
Макризи, Итти ‘аз, стр. 70.
670
Современника Ибн Зулака (ум. 387/998). См. Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 129.
671
Калкашанди, стр. 185.
672
Макризи, Хитат, I, стр. 439.
673
‘Ариб, стр. 165.
674
Фахри (изд. Альвардта), стр. 298, совершенно не упоминает Ибн Махлада, который занимал пост везира между Сулайманом ибн Вахбом и Ибн Булбулом (Мас‘уди, VIII, стр. 39; Табари, Анналы, III, Индекс). Замечание, что Ибн Булбул сочетал искусство владения «мечом и пером», первоначально, вероятно, относилось к этому пропущенному его предшественнику, ибо о военных доблестях Ибн Булбула сведений нет, скорее наоборот; так, Табари (Анналы, III, стр. 2110) ясно говорит, что он находил применение своим способностям только в канцелярии.
675
В отношении Саманидов см., например, Mirchond, History Samanid., стр. 72, 84. О везирах Му‘изз ад-Даула — Саймари и Мухаллаби см.: Мискавайх, VI, стр. 214, о везирах Рукн ад-Даула — Мискавайх, VI, стр. 211, 343 и сл., 421; об ‘Адуд ад-Даула — Мискавайх, VI, стр. 451 и сл., 482; о везире Беха ад-Даула — Ибн ал-Асир, IX, стр. 138.
676
Ибн ал-Асир, IX, стр. 139.
677
Мискавайх, VI, стр. 190 и сл.; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 375.
678
В «Китаб ма‘ахид ат-тансис», л. 337а говорится: «После смерти везира ал-Мухаллаби ра’ис Абу-л-Фадл и везир Абу-л-Фарадж отправились в министерство для проведения ревизии и дали распоряжение обливать нефтью всякого, кто приблизится к дверям. Впрочем, так поступал уже и ал-Мухаллаби».
679
Мискавайх, VI, стр. 362, 396; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 462. По этому случаю злословили: «От тарелки да на пост везира» (мин ал-гидара ила-л-визара): Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 104а.
680
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 497.
681
Мискавайх, VI, стр. 477, 484; Йахйа ибн Са‘ид, л. 105а; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 507.
682
См., например, Мискавайх, VI, стр. 452.
683
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 507; я читаю — ас-сафиййати — вместо ас-сакийати. Так пишет и Ахмад Са‘ид ал-Багдади в «Надим ал-‘ариб», стр. 143; Ибн Тагрибирди, стр. 20 — ас-са’ихати.
684
Мискавайх, VI, стр. 514 и сл.; Йахйа ибн Са‘ид, л. 107а; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 514 и сл.
685
Мискавайх, VI, стр. 515; Ибн ал-Асир, IX, стр. 66.
686
Ибн ал-Асир, IX, стр. 68.
687
<Дата смерти везира Исма‘ила ибн ‘Аббада (ас-Сахиба) приведена у А. Меда кроме этого еще в 4-х местах, и всякий раз указан другой год. На это обратил внимание еще В. Бартольд и указал, что правильная дата — 385/995 г. (она приведена А. Медом на стр. 94). См.: Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса», стр. 3. В английском переводе эта неточность не исправлена.— Прим. перев.>
688
Йакут, Иршад, I, стр. 71 и сл.
689
Йахйа ибн Са‘ид, л. 112 и сл. Титул везира он, правда, носил неофициально.
690
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, лл. 168а, 168б.
691
Йахйа ибн Са‘ид, л. 128а.
692
Китаб ал-вузара, стр. 150.
693
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 173а.
694
‘Ариб, стр. 37.
695
Китаб ал-вузара, стр. 142.
696
Там же, стр. 201.
697
Там же, стр. 240.
698
Там же, стр. 195.
699
Там же, стр. 176.
700
Там же, стр. 195.
701
<Варак ал-мансури, или ал-камил, т.е. полный лист (3584,7 кв. см) — см. Karabaček, Das arabische Papier, стр. 68. Здесь какое-то недоразумение, ибо Карабачек считает, что называлась так бумага, «…пожалуй, по имени фатимидского халифа Абу ‘Али ал-Мансура (495/1101—524/1130)», а Ибн ал-Фурат вступил в должность в 296/909 г.— Прим. перев.>
702
Китаб ал-вузара, стр. 63.
703
Там же, стр. 142. Немного превратно поняты эти указания в «‘Умад ал-мансуб» Са‘алиби (перевод см. ZDMG, VI, стр. 50), возможно, правда, по вине переводчика.
704
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 23.
705
Китаб ал-вузара, стр. 119. Это же рассказывают уже и о халифе ал-Ма’муне. Табари, Анналы, III, стр. 1075.
706
Китаб ал-вузара, стр. 98.
707
Там же, стр. 113; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 28.
708
Китаб ал-вузара, стр. 307.
709
Там же, стр. 283.
710
Там же, стр. 64.
711
Там же, стр. 119.
712
Там же, стр. 134.
713
Там же, стр. 139.
714
Там же, стр. 117.
715
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 76б.
716
Говорил его современник Сули, см. Суйути, Хуcн ал-мухадара, II, стр. 126.
717
Китаб ал-вузара, стр. 322.
718
Там же, стр. 333.
719
Йакут, Иршад, V, стр. 225.
720
Китаб ал-вузара, стр. 325.
721
‘Ариб, стр. 130.
722
Китаб ал-вузара, стр. 325.
723
Там же, стр. 96. Согласно Вarhebraeus, Chron. eccles., III, стр. 241, у него все же были советники из христиан.
724
Китаб ал-вузара, стр. 266.
725
<‘Ид ал-адха (также ‘ид ал-курбан, ‘ид ан-нахр) — «праздник жертвоприношения», или «великий праздник» (ал-‘ид ал-кабир). Празднуется 10 зу-л-хиджжа и последующие 3 дня (аййам ат-ташрик). В этот день закалывают овец (по одной на человека) или верблюдов и крупный рогатый скот (одна голова на 7 человек).
В английском переводе назван бакра ‘ид (бакар ‘ид) в соответствии с названием, принятым в Индии; у тюркоязычных народов — курбан-байрам. См.: Hdl, стр. 194-195.— Прим. перев.>
726
Китаб ал-вузара, стр. 260.
727
Там же, стр. 351.
728
Там же, стр. 288, 291, 295.
729
Мискавайх, V, стр. 97-198.
730
Китаб ал-вузара, стр. 290.
731
Там же, стр. 280.
732
Там же, стр. 276.
733
Современные сатирические стихи по поводу этого см.: Фахри (изд. Альвардта), стр. 314.
734
Китаб ал-вузара, стр. 263. Персидский округ Мах ал-Куфа превратился у Фахри (изд. Альвардта, стр. 313) в Куфу.
735
‘Ариб, стр. 39.
736
Биографический очерк см.: Китаб ал-вузара, стр. 18, прим. 1.
737
Йакут, Иршад, V, стр. 225.
738
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 95а.
739
Китаб ал-вузара, стр. 92.
740
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 102.
741
Ибн ал-Джаузи. Мунтазам, л. 19а.
742
Там же, л. 26аб.
743
<Об этом везире см.: Sourdell, Le vizirat ‘Abbaside, Index.— Прим. nepeв.>
744
Когда он стал везиром, его бывший приятель поэт Джахиз напомнил ему о тех временах, «когда хлеб еще был грубым (хушкар), у двери еще не стояли ни лошадь, ни осел, а у берега не стоял таййар» (Ибн ал-Джаузи. Мунтазам, л. 64б).
745
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 72а.
746
Ибн ал-Джаузи. Мунтазам, л. 64аб.
747
Мискавайх, V, стр. 447.
748
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 157а.
749
Там же, л. 159б.
750
Там же, л. 160б, 161б. Врач Сабит описывает, в каком состоянии нашел он его руку после экзекуции; см.: Мискавайх, V, стр. 581 и сл.
751
Один из переписанных им коранов в 30 томах хранился в библиотеке ‘Адуд ад-Даула в Ширазе (Йакут, Иршад, V, стр. 446).
752
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 162а.
753
Там же.
754
Мискавайх, V, стр. 245. Оба имени, а особенно Исра’ил, были типично христианскими.
755
Там же, стр. 247.
756
Йатима, II, стр. 8.
757
Са‘алиби, Китаб ал-мирва, л. 129б.
758
Xамави, Самарат ал-аурак, I, стр. 82.
759
Мискавайх, VI, стр. 121.
760
Там же, V, стр. 575.
761
Йакут, Иршад, III, стр. 180.
762
Мискавайх, VI, стр. 214.
763
Йатима, II, стр. 278.
764
Мискавайх, VI, стр. 190.
765
Там же, стр. 258.
766
Там же, стр. 168 и сл.; Amedroz, JRAS, 1913, стр. 836 и сл.
767
Мискавайх, VI, стр. 244.
768
Там же, стр. 248.
769
Там же, стр. 258.
770
Мискавайх, VI, стр. 241.
771
Там же, стр. 242.
772
Таухиди, Фи-с-садака, стр. 33.
773
Мискавайх, VI, стр. 166.
774
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 91б.
775
Йакут, Иршад, VI, стр. 253 и сл.
776
Сахиб был первым, кто носил этот титул (Тагрибирди, стр. 56). Впоследствии, ок. 400/1010 г., так именовали Амида ал-Джуйуша (ар-Ради, Диван, I, стр. 321). Позднее — «всякий везир, а в наше время — негодники, работники мясников, и сборщики податей» (Тагрибирди, стр. 56).
777
Йакут, Иршад, II, стр. 273 и сл.
778
Тагрибирди, стр. 57.
779
Йатима, III, стр. 32.
780
Йакут, Иршад, II, стр. 274, 315.
781
Йатима, III, стр. 42 и сл.
782
Йакут, Иршад, II, стр. 304; Йакут, Иршад, VI, стр. 276; когда поэт ал-Магриби попросил у него 500 динаров, он отвечал: «Сделай это почтительно и преврати в дирхемы!».
783
Йатима, III, стр. 33; Йакут, Иршад, II, стр. 320.
784
Йатима, III, стр. 34.
785
Йакут, Иршад, II, стр. 298 и сл.
786
Таухиди, Фи-с-садака, стр. 32.
787
Мискавайх, VI, стр. 352.
788
Там же, стр. 353.
789
Там же, стр. 354.
790
Там же, стр. 358.
791
Там же, стр. 346.
792
Там же, стр. 352.
793
Там же, стр. 357.
794
Там же, стр. 356.
795
Там же, стр. 357.
796
Там же, стр. 347.
797
Йакут, Иршад, II, стр. 289.
798
Там же, стр. 272 и сл.
799
Таухиди, Фи-с-садака, стр. 33.
800
Йакут, Иршад, II, стр. 288 и сл.
801
Макризи, Хитат, I, стр. 273; Макризи в данном случае заимствует сведения из специального труда: истории ал-Му‘тадида, написанной ‘Абдаллахом ибн Ахмадом ибн Абу Тахиром.
802
На крайнем востоке халифата, в Афганистане и Трансоксании, земельный налог взимался ежегодно в два срока (Ибн Хаукал, стр. 308, 341).
803
Бируни, Хронология, стр. 216.
804
Макризи, Хитат, I, стр. 275; Бируни, Хронология, стр. 32 и сл.; Табари, Анналы, III, стр. 2143; Саби, Раса’ил, стр. 213.
805
Саби, Раса’ил, стр. 209 и сл.; Макризи, Хитат, I, стр. 277.
806
Мискавайх, V, стр. 193; Китаб ал-фарадж, I, стр. 51, внизу; Ибн Xаукал, стр. 128; Мафатих ал-‘улум, стр. 54. В византийских провинциях правитель также сразу же покрывал расходы из доходов (Diehl, Afrique byzantine, стр. 100). Сообщают, что во времена Омейядов стало обычаем, чтобы чиновников, доставляющих налоги из отдельных провинций, сопровождали 10 человек, которые по прибытии в Дамаск должны были поклясться халифу в том, «что взималось лишь дозволенное и что воинам и всем, имеющим на то право, уплачено». Ахбар маджмуа, стр. 22 и сл. Абу-л-Файйад, по Simonet, Hist. de los Mozarabes, стр. 158. Таким образом, надо иметь в виду, что все бюджетные и арендные суммы следует понимать как нетто.
807
Китаб ал-вузара, стр. 11 и сл.
808
Хваризми, Мафатих ал-‘улум, стр. 54 и сл.
809
В последиоклетианскую эпоху канун — уже общее обозначение для штатных расходов,— см. Wilkеn, Griech. Ostraka, стр. 378.
810
Kremer, Einnahmebudget, стр. 309 и сл., 323; Кудама, стр. 239; Китаб ал-вузара, стр. 189.
811
Мукаддаси, стр. 340. Это известие подтверждается и словарем Йакута (I, стр. 249), где сказано, что Асбиджаб являйся единственным городом в Хорасане и Трансоксании, который не платил земельного налога, чтобы он, будучи крупной пограничной крепостью, мог использовать свои деньги на военные нужды.
812
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 6а.
813
Там же, л. 9а.
814
Там же, л. 15б.
815
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 32. Наряду с этим существовала еще и пожизненная аренда (ту‘ма), о которой, однако, очень мало говорится; см. Xваризми, Мафатих ал-‘улум, стр. 60.
816
Becker, ZA, Bd 18, стр. 301 и сл.
817
См., например, Кудама (рук.), л. 90а. «Десятинная земля бывает шести родов:
1) земли, владельцы которых стали мусульманами и которыми до настоящего времени владеют, как, например, в Йемене, Медине и Та’ифе;
2) возделанные мусульманами пустоши;
3) ленные владения;
4) распределенные халифом среди верующих земли бывших вражеских стран;
5) бывшие персидские домены;
6) земли, покинутые неприятелем и занятые верующими, например, военные границы». Наряду с ведомством по взиманию земельных налогов (диван ал-харадж) существовало еще и особое налоговое ведомство ленных владений (диван ад-дийа‘),— см. Kremer, Einnahmebudget, стр. 325. Поэтому-то и отсутствуют они в терминологии ведомства земельных налогов в Хорасане.
818
Китаб ал-фарадж, II, стр. 103.
819
Китаб ал-вузара, стр. 220.
820
Там же, стр. 340 и сл.; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 81а.
821
См. выше, стр. 49 и сл.
822
Кудама, стр. 241.
823
Мискавайх, V, стр. 505.
824
Китаб ал-вузара, стр. 134; Китаб ал-фарадж, I, стр. 50.
825
Кудама, стр. 241.
826
Хваризми, Мафатих ал-‘улум, стр. 62.
827
Истахри, стр. 158.
828
Gelzer, Studien, стр. 72 и сл. <Термин ат-талджи’а от алджа’а ад-да‘ифу дай‘атаху ила ал-кавиййи: соответствует европейскому феодальному понятию и термину «коммендация».— Прим, ред.>
829
Кудама (рук.), л. 91а; Schmidt, Die Occupatio, стр. 300 и сл.
830
Йакут, Иршад, I, стр. 252.
831
Китаб ал-вузара, стр. 248.
832
В случае, если не было «близких наследников», шафииты считали казну наследником излишка, оставшегося после долевого раздела наследства (Sachau, Muhammedanisches Recht, стр. 211, 247). В 283/896 г. халиф ал-Му‘тадид определил, что дальних родственников следует брать в расчет (Табари, Анналы, III, стр. 2151); Абу-л-Фида (Анналы, год 283) на основании «Та’рих» кади Шихаб ад-Дина (ум. 642/1244) сообщает, что ал-Муктафи последовал его примеру и в 300/912 г. халиф <ак-Муктадир> возобновил этот закон. В 311/923 г. тот же халиф отменяет свое распоряжение и определяет, что при отсутствии «близких родственников» излишек должен доставаться долевым наследникам; значит, дальние родственники и государство оставались с пустыми руками. В 355/966 г. военачальник Му‘изз ад-Даула распорядился вернуть былой обычай (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 98б, 100а).
833
Согласно эдикту от 311 г.— см. ‘Ариб, стр. 118.
834
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 131.
835
Сули, Аурак, стр. 147.
836
Wüstenfeld, Statthalter Ägyptens, IV, стр. 35.
837
Мукаддаси, стр. 399.
838
Caro, Wirtschaftsgeschichte, I, стр. 317.
839
Ибн ал-Асир, IX, стр. 158.
840
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 131 и сл.
841
Китаб ал-вузара, стр. 223 и сл.
842
Мискавайх, V, стр. 398. На основании этого следует понимать и терминологию; сдр — значит «возвращаться от колодца с водой», противоположное врд; это, по данным филологов, равнозначно рдж‘,— см., например, Словарь Табари. Имя существительное садр — «полученные обратно деньги»,— Мискавайх, V, стр. 401, 572; Китаб ал-вузара, стр. 310; Хамадани, Раса’ил, стр. 382 (отсутствует в словарях). Отсюда садараху ‘ала — «он сравнялся с ним в возвращении назад чего-либо».
843
Ибн Са‘ид, стр. 16-17.
844
Там же, стр. 36.
845
Там же, стр. 17.
846
Мискавайх, VI, стр. 258.
847
Йакут, Иршад, I, стр. 70.
848
Китаб ал-вузара, стр. 74.
849
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 193б.
850
Йакут, Иршад, V, стр. 350.
851
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 68а.
852
Мискавайх, VI, стр. 39 и сл.
853
Там же, стр. 248.
854
Китаб ал-вузара, стр. 377.
855
Калкашанди, стр. 162. Купец из неверных в теории должен был платить при переезде через границу за свои товары такую же пошлину, что и мусульманин в тех странах,— обычно 10% стоимости своих товаров. Взамен он получает паспорт, действительный в течение года и дающий право свободно проезжать все таможенные пункты. См. комментарий Сарахси (ум. 495/1102 г.) к Шайбани, лейденская рук. (в работе de Goeje, Verslagen, стр. 265). Однако даже ученые не едины в этом вопросе: один заставляет чужеземного купца платить 5% пошлины и только на ввозимое вино — 10% (Йахйа ибн Адам, стр. 51), другой — вообще 10% (Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 78); по мнению аш-Шафи‘и, эту десятину можно было повышать или уменьшать наполовину в зависимости от потребностей казны. Во всяком случае, этот сбор был персональным, и если тот же купец на протяжении одного года вновь прибывал с товарами, он обязан был уплачивать пошлину только по обоюдному соглашению (Калкашанди, стр. 164). Ничего более точного не узнаем мы и из данных о том, что совершивший в 333/944 г. путешествие в Китай Абу Дулаф за свои товары «платил десятину» китайцам (Йакут, Словарь, под словом «Син»), что в V/XI в. греческие, испанские и магрибинские суда должны были платить «десятину» султану в Триполи (Насир-и Xусрау, стр. 112), так как это слово имеет исключительно общее значение «облагать пошлиной» и «пошлина». Правда, торговые договоры от 1154 и 1173 гг. н.э. с жителями Пизы устанавливали пошлину в размере 10% (Schaube, Handelsgeschichte, стр. 149 и сл.).
856
Мукаддаси, стр. 104 и сл.; место, где говорится об Адене, вероятно, дефектно. Во всяком случае, в этом основном порту правительство едва ли взимало 1/3 стоимости товара. Это, пожалуй, согласно списку «С», следует отнести к Оману (стр. 213).
857
Мукаддаси, стр. 105.
858
Там же, стр. 134.
859
Там же, стр. 400.
860
Там же, стр. 485.
861
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 117.
862
Мукаддаси, стр. 340.
863
Там же, стр. 485.
864
Там же, стр. 104.
865
Там же, стр. 469.
866
Там же, стр. 105, прим. «d».
867
С точки зрения юристов, провиант в дорогу был свободен от пошлины. Калкашанди, стр. 162.
868
Ибн Джубайр, стр. 35 и сл.
869
Известный контроль заключался в том, что везир, государственный министр финансов, в то же время заведовал личной кассой халифа и должен был скреплять, личной подписью указания министра двора (Китаб ал-вузара, стр. 140).
870
Так и в наши дни султан ‘Абд ал-Хамид неоднократно пополнял казну, заимствуя из своего колоссального состояния.
871
Китаб ал-вузара, стр. 284.
872
Там же, стр. 188.
873
Мискавайх, V, стр. 352; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 176.
874
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 279.
875
Китаб ал-вузара, стр. 22. Поэтому не так уж далеко от истины сообщение, будто везир просил халифа ал-Муктадира оплатить и стоимость празднества жертвоприношения в Багдаде, за что, правда, правитель на него разгневался (Китаб ал-вузара, стр. 28).
876
Там же, стр. 10 и сл.
877
Мискавайх, V, стр. 381 и сл.
878
Китаб ал-вузара, стр. 189. Он выстроил для своей казны хранилище, пазы которого были залиты свинцом. Деньги хранились в мешках, снабженных печатью ответственного за них казначея (Китаб ал-вузара, стр. 139). Другие правители IV/X в. хранили свои деньги в сундуках (санадик); только осторожный Ихшид, правитель Египта, велел перенести их в оружейные склады и запрятать в мешки с кольчугами, где их не станет искать ни один человек (Ибн Са‘ид, стр. 43 и сл.).
879
Кроме Мискавайха см. также: Китаб ал-вузара, стр. 290 и сл. (на стр. 139 названы немного отличные цифры); Илья из Нисибина (род. 364/974), стр. 200 — по Мухаммаду ибн Йахйе.
880
Эта сумма получена из сопоставления указаний о том, что военный поход и приведение к присяге обошлось в 10 млн. (Мискавайх), из коих, согласно Китаб ал-вузара (стр. 292), присяга стоила 3 млн.
881
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 196б.
882
Халиф был наследником всех евнухов и бездетных вольноотпущенных, принадлежавших семье, а так как зачастую это были важные персоны, занимавшие тепленькие местечки, то ему доставались колоссальные состояния. Так, в 311/903 г. в Багдаде умер старый военачальник и раб-оруженосец Йанис (Иоанн) ал-Муваффаки, у стен дома которого располагались лагерем 1000 верных ему отборных воинов; из одних только своих земельных угодий он извлекал 30 тыс. динаров дохода (‘Ариб, стр. Мб). В 302/914 г. умерла певица Бид‘а — «нечестивое новшество», «рабыня ‘Ариба» (именно так она названа, согласно рифме,— Китаб ал-агани, XVIII, стр. 179; Ибн Тайфур, стр. 308, а не «Урайб», как считает де Гуе,— см. ‘Ариб, стр. 54), «искуснейшая певица, прекраснейшая, остроумнейшая и наидерзейшая» рабыня ал-Ма’муна. Она оставила после себя много денег, украшений, земель и усадеб, и все это халиф конфисковал (‘Ариб, стр. 54).
883
Мискавайх, V, стр. 301.
884
Истахри, стр. 146.
885
Мукаддаси, стр. 451.
886
Там же, стр. 448.
887
Kremer, Einnahmebudget, стр. 308.
888
Истахри, стр. 156 и сл.; Ибн Хаукал, стр. 216 и сл.
889
Мукаддаси, стр. 421.
890
Истахри, стр. 158.
891
Там же, стр. 157.
892
Китаб ал-вузара, стр. 340 и сл.; Истахри, стр. 157.
893
Мукаддаси, стр. 452.
894
Истахри, стр. 158.
895
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 81. Это то, что Ибн Хаукал (стр. 142) называет дара’иб ал-хамр.
896
Йахйа ибн Са‘ид, л. 123а, 1ЗЗб.
897
Напр., Макризи, Хитат, I, стр. 103 и сл.
898
<Лаж — прибавка при обмене одного вида денег на другой.— Прим. перев.>
899
Ноfmеier, Islam, IV, стр. 100 и сл.
900
Макризи, Хитат, I, стр. 103. Ибн ал-Мудаббир заявлял, что в свое время он управлял востоком и западом Вавилонии и всегда справлялся с делами до вечера, а в Египте бывали случаи, когда дела докучали ему несколько ночей напролет. Египет мог бы снабжать зерном весь мир, но возделывается там лишь половина земли (Ибн Xаукал, стр. 88). К концу IV/X в. везир-христианин ‘Иса ибн Несторий, как указывает его современник и соотечественник, тоже христианин Ибн Са‘ид, также ввел много новых налогов (Йахйа ибн Са‘ид, л. 113б).
901
Wilken, Griech. Ostraka, стр. 410.
902
См. папирусы. Правда, налог на торговые лавки был вновь введен лишь при ал-Махди (158—169/776—786) как в Багдаде (Йа‘куби, II, стр. 481), так и в Египте (Кинди, стр. 125).
903
Мукаддаси, стр. 213.
904
Wilken, Griech. Ostraka, стр. 433.
905
Kremer, Einnahmebudget, стр. 309.
906
Калкашанди, стр. 158.
907
Мукаддаси, стр. 212.
908
<Шата — в средние века торговый порт и ремесленный центр на западном берегу оз. Тиннис; славился дорогими тканями (особенно сорт шатави); в городе имелась государственная мануфактура — дар ат-тираз.— Прим. перев.>
909
Мукаддаси, стр. 243.
910
Джаухари, Словарь, мкс.
911
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 123б; Ибн ал-Асир, IX, стр. 16, 33, по данным ат-Таджи, современника событий Саби.
912
Китаб ал-вузара, стр. 368, где следует читать йухмалу.
913
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 188а.
914
Мукаддаси, стр. 167; Lе Strange, Description of Syria, стр. 91, 92.
915
Мукаддаси, стр. 189. Мы не располагаем объяснением значения этого слова, относящегося к тому времени. К соответствующим местам у Дози и Gloss. Geogr. см. еще и Макризи, Хитат, I, стр. 89 — химайат ал-маркаби.
916
Ибн Хаукал, стр. 128.
917
Там же, где следует читать джама‘ат, что является техническим термином, означающим «закрытие счета» (Мафатих ал-‘улум, стр. 54).
918
Ибн Руста, География, стр. 116; Мукаддаси, стр. 182. В Берда‘а, на севере у подножия Кавказа, отмечается как нечто примечательное, что там по сирийскому обычаю государственная казна стоила в мечети на девяти колоннах, снабженная свинцовой крышей и железными дверями (Истахри, стр. 184).
919
Ср. Wilkеn, Griech. Ostraka, стр. 149.
920
Макризи, Хитат, I, стр. 82.
921
Wüstenfeld, Statthalter Ägyptens, IV, стр. 36.
922
Мискавайх, VI, стр. 485 и сл.
923
Ибн Хаукал, стр. 140 и сл.
924
Dozy, Gesch. der Mauren, 2, стр. 57.
925
Мискавайх, VI, стр. 496. Ал-Мискавайхи было поручено вести подсчет военной добычи.
926
Напр., Илья из Нисибина, стр. 215, по данным Сабита ибн Синана. Ибн Са‘ид, стр. 61 и сл.
927
Ибн Хаукал, стр. 308.
928
Там же, стр. 341 и сл.
929
Ибн ал-Балхи, стр. 889.
930
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 120б. В этом сочинении другой источник оценивает его доход в 320 млн. дирхемов. Это еще одно доказательство того, что в ту пору динар был равен приблизительно 10 дирхемам. Передают, что он высказал пожелание увеличить доход с 320 млн. до 360 млн., чтобы каждый день получать миллион дохода.
931
Абу Салих, л. 23а.
932
Мискавайх, VI, стр. 293; Amedroz, Islam, III, стр. 336.
933
Китаб ал-вузара, стр. 10. Здесь несоответствия в приводимых этими авторами цифрах (Китаб ал-вузара, стр. 188), согласно которым при том же халифе Му‘тадиде Вавилония будто бы вновь дала такой же высокий доход, как и при ‘Омаре I.
934
Kremer, Eirmahmebudget, стр. 312.
935
Ибн Xаукал, стр. 169-178.
936
Мискавайх, VI, стр. 440.
937
Китаб ал-агани, IV, стр. 79.
938
Мукаддаси, стр. 421.
939
Ибн Xаукал, стр. 143.
940
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 119а.
941
Китаб ал-вузара, стр. 178.
942
В таких случаях владельцы смежных владений, естественно, складывались и покупали земли намного ниже их стоимости (Ибн Хамдун, Тазкира, стр. 434).
943
Мискавайх, V, стр. 342, 345, 364; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 165.
944
Мискавайх, V, стр. 505.
945
Сули, Аурак (рук.), стр. 103.
946
Китаб ал-вузара, стр. 10 и сл.
947
Kremer, Einnahmebudget, стр. 312. Фарс также был отдан на откуп, но так как откупщик запаздывал со взносами, он был у него отнят и поступил снова в управление самого правительства (Китаб ал-вузара, стр. 340).
948
Ахмад ибн Тулун платил в III/IX в. 2 млн. дани (Макризи, Хитат, I, стр. 99). Наряду с откупной суммой надо было также делать и ряд подношений: халифу, его матери и тетке, главнокомандующему, старшему камергеру и старшей фрейлине и их писарям (Китаб ал-вузара, стр. 324).
949
‘Ариб, стр. 85; Хамадани, Такмилат, л. 186б; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 18а.
950
‘Ариб, стр. 55.
951
Xамадани, Такмилат, л. 186б.
952
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 82.
953
Китаб ал-вузара, стр. 34.
954
Там же, стр. 71.
955
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 77; Kremer, Einnahmebudget, стр. 299.
956
Мискавайх, V, стр. 381. В бюджете на 306/918 г. доход с Фарса определен в сумме 1,5 млн. динаров, что соответствует 18 млн. дирхемов.
957
Kremer, Einnahmebudget, стр. 299; Мукаддаси, стр. 105.
958
Китаб ал-вузара, стр. 346.
959
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 62.
960
Йа‘куби, История, II, стр. 501.
961
Кинди, стр. 140.
962
Dionys. v. Tellmachre, стр. 152.
963
Следует читать: баррада. <Баррада — сосуд из пористой глины для охлаждения воды.— Прим. перев.>
964
Бизз — в значении большая рыба, водившаяся в Евфрате, см.: Sachau, Am Eufrat und Tigris, стр. 61. Другое слово, во всяком случае, означает «заготовленная в масле рыба».
965
Йудалликунаху вместо йузаллилунаху.
966
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 136 и сл.; ZDMG, 40, стр. 41.
967
Арабск. гарра. Отсюда испанская garrucha («дыба»), которая, по свидетельству Ли (Lea), еще в испанской инквизиции была главным орудием пытки, и garrota («веревка»). Выколачивание налогов производилось особыми чиновниками — мустахиссун («вытаскивающие»), труд которых должен был оплачивать сам истязуемый. В одном случае истязуемый получил сразу трех таких чиновников на свою шею и должен был каждому давать по 2 динара в день. В особо каверзных случаях выбирали грубых «вытаскивающих» (Китаб ал-вузара, стр. 233).
968
Китаб ал-вузара, «Введение» Амедроза, стр. 45, прим. 3.
969
Ахмад ибн Йахйа, стр. 52.
970
Мискавайх, V, стр. 230.
971
Китаб ал-вузара, стр. 8 и сл.
972
Там же, стр. 300.
973
Мискавайх, V, стр. 570.
974
Китаб ал-вузара, стр. 121 и сл.
975
Мискавайх, VII, стр. 453 и сл.
976
Китаб ал-вузара, стр. 95. Абу-л-Фарадж «взял на откуп» везира Абу-л-Фадла за 9 млн. дирхемов (Мискавайх, VI, стр. 334), позднее другой «взял его в аренду» в свою очередь за 7 млн. (Мискавайх, VI, стр. 342, 409, 453).
977
‘Ариб, стр. 177; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 43б. Посох и плащ как знаки халифа, см.: Ради, Диван, стр. 313; о том, что плащ считался плащом пророка, см. там же, стр. 543. Подражая халифу, наместник Египта Ихшид, тотчас же надел серебряный кафтан и запретил ношение такового кому бы то ни было (Ибн Са‘ид, стр. 30).
978
Мас‘уди, VIII, стр. 169, 377. Мамлюкские султаны вознамерились в точности; копировать облачение первых халифов, причем облачение это описывается, как состоявшее из: 1) головной повязки, один из кондов которой ниспадал между лопаток; 2) платья (джубба) из черного шелка, с довольно просторными рукавами, без какого бы то ни было шитья; 3) бедуинского меча, который по обыкновению бедуинов носили слева на перевязи, идущей через правое плечо; считалось, что это был меч ‘Омара I (Quatremere, Hist. des Mameloucs, I, стр. 133).
979
Она составляла 200 дирхемов и распределялась среди нуждающихся женщин дворцового квартала (Китаб ал-вузара, стр. 19). Абу-л-Махасин сообщает, будто Ибн Тулун ежедневно жертвовал 1000 динаров милостыни! Многие его цифры, касающиеся эпохи Тулунидов, чистейшая фантазия.
980
Мискавайх, V, стр. 294. Наследник аббасидского престола, а в конце IV/X в. и правители областей имели по два знамени: черный штандарт (райа) и белое знамя (лива). Абу-л-Махасин, II, стр. 34; ‘Ариб, стр. 177; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 43б, 112б, 125б.
981
Абу-л-Махасин, II, стр. 460; Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 128б.
982
Мискавайх, V, стр. 454.
983
Корона (тадж) с драгоценными камнями была, например, на Сайф ад-Даула, правителе Алеппо, во время приема греческого посла в 353/964 г. (Йахйа ибн Са‘ид, л. 94а). Золотые нашейные цепи уже в старом Египте были отличием для воинов (Ebers, ZDMG, 41, стр. 211), и около 300/912 г. цепью награждали победоносных полководцев (‘Ариб, стр. 35). Победитель карматов получил еще к тому же два золотых браслета (там же, стр. 3). Первым наместником, который был одарен на этом посту цепью и двумя браслетами, был, кажется, Ихшид, правитель Египта, которому халиф в 324/935 г. послал их через везира. Базары и улицы Старого Каира были украшены покрывалами, занавесями и коврами; двери соборной мечети были завешаны златотканой парчой. И через все это ехал верхом на коне Ихшид, направляясь на молитву, в сопровождении везира, надев золотую цепь и браслеты (Ибн Са‘ид, изд. Талквиста, стр. 47). Его предшественник Хумаравайхи получил только корону, а цепь — нет (Кинди, стр. 240). Цепь и браслеты оставались знаками отличия для военачальников и при Фатимидах, и все это невзирая на категорический запрет канониками ислама мамоны золотых украшений.
984
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 68б.
985
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 236.
986
Там же, л. 225б.
987
Макризи, Хитат, II, стр. 280, по свидетельству ал-Мусаббихи (ум. 420/1029); Абу-л-Махасин, стр. 258 и сл.; Калкашанди, стр. 173. К пережиткам варварства у Фатимидов относится также и основанный на суеверии обычай возить с собой в походы гробы предков (Ибн Тагрибирди, стр. 10).
988
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 176б, 201б.
989
Там же, л. 114а, 175б, 197б; Ибн ал-Асир, IX, стр. 215.
990
То, что ал-Мустакфи в 334/945 г. наряду с этим титулом взял еще и титул имам ал-хакк — «истинный имам», было лишь ответом на притязания всех шиитских и фатимидских имамов (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 73б; Абу-л-Махасин, II, стр. 308; Führer durch die Ausstellung Rainer, стр. 25).
991
Правители из династии Саманидов носили при жизни иное имя, чем после смерти,— Мукаддаси, стр. 337.
992
Сули, Аурак, стр. 2 и сл.
993
Китаб ал-вузара, стр. 148 и сл. (Хилал, автор Китаб ал-вузара, ум. 447/1055).
994
Самым ранним из этих имен с даула, которые еще и сегодня служат, к примеру, титулами персидских министров, является Вали ад-Даула — «друг династии». Этот титул был присвоен везиру Абу-л-Касиму (ум. 291/903). В 286/899 г. появляется такой же титул и в Египте (Бируни, Хронология, стр. 132 и сл.; Ибн Са‘ид, л. 113б).
995
<Бируни умер в 440/1048 г.— см. Крачковский, Избр. соч., т. IV, стр. 260.— Прим. перев.>
996
Бируни, Хронология, стр. 132 и сл.
997
Там же, стр. 134.
998
Ибн ал-Асир, IX, стр. 92; ‘Али Деде, Китаб ал-ава’ил, л. 89а (по «Та’рих ал-хулафа» Суйути).
999
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 184б.
1000
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 193а; Субки, Табакат, II, стр. 305. Он принадлежал к числу сотрапезников правителя, только что облеченного этим титулом, а после этой истории отошел от его общества. Но правитель велел привести его и заверил, что между ними ничего, мол, не произошло, а его твердость только делает ему честь.
1001
Китаб ал-вузара, стр. 420. Сули (Аурак, стр. 3) выговаривает за то, что эти титулы, а также и титулы халифов вообще называют лакаб — «прозвище», что запрещено Кораном (XLIX, 11).
1002
<Ман — для первых столетий ислама = 812-816,5 г, подробнее см.: Нinz, Islamische Masse, стр. 16-23.— Прим. перев.>
1003
<Мискал = около 4,25 г, применялся для взвешивания золота, серебра и благовоний, см.: Нinz, Islamische Masse, стр. 4-8.— Прим. перев.>
1004
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 184б.
1005
Ибн Тайфур — во многих местах.
1006
Напр., Китаб ал-вузара, стр. 229; ‘Ариб, стр. 176.
1007
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 40.
1008
Ибн Абу Усайби‘а, I, стр. 216.
1009
Михаил Сириец, стр. 517.
1010
Хамадани, Такмилат, л. 201а.
1011
Китаб ал-вузара, стр. 358.
1012
Там же, стр. 357, 423.
1013
«Одиссея», XVII, 35. Так же поступили свинопас Евмей и коровник Филотий в отношении Одиссея (XXI, 224).
1014
Сули, Аурак, стр. 54.
1015
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 56; Мискавайх (V, стр. 124) рассказывает об этом, правда весьма кратко, по традиционной схеме: «и целовали землю».
1016
Китаб ал-фарадж, I, стр. 54.
1017
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 40.
1018
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 116а.
1019
Кинди, Приложение, стр. 598.
1020
Ал-Мусаббихи, см. Кинди, Приложение, стр. 604.
1021
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 150б.
1022
Йахйа ибн Са‘ид, л. 132б.
1023
Макризи, Хитат, II, стр. 36.
1024
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 196. В «Мухадарат ал-удаба», I, стр. 117, это рассказывается о ‘Абд ал-Малике и ал-Хаджжадже.
1025
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 47.
1026
Мухадарат ал-удаба, I, стр. 117, об одном саманидском придворном.
1027
Мас‘уди, VI, стр. 122 и сл.
1028
Уже больше не «рабами» (‘абд), как еще около 300/912 г. называл себя наместник Египта Такин (Китаб ал-‘уйун, IV, л. 125б).
1029
Напр., Саби, Раса’ил (рук.), л. 76б, 90б, 129б.
1030
Напр., Саби, Раса’ил, л. 124б: «Мы довели об этом до сведения повелителя верующих, и нам было объявлено его повеление» и т.д.; там же, л. 202 — Му‘изз ад-Даула обращается к жителям Омана: «Повелитель правоверных, да укрепит его Аллах, поручил нам исполнить его волю и побудил нас к…» и т.д.
1031
Ибн ал-Асир, IX, стр. 41.
1032
Сули, Аурак (рук.), стр. 54.
1033
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 222 и сл.
1034
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 339.
1035
Йахйа ибн Са‘ид, л. 86б; Мискавайх, V, стр. 124.
1036
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 478.
1037
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 117а.
1038
Этих чернокожих, как свидетельствует один, правда, не очень надежный; источник, насчитывалось 4 тыс. человек (Та’рих Багдад, изд. Салмона, стр. 54).
1039
Текст неясен. Я понимаю так, основываясь на Мискавайхе, V, стр. 541; Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 49, 51.
1040
Мискавайх, V, стр. 379.
1041
Абу-л-Мухасин, II, стр. 295.
1042
Там же, стр. 65.
1043
Китаб ал-вузара, стр. 11.
1044
Xваризми, Раса’ил, стр. 137.
1045
Мас‘уди, VII, стр. 276.
1046
‘Ариб, стр. 109; Китаб ал-вузара, стр. 105.
1047
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 132а.
1048
Йа‘куби, История, II, стр. 481.
1049
‘Ариб, стр. 49.
1050
Там же, стр. 47.
1051
‘Ариб, стр. 181; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 131б (счет арабск.). Она умерла тотчас после рождения ал-Кадира; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 66б.
1052
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 49, по данным кади ат-Танухи (ум. 447/1055); Абу-л-Махасин, II, стр. 482. <Год смерти ат-Танухи у А. Меца указан неверно; он умер в 384/994 г.— см.: GAL, I, стр. 155, 156, № 10; стр. 252, 253; EI, IV, стр. 710.— Прим. перев.>
1053
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 51.
1054
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 68б.
1055
Там же, л. 21а.
1056
Мас‘уди, VIII, стр. 102. Ал-Ма’мун как-то развлекался вместе со своими сотрапезниками тем, что каждый должен был сам приготовить какое-нибудь особое блюдо (Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 80а).
1057
Фихрист, стр. 61.
1058
<У А. Меда ошибочно «двое».— Прим. ред.>
1059
<У А. Меца «Бариди». Принято чтение издания ар-Ради.— Прим. ред.>
1060
Сули, Аурак, стр. 11 и сл.
1061
Там же, л. 143 и сл.
1062
Напр., у ал-Васика (227—233/841—847) каждый «сотрапезник» имел свой день в неделю (Китаб ал-агани, III, стр. 184).
1063
Сули, Аурак, стр. 71 и сл.
1064
Мухадарат ал-удаба, I, стр. 121.
1065
Китаб ал-вузара, стр. 351.
1066
Там же, стр. 16-18.
1067
Макризи, Хитат, I, стр. 316.
1068
‘Ариб, стр. 183.
1069
Мискавайх, V, стр. 541.
1070
Там же, стр. 125; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 78б.
1071
Как в 280/893, так и в 330/941 г. расходы на содержание двора, исключая войско, оценивались в 5 тыс. дирхемов ежедневно (Китаб ал-вузара, стр. 10; Китаб ал-‘уйун IV, л. 202а).
1072
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 78б.
1073
Йахйа ибн Са‘ид, л. 86а; Мискавайх, V, стр. 124. Уже когда умер ар-Ради, султан забрал себе те ковры и утварь, которые ему понравились (Ибн ал-Асир, VIII, стр. 276). При смещении везира уже в 299/911 и 318/930 г. его дом подвергался разграблению (Китаб ал-вузара, стр. 29; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 40а).
1074
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 130б; Ибн ал-Асир, IX, стр. 56.
1075
Там же, л. 185аб. <В этой истории халиф взял на себя труд сделать выговор султану за недостойное поведение в саду халифа. Тем самым подразумевалось, что сад его был священным, что халиф имел право порицать султана за его безнравственность.— Проф. Марголиус.— Прим. англ. перев.>
1076
Meц имеет в виду сочинение византийского императора Константина VII Багрянородного (905—959 гг. н.э.) De Ceremonii aulae Byzantinae.— Прим. перев.>
1077
Ибн Кутайба, ‘Уйун ал-ахбар, стр. 271.
1078
Там же, стр. 270.
1079
Калкашанди, Китаб субх ал-а‘ша, стр. 43.
1080
Последнее также и признак благородной лошади.
1081
Глава иудеев (реш галута) был столь благороден, что когда стоял выпрямившись, то кончики его пальцев касались колен. А у Махди из африканских Санусийа они даже достигали земли (М. Hartmann, AfR, I, стр. 266).
1082
Ибн Зафар ал-Макки (505/1170), Китаб анба, л. 16б и сл.
1083
Ибн ал-Факих, стр. 1.
1084
Ибрахим — сын ал-Махди от чернокожей рабыни; он был совершенно черный и такой толстый и рослый, что его прозвали «драконом» (Гузули, Матали‘ ал-будур, I, стр. 13).
1085
Джахиз, Манакиб, стр. 7.
1086
Маварди, стр. 165.
1087
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 115а.
1088
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 49.
1089
Мусаббихи, см. Becker, Beitrage, I, стр. 33.
1090
Саби, Раса’ил, стр. 153.
1091
‘Ариб, стр. 47.
1092
Об Алидах см.: Танухи, Китаб ал-фарадж, II, стр. 43; Йакут, Иршад, I, стр. 256; о Хашимитах — Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 92б. <Сводку материала об употреблении этого термина арабами см. в предисловии к иерусалимскому изданию Ансаб ал-ашраф, т. V, а также в английском издании, т. V, стр. 11.— Прим. nepeв.>
1093
‘Ариб, стр. 49.
1094
См. выше, стр. 63-64. <Зеленый цвет как цвет Алидов был впервые установлен египетским султаном Ша‘баном ибн Хусайном (ум. 778/1376).— Прим. англ. перев.>
1095
Китаб ал-вузара, стр. 20.
1096
Табари, Анналы, III, стр. 969; Китаб ал-‘уйун, стр. 351.
1097
Джахиз, Фусул, л. 207а. Значит, в источнике Табари был добавлен еще один ноль.
1098
Китаб ал-вузара, стр. 20.
1099
Там же.
1100
Йатима, IV, стр. 87, 112.
1101
<Открытое письмо, говорит проф. Марголиус, содержало опровержение притязаний этого человека, как это явствует из Китаб ал-вузара, стр. 421.— Прим. англ. перев.>
1102
Китаб ал-вузара, стр. 421 и сл.; Йатима, IV, стр. 112 и сл.; Ибн ал-Асир, IX, стр. 117 и сл.
1103
Йатима, IV, стр. 94; Ибн ал-Асир, IX, стр. 71.
1104
Мискавайх, VI, стр. З15 и сл.
1105
Кудама (рук.), л. 14а и сл.
1106
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 90б.
1107
Кинди, Приложение, стр. 575.
1108
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 105б, 141б.
1109
Китаб ал-вузара, стр. 421.
1110
Mас‘уди, IX, стр. 69 и сл.
1111
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 129б; Ибн ал-Асир, IX, стр. 54. В Египте, однако, организация паломничества еще оставалась в руках хашимитов. Кинди, Приложение, стр. 475.
1112
Йакут, Иршад, II, стр. 159.
1113
Китаб ал-вузара, стр. 322.
1114
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 74а.
1115
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. 35.
1116
Китаб ал-фарадж.
1117
Йахйа ибн Са‘ид, л. 87а.
1118
Мухадарат ал-удаба, II, стр. 295.
1119
Ибн ал-Хаджжадж, Диван, X, стр. 141.
1120
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 48.
1121
Китаб ал-вузара, стр. 331.
1122
‘Ариб, стр. 75.
1123
Ибн ал-Асир, IX, стр. 110.
1124
Китаб ал-вузара, стр. 331.
1125
Там же, стр. 464; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 147б.
1126
Мукаддаси, стр. 323.
1127
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 6.
1128
Там же, стр. 47.
1129
Snouk-Hurgronje, I, стр. 56 и сл.
1130
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 18.
1131
Там же, стр. 42.
1132
Там же, стр. 25.
1133
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 60а.
1134
Ради, Диван, стр. 210. <Это утверждение основано на заблуждении. Заголовок поэмы в диване Ради (как это имя следует произносить!) только констатирует, что Ради был назначен старейшиной Алидов во всей империи, а до этого он был лишь местным накибом. Кроме того, не соответствует также истине и то, что это был первый случай, когда «одеждой Алидов» стало черное платье. Согласно дивану Ради (стр. 541), он появился в таком платье при дворе халифа в 382 г. Черная одежда означала признание халифской власти, и согласно приказу 382 г., как это подчеркивает Ради, только Аббасиды имели право наследовать пророку.
За это примечание я признателен проф. Марголиусу.— Прим. англ. перев.>
1135
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 158б; Ибн ал-Асир, IX, стр. 170.
1136
Кинди, стр. 440. В 388/998 г. умер ученый ал-Хаттаби, потомок Зайда ибн ал-Хаттаба, брата ‘Омара I (Йакут, Иршад, II, стр. 81).
1137
Кинди, стр. 416.
1138
М. Hartmann, MSOS, 1909, стр. 81.
1139
Йатима, IV, стр. 293 и сл.
1140
К ней относятся, между прочим, и потомки ансаров — первых «помощников» пророка; и у них также был накиб в Багдаде, и благочестивые люди наделяли их пожертвованиями (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 112а; Китаб ал-фарадж, II, стр. 2).
1141
Ибн Xаукал, стр. 207.
1142
Там же, стр. 206.
1143
Са‘алиби, Китаб ал-мирва, л. 129б.
1144
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 6б.
1145
Мас‘уди, I, стр. 377.
1146
Об этом есть стихи, см. Китаб ал-‘уйун, IV, л. 70а.
1147
Джахиз, Манакиб, стр. 15. <См. также: Margoliouth, Arab. Historians, стр. 139.— Прим. англ. перев.>
1148
Йатима, IV, стр. 7 и сл.
1149
У одного туркестанского поэта (йатима, IV, стр. 81).
1150
Ибн Руста, География, стр. 207 и сл.
1151
Напр.: Sachau, Syrische Rechtsbücher, 2, стр. 161. Так, эфиопский мыслитель Зар’а Йа‘куб (ок. 1600 г. н.э.), анализируя ислам и христианство, упрекает первый только за то, что он своим санкционированием работорговли отменяет равенство и братство людей, а ведь все они называют бога своим отцом (Philosophi abessini, стр. 11 перевода).
1152
Sachau, Syrische Rechtsbücher, 2, стр. 166. У мусульманских богословов также существует так называемое изречение Мухаммада: «Самый плохой тот человек, кто торгует людьми» (шарру-н-наси ман ба‘а-н-наса), Китаб ал-‘илал, л. 206б.
1153
Макдиси (изд. и пер. Юара), IV, стр. 38, 46 перевода.
1154
Sachau, Syrische Rechtsbücher, 2, стр. 101 и сл.
1155
Илья из Нисибина (ок. 400 г.х.), I, стр. 179.
1156
По крайней мере первый. О правах таких детей школы законоведов придерживались различных мнений. Точку зрения ханифитов см.: d'Ohsson, VI, стр. 14, 12, шафиитов — Sachau, Muhammedanisches Recht, стр. 173.
1157
Кинди, стр. 338.
1158
Cod. Just., с. I, tit. 9 et 10.
1159
Sachau, Syrische Rechtsbücher, 2, стр. 109, 147.
1160
Между прочим, так и у Sachau, Muhammedanisches Recht, стр. 173.
1161
Китаб ал-агани, III, стр. 55.
1162
Wüstenfeld, Statthalter Ägyptens, IV, стр. 47.
1163
Аджа’иб ал-хинд, стр. 52. Столько же (20 номизм по 12 марок — 240 марок, т.е. около 24 динаров.— Д. Б.) платили в то время в Византии за обычного раба. Vogt, Basile, I, стр. 383. <Номизма, или солид,— золотая монета (4,55 г) была введена в обращение в Византии с 342 г. н.э. императором Константином и существовала до конца империи.— Прим. перев.>
1164
Гузули, Матали‘ ал-будур, I, стр. 196.
1165
Ибн ал-Варди, стр. 46.
1166
Идриси (изд. Дози), стр. 13.
1167
Джахиз, Манакиб, стр. 78.
1168
Сообщение одного китайца в XIII в. н.э. см.: Нirth, Die Lander des Islam, стр. 55.
1169
Китаб ал-агани, V, стр. 6.
1170
Михаил Сириец, стр. 514, где Ибрахим ибн ал-Махди спутан с Ибрахимом ал-Маусили.
1171
Китаб ал-агани, XX, стр. 43.
1172
Абу-л-Касим.
1173
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 88а.
1174
Сули, Аурак, стр. 142.
1175
Истахри, стр. 45.
1176
Йатима, IV, стр. 151.
1177
Мукаддаси, стр. 242. <См. также Roberts, Social Laws of the Qoran, стр. 55, 56.— Прим. англ. neрев.>
1178
Krauß, Talmudische Archäologie, II, стр. 84; Макдиси (изд. и пер. Юара), стр. 38 перевода. Продолжающаяся вплоть до настоящего времени продажа родителями черкешенок-мусульманок недопустима с точки зрения канонического права.
1179
См. гл. 4 — «Христиане и иудеи».
1180
Его собственное сообщение об этом см.: Йакут, Иршад, VI, стр. 299.
1181
Йатима, IV, стр. 116.
1182
Мукаддаси, стр. 325.
1183
Ибн Xаукал, стр. 368.
1184
Запрет венецианского дожа в 960 г. н.э. брать на борт рабов распространялся только на рабов-христиан (Schaube, Handelsgeschichte, стр. 23). Договор, заключенный между Венецией и императором Оттоном Великим в 967 г. н.э., запрещал покупать и продавать в качестве рабов только христиан королевской области (там же, стр. 5). В Генуе еще много позже работорговля была постоянным явлением (там же, стр. 104).
1185
Епископ Агобард Лионский (IX в. н.э.) упоминает в своей книге De insolentia Iudaeorum ряд случаев, когда иудеи похищали у франков-христиан детей или даже получали от христиан детей для продажи и продавали их испанским мусульманам (Opera, ed. Baluzius, t. I, стр. 65 и сл.). У меня это место приведено по кн. Вaudissin, Euloigus und Alvar, стр. 77.
1186
Caro, Wirtschaftsgeschichte, I, стр. 191.
1187
Там же, стр. 192.
1188
<Хур — город в Швейцарии, с 451 г. н.э.— резиденция епископа. См.: Planta. Verfassungsgeschichte.— Прим. перев.>
1189
Sсhaubе, Handelsgeschichte, стр. 93.
1190
Caro, Wirtschaftsgeschichte, I, стр. 191 и сл.
1191
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 260.
1192
Мискавайх, VI, стр. 391.
1193
Kинди, стр. 110.
1194
Ибн Бутлан, л. 135 и сл.
1195
«Негр должен танцевать. Подобно тому как немец, когда какой-нибудь пустяк хоть немного выбьет его из колеи настроения трудового дня, ощущает в себе непреодолимую потребность запеть песню, так и негр при всяком удобном случае принимается за свою нгому».— Weule, Negerleben, стр. 84.
1196
Один поэт IV/X в. превозносит монголоидные глаза тюркского мальчика: «Они слишком узкие для гримировального карандаша» (Йатима, IV, стр. 82).
1197
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 222.
1198
Таухиди, Фи-с-садака, стр. 169.
1199
‘Умара ал-Йамани, стр. 9.
1200
Кинди, стр. 317.
1201
Sасhau, Von den rechtlichen Verhältnissen, стр. 93.
1202
Коран, XXIV, 32.
1203
Мас‘уди, VI, стр. 344.
1204
Михаил Сириец, стр. 543.
1205
Там же, стр. 537.
1206
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 15.
1207
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 142б.
1208
Ма‘алим ат-талхис, берлинск. рук., л. 15б.
1209
Тhа‘alibi, ‘Umad el-mansub, VI, стр. 54. Здесь мы узнаем также, что звали его Рашшаш.
1210
Кушаджим, Диван, стр. 181 и сл.
1211
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. 41.
1212
Кинди, стр. 123.
1213
Meyer, Kulturgeschichtliche Studien, стр. 91.
1214
<Это не подтверждается фактами.— Прим. англ. перев.>
1215
Мутанабби, Диван, стр. 546.
1216
Одиссея, XVII, 322.
1217
Саби, Раса’ил
1218
Китаб ал-фарадж, I, стр. 54.
1219
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 7а.
1220
Эта глава была подвергнута тщательному анализу В. В. Бартольдом в его статье «Ученые мусульманского „ренессанса“».— Прим. перев.>
1221
Ибн Кутайба, стр. 228. <В. В. Бартольд не разделяет точку зрения А. Меда и считает приведенный им текст не характерным. См. Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса», стр. 3, прим. 3.
О термине адаб см. также Крачковский, Афоризмы Ибн ал-Му‘тазза,— Избран. соч., VI, стр. 43-45.— Прим. перев.>
1222
Напр., Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 233. Молодой ал-Газали был очень огорчен, когда один богослов назвал его «юристом» (Субки, Табакат, III, стр. 259).
1223
Макдиси (изд. и пер. Юара), стр. 5.
1224
Мукаддаси, стр. 440.
1225
<Это место кажется путаным и несомненно ошибочно.— Прим. англ. перев.>
1226
Субки, Табакат, III, стр. 91.
1227
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. XVI.
1228
Ибн Тайфур, л. 62а. Даже и в более поздние времена географ Йакут поет панегирик библиотекам Мерва, в которых он проработал 3 года. В то время в городе было основано 12 библиотек общественного пользования (вакф), одна из которых имела около 12 тыс. томов. Администрация этой библиотеки была крайне либеральна, и ученый, не внося залога, постоянно держал у себя дома свыше 200 книг, каждая из которых стоила в среднем по одному динару (Йакут, Словарь, IV, стр. 509 и сл.).
1229
Так сообщает в остальном надежный ал-Мусаббихи (ум. 420/1029), один из современников ‘Азиза (у Макризи, Хитат, I, стр. 408). В отношении последнего числа следует иметь в виду, что цифровые данные менялись от переписчика к переписчику. Живший позднее Ибн ат-Тувайр сообщает даже о том, что к чудесам этой библиотеки относится и то, что она имела 1200 рукописей «Истории» Табари (Макризи, Хитат, I, стр. 409).
1230
Макризи, Хитат, I, стр. 409
1231
Там же.
1232
<Бенедиктбеурен — деревня в Верхней Баварии, бывший монастырь бенедиктинцев, основанный в 733 г.; в XI в.— центр научной деятельности.— Прим. перев.>
1233
Gottlieb, Über mittelalterliche Bibliotheken, стр. 22, 23, 37.
1234
Мукаддаси, стр. 449.
1235
Абу-л-Фида, Анналы, год 255.
1236
Фихрист, стр. 116; Муртада, Гурар ал-фава’ид.
1237
Абу-л-Махасин, II, стр. 79.
1238
Йакут, Иршад, V, стр. 46.
1239
Абу Ну‘айм, Та’рих Исфахан, л. 51б.
1240
Сули — его современник и придворный, см.: ‘Ариб, стр. 121. Сули сам имел большую библиотеку; см.: Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 79б.
1241
Мискавайх, VI, стр. 314; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 431.
1242
Мискавайх, VI, стр. 286 и сл.
1243
Йакут, Иршад, II, стр. 315.
1244
Ибн Башкувал, I, стр. 304 и сл.
1245
Wüstenfeld, Schafiiten, № 335.
1246
Субки, Табакат, II, стр. 230.
1247
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 23б.
1248
‘Ариб, стр. 90 (по Мискавайху).
1249
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 59а.
1250
Маккари, I, стр. 237.
1251
Сули, которому их показывал халиф ал-Муктафи; у Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 39б.
1252
Субки, Табакат, II, стр. 230.
1253
Там же.
1254
Йакут, Иршад, II, стр. 420.
1255
Wüstenfeld, Schafiiten.
1256
Мукаддаси, стр. 413; Фихрист, стр. 139.
1257
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 135а; Абу-л-‘Ала, Письма, стр. XXIV. Библиотека сгорела в 450/1058 г. (Ибн ал-Асир, IX, стр. 247). Книги, принадлежавшие ранее знаменитым мужам, имеют особенно важное значение в литературе по богословию, ибо так создается своего рода цепь передатчиков и одобрение их содержания. Поэтому читатели старательно проставляли свои имена на переплетах книг. У Йакута (Иршад, VI, стр. 359) рассказывается, как библиотекаря этого заведения заставили поверить, будто его книги точат блохи.
1258
Ради, Диван, бейрутское издание, I, стр. 3.
1259
По сведениям земляка и современника Йахйи ибн Са‘ида (л. 108а).
1260
Там же, л. 116а.
1261
Макризи, Хитат, II, стр. 458. <В. В. Бартольд обратил внимание на скромные цифры этого бюджета «дома науки» еще до А. Меца. См. Бартольд, Культура мусульманства, стр. 53.— Прим. переев.>
1262
Мукаддаси, стр. 305. В 314/926 г. однажды Тигр у Мосула замерз, так что можно было ехать по льду на коне. Чтобы отметить это событие, Абу Зикра уселся посреди реки, слушатели расселись вокруг него и записывали его слова (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 31а).
1263
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 31а.
1264
Йакут, Иршад, I, стр. 246 и сл.
1265
Там же, стр. 309.
1266
Wüstenfeld, Schafiiten, № 287; Субки, Табакат, III, стр. 25; Ибн ал-Асир (IX, стр. 183) называет цифру 400.
1267
Навави (изд. Вюстенфельда), стр. 307; Субки, Табакат, II, стр. 170.
1268
Там же, стр. 252.
1269
Hartmann, Chinesisch-Turkestan, стр. 45.
1270
Навави и Субки, там же.
1271
Йакут, Иршад, VI, стр. 436.
1272
Wüstenfeld, Schafiiten, № 365с; Субки, Табакат, II, стр. 257.
1273
Йакут, Иршад, II, стр. 10. Вероятно, поэтому это слово употребляется обычно также и для обозначения шкатулки, коробки. Ср. Dozy.
1274
Суйути, Музхир, I, стр. 30; Gоldziher, SWA, 69, стр. 20.
1275
Ахмад ибн Йахйа, стр. 47.
1276
Суйути, Музхир, I, стр. 30.
1277
Субки, Табакат, III, стр. 259.
1278
Суйути, Музхир, I, стр. 30.
1279
Йакут, Иршад, II, стр. 312.
1280
Ахмад ибн Йахйа, стр. 63. Во времена Хаджжи Халифы, кажется, уже и традиционалисты окончательно отказались от метода диктовки. Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 18, стр. 87.
1281
Фихрист, стр, 76.
1282
<Историк нишапурских ученых ал-Хаким, по мнению А. Меца, умер в 406/1015 г., в других местах даны даты 405/1014 г. (стр. 164) и 406/1015 г. (стр. 165); однако по данным Сам‘ани (GMS, XX, 996), ал-Хаким умер в сафаре 405 / авг. 1014 г. См. Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса», стр. 6, прим. 1.— Прим. перев.>
1283
Субки, Табакат, III, стр. 111, 137. Макризи (Хитат, II, стр. 363) считает, что первым было медресе Байхаки (ум. 404/4002), а Захаби даже называет первым медресе Низам ал-Мулка (Субки, Табакат, III, стр. 137). У Джаухари этого слова мы не находим, а у Хамадани (Раса’ил, стр. 247) оно встречается.
1284
Субки, Табакат, III, стр. 52.
1285
Рибера (Ribera) в интересной статье «Origien del Colegio Nidami de Bagdad» пытается доказать, что медресе первоначально были каррамитским установлением. Однако доказательства отсутствуют.
1286
Субки, Табакат, III, стр. 33. <B. В. Бартольд не согласен с мнением А. Меца о происхождении медресе. См. «Ученые мусульманского „ренессанса“», стр. 6 и прим. 2, 3, 4 и 5.— Прим. перев.>
1287
См. гл. 13 — «Богословие».
1288
Навави, Такриб, стр. 88. Что такой порядок существовал и в IV/X в., показывает приведенный приказ ал-Хатиба: «Он должен прочитать эти формулы громким голосом».
1289
Йакут, Иршад, VI, стр. 282.
1290
Там же, V, стр. 272.
1291
Goldziher, ZDMG, стр. 861. См. также Самарканда (Бустан ал-‘арифин, стр. 10), где один человек говорит: «Я пережил целых 120 сподвижников пророка, но среди них не было ни одного передатчика хадисов, который не хотел бы, чтобы кто-нибудь другой передавал бы их вместо него, и не знал ни одного муфтия, который не желал бы, чтобы кто-нибудь другой выносил за него приговор».
1292
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 17, стр. 196, прим. 2.
1293
Субки, Табакат, II, стр. 161.
1294
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 18, стр. 85 и сл. Марсэ, ссылаясь на Газали, говорит, что Суфйан ас-Саури всегда усаживал бедных в первый ряд.
1295
Йакут, Иршад, VI, стр. 384; Мас‘уди, VIII, стр. 185 и сл.
1296
Йакут, Иршад, II, стр. 312.
1297
Субки, Табакат, III, стр. 312.
1298
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 163а.
1299
Субки, Табакат, II, стр. 257.
1300
Там же, стр. 192.
1301
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 17, стр. 193 и сл.
1302
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 136б.
1303
Субки, Табакат, III, стр. 8.
1304
Та’рих Багдад (изд. Кренкова), стр. 50.
1305
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 137б.
1306
Wüstenfeld, Schafiiten, № 88.
1307
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 18, стр. 84. Более поздние теоретики весьма сурово относились к слепым богословам, некоторые даже считали их совершенно ненадежными в качестве передатчиков хадисов — так сильна была уже привязанность к письму и так далеко отошли от высокой оценки человеческой памяти. Ал-Хатиб изрек такое определение: «Слепого следует приравнять к необразованному зрячему». Там же, стр. 63.
1308
Wüstenfeld, Schafiiten, № 28.
1309
Йакут, Иршад, I, стр. 255.
1310
Китаб ал-вузара, стр. 201 и сл.
1311
<А. Мец делает вывод, что такие пожертвования не были в то время обычными, ссылаясь на «Китаб ал-вузара» Хилала ас-Саби. Однако в том же сочинении Хилала (Китаб ал-вузара, стр. 201 и сл.) и в истории ал-Мискавайхи (GMS, VII, 5, стр. 210) автор мог бы найти дополнительные подробности. См.: Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса», стр. 5, 6 и прим. 5 и 6.— Прим. nepeв.>
1312
Фихрист, стр. 264; Ибн ал-Кифти, стр. 361.
1313
Йатима, III, стр. 319.
1314
Йакут, Иршад VI, стр. 337.
1315
Йатима, IV, стр. 122.
1316
Часто, особенно в маликитских жизнеописаниях, см., например, Дабби, Бугйат ал-муталаммис.
1317
Мукаддаси; Бустан ал-‘арифин; Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 17, стр. 143.
1318
Субки, Табакат, II, стр. 297.
1319
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 87а.
1320
Субки, Табакат, II, стр. 169.
1321
Там же, III, стр. 14.
1322
Йакут, Иршад, I, стр. 141.
1323
Джахиз, Байан, I, стр. 100.
1324
Ибн Кутайба, ‘Уйун ал-ахбар, стр. 93.
1325
Йакут, Иршад, VI, стр. 473.
1326
Ибн Хаукал, стр. 86 и сл.
1327
Тha‘аlibi, ‘Umad el-mansub, VI. По вторникам и пятницам занятий не было (Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. ?1; Абу-л-Касим, LVII. Для более позднего времени: Алиф Ба, I, стр. 208; Ибн ал-Хаджж, Мудхал, II, стр. 168). Дети писали мелом на досках (Мукаддаси, стр. 440). Наказывали ремнем. (Йатима, II, стр. 63).
1328
Джахиз, Байан, I, стр. 154. <В. В. Бартольд («Ученые мусульманского „ренессанса“», стр. 4 и особ. прим. 3) считает, что А. Мец неверно понимает слова Джахиза.— Прим. nepeв.>
1329
Йакут, Иршад, I, стр. 122.
1330
Там же, I, стр. 144.
1331
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 125б.
1332
Байхаки, стр. 620.
1333
Фихрист, стр. 51.
1334
Wüstenfeld, Schafiiten, № 92.
1335
Абу-л-Фида, Анналы, год 339. <По мнению В. В. Бартольда, данные Абу-л-Хасана Байхаки (1106/1169—70) могли бы дополнить книгу А. Меца. См. Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса», стр. 5 и прим. 1, а также прим. 3 и 4.— Прим. nepeв.>
1336
Субки, Табакат, II, стр. 168.
1337
Там же, III, стр. 66.
1338
Там же, II, стр. 222.
1339
Там же, II, стр. 102.
1340
Там же, III, стр. 297.
1341
Абу-л-Фида, Анналы, год. 345.
1342
Йакут, Иршад, II, стр. 9.
1343
Wüstenfeld, Schafiiten, № 316. Одного ученого (ум. 356/966), пользовавшегося при дворе в Бухаре большим уважением, «чем везир», уже называли «великий наставник» (шайх джалил) (Субки, Табакат, II, стр. 86).
1344
Субки, Табакат, III, стр. 47, 117.
1345
Йакут, Иршад, II, стр. 149.
1346
Там же, VI, стр. 209.
1347
Ибн Халликан (изд. Вюстенфельда), № 49, I, стр. 65.
1348
Йакут, Иршад, II, стр. 269.
1349
<Ср. мнение В. В. Бартольда: «Ученые мусульманского „ренессанса“», стр. 7 и сл.— Прим. перев.>
1350
Напр., Ибн Xазм, Милал, II, стр. 111.
1351
Мукаддаси, стр. 37.
1352
Там же, стр. 38; Ахмад ибн Йахйа, стр. 63.
1353
Мукаддаси, стр. 439.
1354
Макки, Кут ал-кулуб, стр. 141.
1355
Gоldziher, Zahiriten, стр. 128.
1356
Amedroz, JRAS, 1912, стр. 554.
1357
Китаб ат-тавасин, стр. 73.
1358
Там же, стр. 30.
1359
Там же, стр. 195.
1360
См. гл. 19 — «Религия».
1361
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 3.
1362
Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 190 и сл. И все же Навави называет нескольких ученых, которые уже в II/VIII в. считали законной письменную передачу хадисов; даже канонические сборники хадисов довольно часто дают примеры передачи такого рода (JA, 1901, стр. 226).
1363
Суйути, Хусн ал-мухадара, I, стр. 164.
1364
3аркани, I, стр. 230; Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 180.
1365
Субки, Табакат, II, стр. 14.
1366
Там же, III, стр. 114.
1367
<О жизни и сочинениях Газали см. М. Bouyges, Essai de chronologie.— Прим. перев.>
1368
Та’рих Багдад (изд. Кренкова), стр. 71.
1369
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 36а; Субки, Табакат, II, стр. 230.
1370
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 72б.
1371
Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 200.
1372
Суккардан ас-султан, стр. 185.
1373
Субки, Табакат, III, стр. 66 и сл.
1374
Йакут, Иршад, I, стр. 247. У знаменитой Каруны из Мерва, которая упоминается также у Ибн Башкувала (I, стр. 133).
1375
Йакут, Иршад, II, стр. 408. Новые сахихи писали главным образом ученики Муслима, например Абу Хамид (ум. 325/936) и Абу Са‘ид (ум. 353/964). Субки, Табакат, II, стр. 97 и сл.
1376
Goldziher, Muh. Studien, III, стр. 257, 273. Преемники Даракутни названы у Навави в комментарии к «Сахиху» Муслима (см. Навави, I, стр. 17).
1377
Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 241; Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 18, стр. 115 и сл.
1378
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 16, стр. 321.
1379
Считается, что это требование впервые было выдвинуто Шафи‘и (ум. 204) (Ибн ‘Абд ал-Барр, ум. 463 — см. там же).
1380
Субки, Табакат, I, стр. 173.
1381
Йакут, Иршад, I, стр. 248.
1382
Субки, Табакат, II, стр. 83.
1383
Йакут, Иршад, I, стр. 249.
1384
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 18, стр. 433.
1385
Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 207.
1386
Китаб ал-вузара, стр. 202.
1387
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 18, стр. 123.
1388
Там же, 17, стр. 146; Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 142.
1389
Marçais, Taqrib de en-Nawawi, 16, стр. 330 и сл. На виды (анва‘) делил изложение уже Ибн Хиббан (ум. 354), там же, стр. 487, прим. 1.
1390
Там же, 17, стр. 528.
1391
Мукаддаси, стр. 41.
1392
Ибн Муджахид ум. в 334/945 г. Он имел окладистую бороду и крупный череп. В народе жила вера, будто он и в могиле продолжает читать Коран (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 56а).
1393
Сули, Аурак, стр. 52; Фихрист, стр. 31; Йакут, Иршад, VI, стр. 300 и сл.; Nöldеkе, Gesch. d. Korans, стр. 274.
1394
Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 31; Мискавайх, V, стр. 447; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 54а.
1395
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 96а; Йакут, Иршад, VI, стр. 499.
1396
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 152б; Субки, Табакат, III, стр. 26.
1397
Nöldеkе, Gesch. d. Korans, стр. 275; Фихрист, стр. 31 и сл.; Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 73.
1398
Nöldеkе, Gesch. d. Korans, стр. 299. О различиях семи школ чтения Корана писал один египетский богослов, умерший в 333/944 г.; другой его земляк, умерший в 401/1010 г., писал о восьми школах. Суйути, Хусн ал-мухадара, I, стр. 232, 234.
1399
Табари, Тафсир, стр. 30.
1400
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 74 и сл.
1401
Суйути, Музхир, II, стр. 204 (Goldziher, SBAW, Wien, 72, стр. 630).
1402
Табари, Тафсир, I, стр. 26.
1403
Там же, стр. 27.
1404
Например, Табари, Тафсир, I, стр. 58, где идет речь о предопределении.
1405
Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 30.
1406
Там же, стр. 2.
1407
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 75 и сл. Насколько сам Самарканди следовал этим взглядам в своем собственном комментарии к Корану, сохранившемся еще в рукописи, мне не удалось усмотреть.
1408
Аш‘ари, стр. 128.
1409
Goldziher, ZDMG, 41, стр. 59 — на основании Ибн Халдуна (см. Hist. Berb., I, стр. 299).
1410
Ахмад ибн Йахйа, стр. 65; Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 28.
1411
Фихрист, стр. 33; Йакут, Иршад, VI, стр. 496.
1412
Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 30.
1413
Суйути, Хусн ал-мухадара, I, стр. 233.
1414
Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 19; Субки (Tабакат, III, стр. 230) говорит даже о 700 томах.
1415
Sujuti, De Interpretibus Corani, стр. 22. В му‘тазилитском комментарии их враг Ибн Кутайба смог придраться только к мелочам (Мухталиф ал-хадис, стр. 80 и сл.).
1416
Gоldziher, Zahiriten, стр. 132.
1417
Коран, II, 63.
1418
Коран, IV, 54.
1419
Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис, стр. 84 и сл.
1420
Йакут, Иршад, I, стр. 148. Этого сочинения нет в «Фихристе».
1421
Фихрист, стр. 138.
1422
Goldziher, Zahiriten, стр. 134.
1423
Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 5. Еще Абу Раджа (ум. 335/946) написал поэму в 30 тыс. бейтов на тему истории Вселенной и истории пророков (Абу-л-Махасин, II, стр. 319; Субки, Табакат, II, стр. 108).
1424
Макдиси (иэд. и пер. Юара), I, стр. 4.
1425
Там же, III, стр. 20.
1426
Там же, IV, стр. 113.
1427
Там же, III, стр. 19.
1428
Там же, стр. 22. Ко всему, этому разделу см.: Huart, Le rationalisme musulmane.
1429
Макдиси (изд. и пер. Юара), IV, стр. 44.
1430
Там же, III, стр. 56.
1431
Там же, стр. 189.
1432
Коран, XXXIV, 11.
1433
Коран, XXVII, 20.
1434
Коран, XXVII, 18.
1435
Макдиси (изд. и пер. Юара), IV, стр. 112 и сл.
1436
Там же, стр. 163.
1437
Там же, III, стр. 14.
1438
Там же, стр. 116.
1439
Там же, стр. 164.
1440
<У Меца (стр. 192) «должен умереть в начале своего века», хотя по смыслу явно подразумевается «родиться».— Прим. перев.>
1441
Goldziher, Zur Charakteristik es-Sujutis, стр. 8 и сл. Существовали различные точки зрения в вопросе, бывает ли только один «обновитель» для каждого века или по одному на каждую науку. Захаби придерживался последнего суждения и во главу IV в. ставил Ибн Сурайджа в области права, Аш‘ари в богословии (усул ад-дин) и Наса’и и в области предания (xaдис) (Субки, Табакат, II, стр. 89).
1442
Ибн Xазм, Милал, II, стр. 111.
1443
Макдиси (изд. и пер. Юара), I, стр. 13.
1444
Ахмад ибн Йахйа, стр. 63.
1445
Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 74.
1446
Аш‘ари, стр. 87.
1447
Ахмад ибн Йахйа, стр. 26 и сл.
1448
Там же, стр. 53 и сл.
1449
Там же, стр. 61 и сл.
1450
Там же, стр. 5 и сл.
1451
Йатима, IV, стр. 120.
1452
Ибн Xазм, Милал, IV, стр. 197.
1453
Там же, стр. 112. Эти немногие, которые продолжали глодать старую кость свободной воли, назывались «кадаритами». Значение этого наименования нелегко передать. Уже для Ибн Кутайбы (Мухталиф ал-хадис, стр. 98) кадариты были приверженцами учения о свободе воли, теми, «кто сами себе приписывают власть» и являются противниками джабриййи. Однако это всего лишь lucus a non lucendo. <Quntilian, De institutione oratoria, I, 6, 34 — выражение для обозначения бессмысленной этимологии.— Прим. перев.>
В давние времена это были действительно представители учения о предопределении (кадар), которых так и называли. Передают, что Зайд ибн ‘Ади остерегался кадаритов, «которые грехи свои подбрасывают Аллаху» (Ахмад ибн Йахйа, стр. 12). В III в. они учили, строго говоря, что Аллах творит добро, а дьявол — зло (Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис, стр. 5; Аш‘ари, стр. 131). Из-за этого дуализма их называли «зороастрийцами в исламе» (Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис, стр. 96) и рассказывали о них старые истории: некий кадарит порекомендовал иноверцу принять ислам; тот, однако, объяснил, что хочет подождать, пока этого пожелает Аллах, на что кадарит возразил: «Аллах уже давно желает этого, но вот дьявол тебя не пускает». Тогда христианин (или иудей) ответил: «Ну, так я, пожалуй, буду держаться более сильного!» (Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис, стр. 99). Из-за того же дуализма ортодоксы назвали тогда «кадаритами» приверженцев свободы воли, в то время как те с более обоснованным этимологически правом называли так ортодоксов, например Бухари (Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис, стр. 97; Ибн Хазм, Милал, I, стр. 54). Еще в IV/X в. Мукаддаси называет кадаритство учением, близким к му‘тазилитам (стр. 37); Аш‘ари (стр. 131) также ставит рядом му‘тазилитов и кадаритов — ахл ал-кадар. Однако всякий рассудительный человек не будет отрицать существующего между ними различия, говорит Мукаддаси (стр. 38), но сообщает тут же, что кадариты уже почти полностью растворились в гуще более крупной партии (стр. 38). Еще около 400/1010 г. один из известнейших в то время му‘тазилитов — кади г. Рея ‘Абд ал-Джаббар пытался избавить свою школу от этого названия и доказать, разумеется при помощи изречений пророка, что под кадаритами следует понимать ортодоксальных фаталистов (Schreiner, ZDMG, 52, стр. 509 и сл.).
1454
Horowitz, Über den Einfluß.
1455
Becker, ZA, 26, стр. 175 и сл.
1456
Бухари, Китаб ат-таухид, цит. по Goldziher, Zahiriten, стр. 145, прим. 1.
1457
Мукаддаси, стр. 41.
1458
Йатима, III, стр. 106.
1459
Источники сообщают, что ко времени их расцвета Раффал (ум. 335 или 365) сочинил первые книги по искусству ведения диспута (джадал) (Абу-л-Махасин, II, стр. 321).
1460
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 15.
1461
Xваризми, Раса’ил, стр. 63.
1462
Джахиз, Хайаван, IV, стр. 109.
1463
Goldziher, Kitab ma‘ani, стр. 13 и сл.
1464
Goldziher, ZDMG, 62, стр. 2 и сл. Схоласты же, напротив, рассказывают, как некоего софиста, объяснявшего, что все есть воображение (хайалат), отделил один из их собратьев (Ахмад ибн Йахйа, стр. 51).
1465
Йакут, Иршад, I, стр. 148.
1466
Там же.
1467
Там же, стр. 142.
1468
Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис, стр. 71 и сл,
1469
Там же, стр. 60.
1470
Аш‘ари, стр. 46. Их ближайшими предшественниками среди диалектиков были каллабиты, которые скоро растворились в рядах аш‘аритов; их осуждали за упрямую приверженность вере в предопределение (Мукаддаси, стр. 37, где следует читать ли джабр).
1471
Аш‘ари, стр. 133.
1472
Там же, стр. 111.
1473
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 71б.
1474
Schreiner, Aš‘aritenthum, I, 1, стр. 82,— на основании Ибн Халдуна.
1475
Ахмад ибн Йахйа.
1476
Ибн ал-Асир, IX, стр. 77.
1477
Два особенно характерных случая см.: Gоldziher, ZDMG, 62, стр. 8.
1478
Макризи, Хитат, I, стр. 358.
1479
«Он обычно был несправедлив к ханбалитам» (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 118б).
1480
Gоldziher, ZDMG, 62, стр. 9 и сл.
1481
Аш‘ари, стр. 111.
1482
Субки, Табакат, III, стр. 117.
1483
Там же, стр. 54.
1484
Ибн Xазм, Милал, IV, стр. 204.
1485
Gоldziher, ZDMG, 41, стр. 30 и сл.
1486
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 165б.
1487
Коран, LIX, 10.
1488
Коран, XV, 47.
1489
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 195б.
1490
Мас‘уди, I, стр. 156; Фихрист, стр. 177.
1491
Мас‘уди, I, стр. 200 и сл.
1492
Фихрист, стр. 92, 24.
1493
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 102.
1494
Субки, Табакат, III, стр. 239.
1495
Бируни, Индия (англ. пер. Захау), I, стр. 7.
1496
Йакут, Иршад, III, стр. 343. Gоldziher, SBAW Wien, 73, стр. 552. <Cp. также Бартольд, Туркестан, стр. 462.— Прим. перев.>
1497
Snouck-Hurgronje, RHR, 37, стр. 176.
1498
Мукаддаси, стр. 179, 395, 439, 481.
1499
Фихрист, стр. 225 и сл.; Мукаддаси, стр. 37.
1500
Субки, Табакат, III, стр. 307.
1501
Мукаддаси, стр. 87.
1502
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, под годом 310, согласно Сабиту ибн Синану; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 98, согласно Миcкавайху; Wüstenfeld, Schafiiten, № 80.
1503
Согласно Газали, около 500/1107 г. (Табари, Ихтилаф, стр. 14).
1504
О датах см.: Fagnan, Les tabakat malekites, стр. 108.
1505
Абу-л-Махacин, II, стр. 347.
1506
Мукаддаси, стр. 179.
1507
Там же, стр. 144.
1508
Там же, стр. 37, 395.
1509
Ибн Тагрибирди, стр. 126.
1510
‘Умдат ал-‘арифид — см. Табари, Ихтилаф, стр. 14. Как раз в вопросах многих неясностей в хадисах отряд традиционалистов был очень пестрым по своему составу.
1511
Goldziher, Zahiriten, стр. 110.
1512
Мукаддаси, стр. 439.
1513
Xваризми, Мафатих ал-‘улум, стр. 8.
1514
Мукаддаси, стр. 41.
1515
<Школа эта называлась джаририййа, по имени отца ат-Табари.— Прим. перев.>
1516
Wüstenfeld, Schafiiten, № 80. Ибн Тагрибирди под годом 410 называет одного юриста, умершего в 410/1019 г., который придерживался направления Табари. Полемическое сочинение против Табари написал, между прочим, умерший в 347/958 г. египетский кади ал-Хасиби (Кинди, Приложение, стр. 577).
1517
Йакут, Иршад, II, стр. 18.
1518
Кинди, стр. 528; Субки, Табакат, II, стр. 303.
1519
Суйути, Хусн ал-мухадара, I, стр. 228.
1520
Хваризми, Раса’ил, стр. 63; Мукаддаси ничего не говорит об этом.
1521
Субки, Табакат, I, стр. 174.
1522
Мукаддаси, стр. 127.
1523
Субки, Табакат, II, стр. 244.
1524
В Шаше, на крайнем севере империи, это учение было введено одним ученым, умершим в 305/978 г.(Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 36). В Кермане уже в то время большинство придерживалось этого течения (Мукаддаси, стр. 482).
1525
Кинди, стр. 519; Субки, Табакат, II, стр. 174; Суйути, Хусн ал-мухадара, I, стр. 186. Об исключениях см. там же, стр. 203.
1526
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 24.
1527
Мукаддаси, стр. 202, 203.
1528
Суйути, Хусн ал-мухадара, I, стр. 212.
1529
Макризи, Хитат, I, стр. 341.
1530
Goldziher, Le livre de Ibn Toumert, стр. 23.
1531
Мукаддаси, стр. 236.
1532
Китаб ал-вузара, стр. 335.
1533
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 230.
1534
Мукаддаси, стр. 41.
1535
Там же, стр. 366.
1536
Йакут, Иршад, II, стр. 7.
1537
Мукаддаси, стр. 203.
1538
Там же, стр. 127.
1539
См. приведенные у Снук-Хургронье выдержки из Ибн ал-Асира (Snouk-Hurgronje, RHR, 39, стр. 178).
1540
Wellhausen, Oppositionsparteien, стр. 78.
1541
Кинди, стр. 328, 356, 427.
1542
Там же, стр. 367; другой случай — там же, стр. 427.
1543
Йа‘куби, История, II, стр. 468.
1544
Кади Египта, назначенный в 155/772 г. Мансуром, -был первым кади этой страны, который отправлял свою должность непосредственно от имени халифа (Кинди, стр. 368). В Медину же лишь при Махди прибыл первый кади, направленный халифом (Йа'куби, История, II, -стр. 484). Версия о том, что и в староисламский период судьи назначались самими халифами, подозрительна и похожа на искусственное построение, как и версия с письмами ‘Омара к кади и чиновникам.
1545
Кинди, стр. 444.
1546
Мас‘уди, VIII, стр. 378.
1547
Субки, Табакат, II, стр. 113 и сл.
1548
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 141б; Ибн ал-Асир, IX, стр. 129.
1549
Gottheil, The Cadi, стр. 7, прим. 3.
1550
Кинди, стр. 388. Тогда же были предприняты единственные две попытки сделать кади одновременно и правителем провинций: произошло это с умершим в 213 г. испанским кади Асадом и с Шариком ибн ‘Абдаллахом при Махди (158— 109/775—785), (Китаб ал-‘уйун, IV, стр. 372).
1551
Wüstenfeld, Schafiiten, № 91.
1552
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 101; Кинди, Приложение, стр. 528. Аналогичную историю рассказывают также и о везире Ибн ‘Аббаде: однажды кади Багдада не спешил подняться перед ним, а везир, увидав это, подал ему руку, как бы желая помочь кади подняться (Йакут, Иршад, II, стр. 339). Однако эта история рассказывается также и о другом.
1553
Субки, Табакат, II, стр. 302 и сл.; Кинди, Приложение, стр. 528.
1554
Субки, Табакат, II, стр. 306.
1555
Там же, III, стр. 26; Wüstenfeld, Schafiiten, № 287.
1556
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 7б.
1557
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 38.
1558
Кинди, стр. 302.
1559
Там же, стр. 315.
1560
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 30. По-иному излагается эта история в Кашф ал-махджуб, стр. 93.
1561
Ибн Xалликан, № 834.
1562
Та’рих Багдад (изд. Кренкова), стр. 54.
1563
Ибн Халликан, № 290.
1564
Еще примеры см. Amedroz, JRAS, 1910, стр. 775.
1565
Макки, Кут ал-кулуб, I, етр. 157.
1566
Wüstenfeld, Schafiiten, № 81. Передают, что нечто подобное произошло с Ибн Шурайджем (ум. 306/918), который до того уже был кади Шираза (Субки, Табакат, II, стр. 92). Согласно Субки (Табакат, II, стр. 213), домашний арест Ибн Хайрана был лишь хитростью и произведенное им впечатление принесло плоды. По рассказу египетского историка Ибн Зулака (ум. 387/998), люди смотрели на запечатанную дверь и указывали на нее своим детям (Субки, Табакат, II, стр. 244).
1567
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 118а.
1568
Ибн Тагрибирди, стр. 103; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 159а; Ибн ал-Асир, IX, стр. 149.
1569
Gotthеil, The Cadi, стр. 8.
1570
Китаб адаб ал-кади, л. 25а.
1571
Кинди, стр. 317.
1572
Там же, стр. 354.
1573
Там же, стр. 317.
1574
Там же, стр. 331.
1575
Там же, стр. 352.
1576
Там же, стр. 363.
1577
Там же, стр. 369.
1578
Там же, стр. 378.
1579
Там же, стр. 421. На стр. 435 говорится, что он получал 163 динара, а на стр. 507, что его преемник получал от Мутаваккила тоже 168 динаров.
1580
Там же, стр. 435. Впрочем, эта сумма приводится с небольшими расхождениями. Субки (Табакат, II, стр. 302) сообщает по данным Ибн Зулака (ум. 386/988), что кади Египта Харбавайхи, оставивший свой пост в 321/933 г., получал лишь 20 динаров в месяц, что опять-таки соответствовало бы старому положению.
1581
Мас‘уди, VIII, стр. 189 и сл.
1582
Кинди, стр. 597.
1583
Насир-и Хусрау, стр. 161.
1584
Кинди, стр. 613; 50 тыс., названные на стр. 499, следует рассматривать как сумму, включающую и незаконно приобретенное. Бюджет Фатимидов (см. Макризи, Хитат, I, стр. 398) предусматривал для кади лишь 100 динаров в месяц.
1585
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 115.
1586
Нuart, Calligr., стр. 77.
1587
Та’рих Багдад (изд. Кренкова), стр. 54.
1588
Кинди, Приложение, стр. 673; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 105б; вариант см.: Субки, Табакат, III, стр. 84.
1589
Йакут, Иршад, V, стр. 302.
1590
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 75а.
1591
Мискавайх, VI, стр. 257.
1592
Ибн Халликан, № 306.
1593
Субки, Табакат, III, стр. 84.
1594
Ибн Башкувал, I, стр. 60.
1595
Petermann, Reisen im Orient, стр. 98.
1596
RMM, XIII, стр. 517. <См. также: Burton, East Africa, I, стр. 88.— Прим. англ. перев.>
1597
Мискавайх, VI, стр. 249.
1598
Ибн Хамдун, Тазкира — см. Amedroz, JRAS, 1910, стр. 783. Любовь к мальчикам вообще считалась пороком, присущим сословию кади (Йатима, II, стр. 288; Мухадарат ал-удаба, I, стр. 125 и сл.; Мустатраф, II, стр. 199). Верховный кади Ма’муна был известный педераст; Бухтури упрекает верховного кади Ибн Абу-ш-Шавариба в этом же пороке (Диван, II, стр. 175).
1599
Мискавайх, VI, стр. 249; 257; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 399, 407.
1600
Кинди, стр. 346.
1601
Там же, стр. 355.
1602
Кинди, Приложение, стр. 595.
1603
См. выше, стр. 103.
1604
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 157б. В полицейской тюрьме он велел освободить мелких и раскаявшихся преступников.
1605
Xассаф (ум. 261/874), Китаб адаб ал-кади, л. 9а.
1606
Байхаки, стр. 533.
1607
Напр., Китаб ал-агани, X, стр. 123.
1608
Кинди, стр. 351.
1609
Там же, стр. 428.
1610
Там же, стр. 443.
1611
Абу-л-Махасин, II, стр. 86.
1612
Субки, Табакат, II, стр. 194.
1613
Там же, стр. 113.
1614
Там же, III, стр. 59.
1615
Kremer, ZDMG, 30, стр. 49.
1616
Kremer, ZDMG, 31, стр. 478.
1617
Макризи, Хитат, I, стр. 403 и сл.
1618
Кинди, стр. 356.
1619
Там же, стр. 357.
1620
Байхаки, стр. 533.
1621
Кинди, стр. 392.
1622
Китаб адаб ал-кади, л. 22а.
1623
de Sасу, Religion des druzes, стр. CDXXVIII.
1624
Кинди, стр. 378.
1625
Там же, стр. 469. Кади Кордовы во времена халифа ал-Хакама сидел на судебном заседании вырядившись, как щеголь,— в желтоватом плаще, с расчесанными на пробор волосами (Ахбар маджмуа, стр. 127; Байан ал-мугриб, стр. 128).
1626
Китаб ал-агани, X, стр. 123; Йакут, Иршад, I, стр. 373; VI, стр. 209; Хамадани, Раса’ил, стр. 168; Кинди, Приложение, стр. 586.
1627
Йакут, Иршад, I, стр. 92.
1628
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 81а.
1629
Захаби, Та’рих ал-ислам, стр. 669, прим. 1. В первой половине IV/X в. египетские кади, должно быть, носили голубые повязки (Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 131а). И в Багдаде один кади около 400/1009 также носил такую голубую повязку (Йакут, Иршад, I, стр. 261). Заседатели также носили высокие черные шапки; один поэт IV/X в. издевался: на их шапках-горшках сидит ворон Ноя без крыльев (Мухадарат ал-удаба, I, стр. 129).
1630
Кинди, Приложение, стр. 589, 596, 597.
1631
Там же, стр. 574; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 105б.
1632
Кинди, стр. 361.
1633
Там же, стр. 384.
1634
Там же, стр. 394.
1635
Там же, стр. 396.
1636
Там же, стр. 402.
1637
Там же, стр. 422.
1638
Там же, стр. 437.
1639
Кудама (рук.), л. 12б.
1640
Ибн ал-Асир, IX, стр. 15.
1641
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), л. 124а; Кинди, Приложение, стр. 612.
1642
Маварди, стр. 128.
1643
Кинди, Приложение, стр. 545.
1644
Там же, стр. 552, 560, 569, 590.
1645
Amеdroz, JRAS, 1910, стр. 779 и сл.— по парижской рукописи Китаб нишвар Танухи. См. также Саби, Раса’ил, стр. 122. Заместителей свидетелей на 327/939 г. Кинди (стр. 488) называет «свидетелями (шухуд), которые их заменяют»; Мас‘уди, писавший в Египте, говорит в 333/944 г. о шухудах Багдада (VIII, стр. 378). На Востоке и в Магрибе во второй половине IV/X в. судебных заседателей называли ‘удул (напр., Йатима, III, стр. 233; Мискавайх, V, во многих местах; Dozy — под этим словом; Ибн Халдун, Китаб ал-‘ибар, пер. де Слэна, стр. 456). Этот термин удержался в Марокко до настоящего времени (RMM, XIII, стр. 517 и сл.). Свидетели от случая к случаю называются теперь маусумин би-л-‘адала (Кинди, стр. 422; Саби, Раса’ил, стр. 122).
1646
Кинди, Приложение, стр. 549; Amеdroz, JRAS, 1910, стр. 783 — согласно Ибн Хаджару, л. 128а.
1647
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 63а, берлинск. рук., л. 134; Amеdroz, JRAS, 1910, стр. 779 и сл. по Раф‘ ал-‘иср и по 3ахаби.
1648
Раф‘ ал-‘иср, см.: Кинди, стр. 596.
1649
Махасин ат-тиджара, стр. 36.
1650
Mакризи, Хитат, I, стр. 333.
1651
Передают, что первым из носивших этот титул, был кади Харуна ар-Рашида Абу Йусуф. Этот халиф присвоил такой титул всем кади наиболее важных провинций (Макризи, Хитат, I, стр. 333). Верховный кади Ма’муна, должен был подвергать экзамену всех судей (Ибн Тайфур, I, л. 100а). Он задавал им вопросы о родстве из права о наследовании, этой наиболее изобилующей камнями преткновения области мусульманского права (Ибн Кутайба, ‘Уйун ал-ахбар, стр. 86). Иметь четырех верховных кади — по одному для каждой юридической школы — стало необходимым лишь в эпоху поздних крестовых походов (Кашф ал-мамалик, стр. 92). В Дамаске четыре кади были назначены Байбарсом в 664/1266 г. (Субки, Табакат, II, стр. 174).
1652
Саби, Раса’ил, стр. 115 и сл. В начале IV/X в. некий кади расторг брак одной девственницы из-за того, что ее отец не опросил ее согласия. Однако испрашивать согласие необходимо лишь у лишенной девственности, и поэтому ученые оспаривали приговор кади (Кинди, Приложение, стр. 566).
1653
Amedroz, JRAS, 1910, стр. 780 — на основании лондонск. рукописи Тазкира Ибн Хамдуна; также Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 174б.
1654
Ибн ал-Балхи, стр. 14 и сл.
1655
Gottheil, JAOS, 1906, стр. 217 и сл.
1656
Китаб-ал-вузара, стр. 157.
1657
Йакут, Иршад, II, стр. 314.
1658
Мас‘уди, IX, стр. 77.
1659
Калкашанди, стр. 184.
1660
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 105б.
1661
Макризи, Хитат, II, стр. 207. С чувством благодарности я имею возможность воспользоваться в данном случае работой Амедроза: Amedroz, JRAS, 1911, стр. 635 и сл.
1662
Для Туркестана см.: Schwarz, Turkestan, стр. 210. Для Египта времени Мухаммад ‘Али см.: Lane, Manners and Customs, Ch. IX (начало). Для Мекки: Snouck-Hurgronje, I, стр. 182.
1663
Amedroz, JRAS, 1911, стр. 664.
1664
В Египте — назначенный в 324/936 г. Ихшидом кади (Субки, Табакат, II, стр. 113). В 331 г. был даже свой собственный кади для мазалим (Кинди, Приложение, стр. 572). О Багдаде в 394/1004 г.— Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 149б. В Ахвазе около 317/929 г. кади ат-Танухи; см. Йакут, Иршад, V, стр. 332. Даже если дело обстояло и не так, то акты поступали на оформление к кади (Китаб ал-вузара, стр. 151).
1665
‘Ариб, стр. 50; Йакут, Иршад, V, стр. 332.
1666
‘Ариб, стр. 71.
1667
Зубдат ал-фикра, л. 186а.
1668
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 205.
1669
Китаб ал-вузара, стр. 107.
1670
Amedroz, JRAS, 1910, стр. 793 — согласно парижской рукописи Ar. 2149 л. 60; ср. JRAS, 1911, стр. 663; Кинди, Приложение, стр. 499, 613.
1671
Кинди, Приложение, стр. 512.
1672
Там же, стр. 584.
1673
Там же, стр. 591.
1674
Там же, стр. 604.
1675
Китаб ал-вузара, стр. 52, 107. Каждую неделю председателю дворцового суда должны были представлять выписку всех поступивших жалоб (Кудама, рук., л. 236).
1676
Кинди, Приложение, стр. 511.
1677
Такие определения Тахира см.: Ибн Тайфур, л. 506; Ма’муна — у Байхаки, стр. 534 и сл.; Сахиба ибн ‘Аббада — у Са‘алиби, Хасс ал-хасс, стр. 73.
1678
Йешу Стилит, стр. 29.
1679
Маварди, стр. 143.
1680
Макризи, Хитат, II, стр. 207.
1681
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 39.
1682
Кинди, Приложение, стр. 577.
1683
Макризи, Хитат, II, стр. 207 — на основании Маварди. Там в качестве дня судебного заседания Ихшида и его сына указана суббота. Краткий исторический обзор Макризи заимствован (исключая местные египетские данные) у Маварди, стр. 131.
1684
Мас‘уди, VIII, стр. 2.
1685
Байхаки, стр. 577. Эту цитату я взял из работы Амедроза (Amedroz, JRAS, 1911, стр. 636), который перевел там главу из Маварди об этом суде.
1686
Amedroz, JRAS, 1911, стр. 657.
1687
Китаб ал-вузара, стр. 22.
1688
Там же.
1689
‘Ариб, стр. 71; Абу-л-Махасин, II, стр. 203. В то время еще не существовало единого мнения, имеет ли женщина право быть судьей; во всяком случае знаменитый Табари высказывался за допущение женщин (Маварди, стр. 107). Позднее непременным условием для этой должности являлось, чтобы кади был мужчиной. Что касается придворного суда, то об этом требовании нигде не упоминается.
1690
Маварди, стр. 141 и сл.
1691
<Выражение из «Фауста» Гёте: «Теория, мой друг, сера, а древо жизни вечно зеленеет».— Прим. перев.>
1692
См. гл. 20 — «Нравы». <По вопросам мусульманского права см. также Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence; J. Schacht, An introduction to Islamic law, Oxford, 1964; E. Tуan, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'lslam, t. 1, Paris, 1938; t. 2 [Harissa — Liban], 1943.— Прим. nepeв.>
1693
<Хуффаз (ед.ч.— хафиз) — «помнящие наизусть, хранители» — своего рода ходячие библиотеки; в первые века ислама играли главную роль в сохранении и передаче всех видов знания. В современном арабском языке — лица, знающие наизусть Коран.— Прим. перев.>
1694
Суйути, Музхир, см. Goldziher, SBAW Wien, 69, стр. 20 и сл.
1695
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 85а.
1696
Ибн ал-Кифти, стр. 283.
1697
Мittwоch, MSOS, 1910, стр. 148 и сл.
1698
Goldziher, SBAW Wien, 73, стр. 518.
1699
Goldziher, SBAW Wien, 72, стр. 587.
1700
Sujuti, De interpretibus Corani, стр. 24 и сл.
1701
Goldziher, SBAW Wien, 67, стр. 250 — согласно Суйути, Музхир, I, стр. 164. В его Хаса’ис 30-я глава 2-й книги говорит об ал-иштикак ал-акбар <(O. Rеsсher, Studien über Ibn Ğinni, стр. 20).
1702
Мас‘уди, VII, стр. 131.
1703
Дабби, Бугйат ал-муталаммиc, стр. 56.
1704
Мас‘уди, VII, стр. 347.
1705
Китаб ал-агани, XVIII, стр. 173.
1706
Там же, XX, стр. 35; Ибн Кутайба, Китаб аш-ши‘р, стр. 549.
1707
<Имеется в виду стихийное бедствие, связанное с обильным выпадением дождей в горах,— сель, арабск. сайл.— Прим. перев.>
1708
Байхаки, стр. 475.
1709
Мас‘уди, V, стр. 88; Йакут, Иршад, VII, стр. 402.
1710
Например, Тираз ал-маджалис, стр. 67 и сл.
1711
Йакут, Иршад, VI, стр. 56.
1712
Йатима, III, стр. 338. А самого Са‘алиби Бахарзи в свою очередь назвал Джахизом Нишапура. См. Предисловие к Китаб ал-и‘джаз Са‘алиби.
1713
Са‘алиби, Лата‘иф ал-ма‘ариф, стр. 105; Йакут, Иршад, I, стр. 686.
1714
Йатима, III, стр. 3.
1715
Йакут, Иршад, VI, стр. 69.
1716
Там же, V, стр. 282.
1717
Там же, стр. 380. Бахарзи называет плодовитого Са‘алиби.
1718
Мустатраф, II, стр. 199 и сл. Насколько имеющиеся у него шутки заимствованы из греческой юмористической литературы, где школьный учитель являлся главным персонажем, еще надлежит установить. См. Reich, Mimus, I, стр. 443.
1719
Xусри, I, стр. 66 и сл.
1720
Танухи (Китаб ал-фарадж, II, стр. 106) приводит цитаты из его книги о разбойниках.
1721
Маc‘уди, VIII, стр. 34. Это «чередование серьезного и шутки» осталось за ним на протяжении всей истории литературы, см. Xваризми, Раса’ил, стр. 183.
1722
Например, Мас‘уди, IV, стр. 25.
1723
Джахиз, Байан, I, стр. 111 и сл.
1724
Gоldziher, Abhandlungen, I, стр. 65 и сл.
1725
Джахиз, Байан, II, стр. 114. Я взял эту цитату из книги Абу-л-‘Ала, Письма, стр. XLIII.
1726
Напр., Кинди, стр. 446 и часто у Ибн Тайфура. Нерифмованное письмо Му‘тасима к ‘Абдаллаху ибн Тахиру см.: Таухиди, Фи-с-садака, стр. 5.
1727
Йакут, Иршад, II, стр. 37.
1728
Табари, Анналы, III, стр. 2166 и сл.
1729
Йакут, Иршад, VI, стр. 463.
1730
Китаб ал-вузара, стр. 337 и сл.; Йакут, Иршад, VI, стр. 280.
1731
Китаб ал-вузара, стр. 277.
1732
Например, письмо «корреспондента» (сахиб ал-хабар) в Динавере; ‘Ариб, стр. 39 и сл.
1733
Йакут, Иршад, II, стр. 418.
1734
Ибн Нубата, Хутаб, стр. 16 (предисловие Ибн Хафаджи).
1735
Абу Хаййан, см. Йакут, Иршад, II, стр. 291.
1736
Там же, стр. 298.
1737
Там же, стр. 304.
1738
С очень незначительными исключениями. Так, например, некий знаменитый везир первых Алморавидов избегал рифмованной прозы, ибо был «верен стилю канцлеров давних времен» (Mарракуши, стр. 434).
1739
Xваризми, Раса’ил, стр. 35.
1740
Фихрист, стр. 134.
1741
Йатима, III, стр. 119; IV, стр. 31; Йакут, Иршад, V, стр. 331.
1742
Йакут, Иршад, I, стр. 343.
1743
Саби, Раса’ил, стр. 8.
1744
Йатима, II, стр. 277.
1745
Саби, Раса’ил, стр. 67 и сл.
1746
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 46а и сл.
1747
Йатима, IV, стр. 123 и сл.
1748
Хваризми, Раса’ил, стр. 81.
1749
Там же, стр. 119 и сл.
1750
Там же, стр. 76.
1751
Там же, стр. 88.
1752
Там же, стр. 106, а также стр. 68.
1753
Там же, стр. 30.
1754
Там же, стр. 35.
1755
Xамадани, Раса’ил, стр. 76.
1756
Следует читать «392 год» — как у Йакута, Иршад, I, стр. 97,— а не 382, как в дамасском издании «Йатимы».
1757
Йатима, IV, стр. 168. Говорят, что был он погребен в состоянии мнимой смерти и взывал из могилы (Ибн Xалликан, изд. Вюстенфельда, I, стр. 69).
1758
Йатима, IV, стр. 167.
1759
Хамадани, Раса’ил, стр. 74.
1760
Хамадани, Макамы, стр. 72.
1761
Хамадани, Раса’ил, стр. 174 и сл.
1762
Там же, стр. 370.
1763
Там же, стр. 393 и сл.
1764
Йатима, III, стр. 174.
1765
Джахиз, Китаб ал-бухала, стр. 47 и сл.
1766
Байхаки, стр. 624 и сл.
1767
Йатима, III, стр. 175 и сл.
1768
Там же.
1769
Он хвалится (Xамадани, Раса’ил, стр. 390, 515), что сочинил 400 таких нищенских макам, причем ни одна из них не похожа на другую ни по содержанию, ни по выражениям. До нас дошло лишь каких-нибудь 50, вообще же цифру 400 не следует понимать у него буквально, так как на стр. 74 Хамадани утверждает, что может написать письмо четырьмястами способов.
1770
Йатима, III, стр. 176. Макамы эти не датированы. Согласно ал-Хусри (I, стр. 280, на полях), «Хамданиййа» (бейрутск. изд., стр. 150 и сл.), вероятно, была продиктована в 385/995 г.
1771
Хамадани, Раса’ил, стр. 390.
1772
Напечатаны в Каире в 1321 г.х. Парижская рукопись более точная и более полная.
1773
Хамадани, Диван (рук.), л. 50.
1774
Йатима, III, стр. 223; Хамадани, Диван (рук.), л. 54а.
1775
Напечатана на полях каирского издания «‘Икд».
1776
Насиp-и Xусрау, стр. 11.
1777
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. 47; нечто подобное также на стр. 52.
1778
Xамадани, Раса’ил, стр. 8.
1779
<Под персидским огнем имеются в виду культовые алтари персов-зороастрийцев с негасимым пламенем.— Прим. перев.>
1780
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. 45.
1781
Там же, стр. 54.
1782
Там же, стр. 36.
1783
Там же, стр. 88.
1784
Там же, стр. 7.
1785
Там же, стр. 55.
1786
Таухиди, Фи-с-садака, стр. 5, написано: «когда его солнце достигло верхнего края стены» (стр. 199).
1787
Йакут, Иршад, V, стр. 387 и сл.
1788
Традиция передает, что наибольшей находчивостью в ответной речи славились курайшиты, а после них — арабы вообще; неараб может дать ответ лишь после размышления и определенного усилия (Муртада, Амали, I, стр. 177).
1789
Были ли среди них уже тогда рассказы Синдбада? Они существуют также и самостоятельно как в более распространенной, так и в более краткой редакции, и уже тогда знали, что пришли они из Индии (Мас‘уди, IV, стр. 90; Фихрист, стр. 305). Сули в начале IV/X в. (Аурак, стр. 9), а также поэт Ибн ал-Хаджжадж (ум. 391/1000) в «Диване» (готск. рук., л. 14а) называют их в числе особенно любимых рассказов. Сообщают, что сочинил их индийский врач Синдбад; они составляли «Книгу о семи везирах, учителе, мальчике и жене царя» (Мас‘уди, I, стр. 162).
1790
Фихрист, стр. 304.
1791
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. 120.
1792
Ибн ал-Кифти, стр. 331 и сл.
1793
Сули, Аурак, стр. 9.
1794
Фихрист, стр. 303-313.
1795
Хамза Исфахани, Анналы, стр. 41.
1796
Китаб ал-Мувашша, стр. 42 и сл.
1797
Марзубани (ум. 378) написал объемистую историю поэтов нового направления, где первым дан Башшар ибн Бурд, а последним — Ибн ал-Му‘тазз (Фихрист, стр. 132). Ибн Халлад писал: «Новые, возглавляемые Башшаром» (Йатима, III, стр. 236). Его называли «отец новых» (Хамза ал-Исфахани, см.: Абу Нувас, Диван, стр. 10; Xусри, II, стр. 21).
1798
Китаб ал-атани, III, стр. 22, 65. «Развалившимся, как буйвол» нашел его некто у порога его дома,— там же, стр. 56.
1799
Там же, III, стр. 22. Поэт Бухтури также вел себя «отвратительно во время декламации своих стихов: ходил туда и сюда, взад и вперед, тряс головой, подергивал плечами, указывал рукой, крича: „Прекрасно, клянусь Аллахом!“ — и, наступая на слушателей, восклицал: „Почему вы не выражаете свой восторг?“» (Йакут, Иршад, VI, стр. 404). В провинции еще и в IV/X в. встречались поэты, которые даже своим внешним обликом всячески подчеркивали «безумие» поэта, как и в давние времена. Близ Мосула выступал некий поэт, «вымазав себе лицо красной глиной, накинув на плечи красный войлочный плащ, с красной повязкой на голове, в руке красный посох, а на ногах красные туфли» (Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 86б).
1800
Китаб ал-агани, III, стр. 26.
1801
Ему было за 60 или 70 лет, и он имел несчастье растерять до этого времени всех своих друзей. «Остались лишь такие люди, которые не знают, что такое язык». За одно едкое и злое сатирическое стихотворение халиф приказал избить его до смерти и выбросить в Тигр. Тело его выловили, но за носилками до самой могилы шла лишь одна его чернокожая рабыня и голосила: Ва саййида! Ва саййида! — «О господин! О господин!» (Китаб ал-агани, III, стр. 72).
1802
Китаб ал-агани, III, стр. 52.
1803
Ибн Рашик, ‘Умда, стр. 150.
1804
Китаб ал-агани, XX, стр. 56.
1805
Дамири, II, стр. 321. Это знаменитое стихотворение — элегия на смерть кошки; характерно, что тотчас же была пущена версия, что это, собственно, элегия на смерть его царственного друга и поэта — убитого Ибн ал-Му‘тазза, и поэт просто из боязни посвятил ее кошке. Другие же утверждали, что в элегии подразумевается раб поэта, который полюбил рабыню везира, и тот убил их обоих. Под кошкой, подкрадывающейся к голубятне, следует, мол, понимать влюбленного раба (Абу-л-Фида, Анналы, год 318). Позднее Ибн ал-‘Амид также написал стихотворение, посвященное кошке, в котором соревновался с Ибн ‘Аллафом (Йатима, III, стр. 23).
1806
Слово «замысловатый» (таййиб) отныне входит в употребление и становится излюбленным словом Джахиза; см. Джахиз, Китаб ал-бухала, стр. 111.
1807
Китаб ал-агани, III, стр. 25.
1808
Там же, стр. 24.
1809
Там же, стр. 28.
1810
Это слово этимологически родственно словам, обозначающим понятия «быть единственным» и «начинать».
1811
<См. Ibn al-Mu‘tazz, Kitab al-badi‘ (изд. Крачковского); см. также И. Крачковский, Избран. соч., VI, стр. 97-330.— Прим. перев.>
1812
Ибн Рашик, ‘Умда, II, стр. 185.
1813
Там же.
1814
Там же, стр. 188. Третий вариант см. Китаб ал-агани, III, стр. 67. Схему народной песни — «они говорили — я сказал» разработал ‘Омар ибн Абу Раби‘а.
1815
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 5б.
1816
Ибн Рашик, ‘Умда, II, стр. 188 и сл.
1817
Хамза ал-Исфахани, см.: Абу Нувас, Диван.
1818
Ибн Рашик, ‘Умда, стр. 188, 194.
1819
Китаб ал-агани, III, стр. 63.
1820
Халбат ал-кумайт, стр. 191.
1821
Он также вырос в Басре и взял Башшара себе в пример (Хамза ал-Исфахани, см. Абу Нувас, Диван, стр. 10). Передают, что Джахиз считал его наиболее значительным из новых поэтов после Башшара, также и поэт Ибн ар-Руми (Абу Нувас, Диван, Предисловие, стр. 9 и сл.).
1822
Абу Нувас, Диван (венск. рук.), л. 167б.
1823
Ибн ал-Му‘тазз, Диван (Каир), стр. 15. Простое выражение: «Загремел у них гром, как проповедник»; также см.: Абу Таммам, Диван, стр. 370.
1824
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 16.
1825
Там же, II, стр. 34. <В то время кровососные банки делали не из стекла, а из металла, чаще всего бронзы.— Прим. перев.>
1826
Там же, II, стр. 110.
1827
Там же, II, стр. 122.
1828
Абу Нувас, Диван (Каир), стр. 8.
1829
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 122.
1830
Ибн ар-Руми, см. Ибн Рашик, ‘Умда, II, стр. 184.
1831
Йатима, II, стр. 21.
1832
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 36.
1833
Абу Нувас, Диван, стр. 349. Скромным началом являются первые два стиха этой песни: «Время прекрасно, деревья зелены, зима прошла и март пришел». Строки о зеленеющем саде и о пении птиц не вяжутся с последующими и относятся к более позднему времени. В диване отсутствует также и битва цветов, которую Мас‘уди (VIII, стр. 407) приписывает Абу Нувасу, и она восходит к более позднему времени.
1834
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 37.
1835
Там же, стр. 110.
1836
Там же, стр. 110 и сл.
1837
Там же, стр. 34, 51, 110.
1838
Так по Фихристу, стр. 168. По Абу-л-Махасину (II, стр. 312) — Ахмад ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ад-Дабби. По Йакуту (II, стр. 344) — Мухаммад ибн ал Хасан ибн Маррар. По ал-Кутуби (Фават ал-вафайат, I, стр. 61) — Ахмад ибн Мухаммад.
1839
Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 176.
1840
Близ Хисн ат-Тинат, на берегу моря, недалеко от Александретты, заготавливали большое количество сосны и отправляли ее морем в Сирию и Египет (Ибн Хаукал, стр. 221). Также и южнее Бейрута, вдоль Ливанского хребта тянулась сосновая роща «12 миль в квадрате» (Идриси, изд. Бранделя, стр. 23).
1841
Мафатих ал-‘улум, стр. 207.
1842
Йакут, III, стр. 444.
1843
Абу-л-Махасин, II, стр. 312.
1844
Йакут, Иршад, II, стр. 664.
1845
Кушаджим, Диван, стр. 116.
1846
Там же, стр. 74 и сл.
1847
Там же, стр. 71 и сл.
1848
Йакут, Иршад, II, стр. 23.
1849
Кушаджим, Диван, стр. 74.
1850
Фихрист, стр. 168.
1851
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 96б.
1852
Xафаджи, Райханат ал-алибба, стр. 256.
1853
Кутуби, Фават ал-вафайат, I, стр. 61 и Са‘алиби, Китаб ман габа, стр. 25.
1854
Кутуби, Фават ал-вафайат, I, стр. 61.
1855
Насир-и Хусрау, стр. 39; далее Шефер напоминает об острове нарциссов в сирийском Триполи.
1856
Кутуби, Фават ал-вафайат I, стр. 61; Мас‘уди, VIII, стр. 407 и сл., где битва цветов, в которой цветы красного цвета (роза, цвет яблони и граната) стоят против цветов желтого цвета (нарцисс, ромашка и цитрон), приписывается Абу Нувасу. Это неверно, хотя бы уже на основании причин чисто внутреннего порядка. Этой песни нет также и в Диване бейрутского издания. Никак не может эта песня принадлежать и перу Санаубари, так как в ней упоминается виноградник Батурунджа в Месопотамии и розе оказано предпочтение перед нарциссом.
1857
Бухтури, Диван, I, стр. 17. <Перевод сделан А. Мецем с произвольными сокращениями.>
1858
Xусри, стр. 183.
1859
Са‘алиби, Наср ан-назм, стр. 137.
1860
Он был катиб, да к тому же еще и астролог и повар у Сайф ад-Даула (Кушаджим, Диван, а также: Йатима, IV, стр. 157).
1861
Кушаджим, Диван, стр. 74.
1862
Там же, стр. 6.
1863
Там же, стр. 21, 22.
1864
Там же, стр. 48 и сл.
1865
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 115а.
1866
Кушаджим, Диван, стр. 140.
1867
Йатима, II, стр. 24.
1868
Там же, I, стр. 450 и сл. Среди писем Саби есть одно, в котором он защищает себя от подозрения, высказанного обоими мосульцами, что он, мол, стоит на стороне Сари. Наоборот, это Сари просил у него разрешения сочинить панегирик в его честь, что он и разрешил, но при условии, что тот не скажет в нем ни единого злого слова против братьев Халиди. Затем он вместе с Сари сравнил часть своих стихов со стихами Халиди, но не согласился с его мнением и т.д.; См.: Саби, Раса’ил, рук., стр. 34а и сл.
1869
Йатима, II, стр. 158.
1870
Там же, I, стр. 514.
1871
Там же, I, стр. 519.
1872
Там же, II, стр. 12.
1873
Там же, II, стр. 26. Другие стихи см.: Са‘алиби, Китаб ман габа, стр. 37.
1874
Йакут, Иршад, V, стр. 338.
1875
Там же, стр. 335; Йатима, II, стр. 109.
1876
Йатима, I, стр. 21.
1877
Там же, IV, стр. 113.
1878
Там же, III, стр. 95.
1879
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 52.
1880
Там же, стр. 78.
1881
Йатима, II, стр. 179.
1882
Там же, стр. 5.
1883
См., например, у Кассара, более известного как Сари ад-Дила (ум. 410/1019 г.); Татиммат ал-йатима (рук.), л. 28б.
1884
Йатима, IV, стр. 94 и сл.
1885
Там же, стр. 316.
1886
Макризи, I, стр. 121.
1887
Йатима, II, стр. 286.
1888
Там же, стр. 287. Халиф ал-Му‘тамид в свое время уже пел: «Шагает эмир и бьют в барабан: курдум-кудум!» (Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 42б).
1889
Йатима, II, стр. 286; Са‘алиби, Китаб ал и‘джаз, стр. 236; Тha‘alibi, ‘Umad el-mansub, VIII, стр. 501.
1890
Йатима, III, стр. 237.
1891
Там же, II, стр. 117. Ибн Ланкак собрал также коротенькие любовные песенки басрийского «торговца жареным рисом» (ум. 330/941; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 70б), перед лавкой которого постоянно толпились люди, чтобы послушать его. Эти песни большей частью воспевали однополую любовь, и молодые люди Басры гордились, когда он их упоминал, и запоминали его слова благодаря их удобопонимаемости и ясности (Йатима, II, стр. 132). После его смерти он стал популярен также и в Багдаде. В 333/944 г. Мас‘уди пишет, что его вещички распевали чаще всего (Мас‘уди, VIII, стр. 374).
1892
Йатима, II, стр. 188.
1893
Абу (Абдаллах ал-Хасан ибн Ахмад, умер в Вавилонии в местечке Нил, где у него было поместье, во вторник, 27 (Китаб ал-вузара, стр. 430 дает 22) джумада I 391 г. и как ревностный шиит был похоронен рядом с могилой Мусы ибн Джа‘фара ас-Садика. Он распорядился, чтобы на надгробном камне было высечено: «И собака их протянула лапы на порог» <Коран, XVIII, 17> (Xамадани, Такмилат, л. 340б). Жил он в Сук Йахйа, который многократно воспевал (см. Йакут, Словарь,— под этим словом).
1894
Йатима, II, стр. 242.
1895
Там же, стр. 228.
1896
Там же, стр. 260.
1897
Ибн ал-Хаджжадж, Диван, т. 10; моя копия, стр. 258.
1898
Там же, стр. 240; Китаб ал-вузара, стр. 430; Йатима, II, стр. 219.
1899
Йатима, II, стр. 211.
1900
Если обратиться к происхождению наиболее известных представителей скабрезного стиля (маджин), то у большинства из них окажется то же, что и у Раванди (ум. 298/911): сын иудея-обращенца, маджин и еретик (Абу-л-Махасин, II, стр. 184).
1901
Йатима, II, стр. 214.
1902
Шайху, «Машрик», год X, стр. 1085.
1903
Ибн ал-Хаджжадж, Диван, т. 10 (рукопись, Багдад), стр. 237; Китаб ал-вузара, стр. 430.
1904
Йатима, II, стр. 215.
1905
Там же, стр. 226.
1906
Там же, стр. 213.
1907
К сожалению, они имеются только в томе Британского музея, но и там лишь частично, в виде объяснений в глоссах.
1908
Ибн ал-Хаджжадж, Диван, стр. 80.
1909
Сирийские поэты Абу Таммам (ум. ок. 230/845) и ал-Бухтури (ум. 284/897) также были консервативнее и следовали по стопам своих дамасских предшественников — Ахтала, Джарира и Фараздака. Однако Бухтури был в достаточной степени поэтом, чтобы предпочесть новатора Абу Нуваса консервативному коллеге, и запрещал подвергать обсуждению этот вопрос филологам-литературоведам, придерживающимся иного мнения: «Это не касается тех, кто занимается только теорией искусства стихосложения, а сам стихов не пишет. Это понимает лишь тот, кто сам блуждал в теснинах поэтического искусства» (Goldziher, Abhandlungen, стр. 164, прим. 4). Впрочем, в Сирии тоже был известный представитель направления Ибн Хаджжаджа — Ахмад ибн Мухаммад ал-Антаки, прозванный Абу-р-Рака‘мак (ум. 399/1008), которому, кажется, удались лишь немногие яркие стихи (Йатима, I, стр. 238-261). Более подробно о нем см. Ма‘алим ат-талхис, берлинск. рук., л. 156б.
1910
Мутанабби, Диван, стр. 128.
1911
Йатима, I, стр. 98.
1912
Там же, I, стр. 86; II, стр. 116.
1913
Ибн ал-Хаджжадж, Диван, стр. 270.
1914
Йакут, Иршад, VI, стр. 505 и сл.; Тираз ал-мувашша, II, стр. 65 и сл. Сирийский поэт Абу-л-‘Ала покинул в 400/1009 г. Багдад из-за ссоры с влиятельными сторонниками Ибн ал-Хаджжаджа, в противовес которым он стоял на стороне своего земляка Мутанабби (Абу-л-‘Aла, Письма, стр. XXVIII). Он написал также большой комментарий к стихам Мутанабби. О философских стихотворениях Абу-л-‘Ала см.: Kremer, SBAW Wien, 117, стр. 89.
1915
Ради, Диван, стр. 1.
1916
Там же, стр. 1 и 929.
1917
Ради, Диван, стр. 505 и сл. Он отказывался петь перед султаном Баха ад-Даула и пел лишь перед халифом (там же, стр. 954). В отношении его меланхолии следует заметить, что его отцу было уже 65 лет, когда он был зачат.
1918
Ради, Диван, стр. 504.
1919
Там же, стр. 864.
1920
Такая же история произошла с сирийским принцем и поэтом Абу Фирасом, но тут уже арабский филолог обратил внимание, что эта фраза принадлежит перу Абу Нуваса (Абу Фирас, стр. 141).
1921
Йатима, II, стр. 308.
1922
<«Где те, что прежде нас были в этом мире?» — слова из студенческой песни «Gaudeamus» — «Будем же радоваться, пока мы молоды».— Прим. ред.>
1923
Ради, Диван, стр. 562.
1924
Там же, стр. 541.
1925
Там же, стр. 394.
1926
<О двух сторонах — научной и литературной — арабской географии пишет И.Ю. Крачковский в своем классическом труде, составляющем том IV «Избранных сочинений». Особенно см. статью «Арабская географическая литература»,— «Избран соч.», IV, стр. 16. Там дана также развернутая характеристика арабских географических сочинений, которых А. Мец касается весьма бегло.— Прим. перев.>
1927
Мас‘уди, I, стр. 275.
1928
Ибн Хордадбех, стр. 3. Ибн Хордадбеха прозвали «большая чаша» (Гузули, Матали‘ ал-будур, I, стр. 189). Макризи, Хитат, II, стр. 414 — следует читать: хордадби баллур. <Здесь у А. Меца допущена неточность, на что обратил внимание еще акад. И.Ю. Крачковский, см. «Избран. соч.», IV, стр. 147, прим. 4. В более позднем арабском языке хурдади обозначает особый сорт торного хрусталя: и сосуды из него.— Прим. перев.>
1929
Мас‘уди, II, стр. 71.
1930
Мукаддаси, стр. 4.
1931
Там же, стр. 3 и сл.
1932
<Йа‘куби умер в 897 или 905 г., см. Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 151.— Прим. перев.>
1933
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 232 и сл.
1934
Мукаддаси, стр. 44 и сл. Он закончил свою книгу, когда ему было сорок лет (стр. 8).
1935
Там же, стр. 111.
1936
Там же, стр. 9.
1937
См. выше, стр. 225.
1938
Ибн Хаукал, II, стр. 5, 235.
1939
Мукаддаси, стр. 41 и сл., стр. 270.
1940
Там же, стр. 16, согласно Корану, LV, 19.
1941
Там же, стр. 9.
1942
Там же, стр. 10.
1943
Там же, стр. 11.
1944
Там же, стр. 179.
1945
Там же, стр. 30, 104.
1946
Там же, стр. 104, 110 и сл. См. также Бакри (изд. де Слэна), стр. 160. Первые зародыши этой теории мы находим уже у Ибн Хордадбеха (стр. 172 и сл.) и у Мас‘уди (II, стр. 71).
1947
Абу-л-Фида, География, стр. 2.
1948
<А. Мец вслед за Идриси допустил неточность: имя автора Хишам Абу-л-Мунзир, см.: Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 121.— Прим. перев.>
1949
Силсилат ат-таварих; ‘Аджа’иб ал-Хинд.
1950
Отчет начальника этой экспедиции Саллама сохранился у Идриси и был издан де Гуе (De Muur).
1951
Йакут (Ибн Фадлан). <См. также: Ковалевский, Ибн Фадлан.— Прим. перев.>
1952
В том виде, как этот рассказ стоит у Йакута под словом «син», это несомненно подделка. Ср.: Marquart, Das Reich Zabul, стр. 272, прим. <См. также: Rohr-Sauer, Des Abu Dulaf Bericht, а также статью И.Ю. Крачковского «Вторая записка Абу Дулафа»,— «Избран. соч.», I, стр. 280-292.— Прим. перев.>
1953
Истахри, I, стр. 225.
1954
Идриси (изд. Дози), стр. 184. См. гл. 29 — «Морское судоходство».
1955
<У А. Меца допущена неточность: в Фихристе имеется в виду монах из Наджрана, города в Йемене, где была христианская община. См.: Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 145, 146.— Прим. перев.>
1956
Фихрист, стр. 349.
1957
Его книга, названная ‘Азизи по имени халифа, которому она была посвящена, является основным источником Йакута о Судане.
1958
Это основной источник для Бакри (изд. де Слэна), стр. 16; <ат-Та’рихи более известен как Мухаммад ибн Йусуф ал-Варрак.— Прим. перев.>
1959
<У И. Ю. Крачковского — Дабавкара, см. Избран. соч., IV, стр. 552; см.: также: Шумовский, Кто такой Дабавкара? — Прим. перев.>
1960
‘Илм ал-бахр, л. 3а. <Об этом термине и о сочинении ‘Илм ал-бахр см.: Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 553, 561 и сл.— Прим. перев.>
1961
Бируни, Индия (пер. Захау), I, стр. 25.
1962
Сам по себе неоплатонизм был бы не в состоянии вызвать такое всеобщее брожение умов. Не следует также упускать из виду, что и сам он был всего лишь отпрыском древней восточной мудрости. Без сомнения, существовавшие, но, конечно, второстепенные индийские и особенно буддийские влияния рассмотрены Гольдциером («Vorlesungen über den Islam», стр. 160 и сл.). Следует, пожалуй, добавить, что кроме ал-Халладжа то там, то тут упоминается некий суфий, который ввозил на родину индийскую мудрость (напр. Кушайри, Рисала, стр. 102 и Кашф ал-махджуб, стр. 271, прим. 4).
1963
Margoliouth — «Transactions of the Third Religious Congress», Oxford, I, стр. 292.
1964
Китаб ат-тавасин, стр. 161, прим. 2.
1965
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр. 349.
1966
<См.: Hopkins, Alexander Severus, стр. 166 и сл.; Friedländer, Roman Life and Manners, III, стр. 119 и сл.— Прим. англ. перев.>
1967
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр. 360. Значительно позже Ибн ал-Асир (VIII, стр. 467) сообщает, что он не нашел этих стихов в диване Ибн Хани. Однако они есть в диване, изданном в 1326 г. в Бейруте,— см. Ибн Хани, Диван (Бейрут), стр. 40.
1968
Кинди, стр. 162. Затем Макризи, Хитат, I, стр. 173. Также и два хадиса, приведенные у Гольдциера (ZA, 1909, стр. 343), дают 200 г. как начало суфизма.
1969
Кинди, стр. 440.
1970
Кушайри, Рисала (написано в 437/1045 г.), стр. 9.
1971
Нilgenfeld, Ketzergeschichte, стр. 283.
1972
Nicholson, JRAS, 1906, стр. 309.
1973
Тустари (ум. 283/896) — Кушайри, Рисала, стр. 17; Нахшаби (ум. 245/858) слушал египтянина ‘Аттара (Кушайри, Рисала, стр. 20) и передал учение многим людям. Ибн ал-Джалли, глава суфиев в Сирии, слушал Зу-н-Нуна (Кушайри, Рисала, стр. 24), а также Йусуф ибн ал-Хусайн — шейх Рея и Мидии (ум. 304/916) и Абу Са‘ид ал-Харраз (ум. 277/890) — см. Кушайри, Рисала, стр. 25 и сл.
1974
Кушайри, Рисала, стр. 25.
1975
О Египте багдадская традиция ничего не говорит; уже старейший историк ордена ал-Хулди (ум. 384/994) возводит это учение через багдадского святого Ма‘руфа ал-Кархи (ум. 307/920) к знаменитому древнему аскету Хасану из Басры; см. Фихрист, стр. 183.
1976
Зубдат ал-фикра, л. 56; также см. Schreiner, ZDMG, 52, стр. 515.
1977
Тазкират ал-аулийа, I, стр. 274; см. также: Nicholson, JRAS, 1906, стр. 322; Ватари, Раудат ан-назирин, стр. 8.
1978
Кашф ал-махджуб, стр. 110.
1979
Абу-л-Махасин, II, стр. 47; Зубдат ал-фикра, л. 73а. Сообщают, что он как раз говорил об этом на минбаре мечети Русафа, когда его поразил удар.
1980
Кашф ал-махджуб, стр. 184.
1981
Зубдат ал-фикра, л. 47а.
1982
Кашф ал-махджуб, стр. 143, 242 и сл. Все же и в V/XI в. полемизировали с «невежественными суфиями», которые разумели под этим полное уничтожение (фана-и куллиййа). Примечательно, что Худжвири должен был диспутировать на эту тему в Индии (Кашф ал-махджуб, стр. 243).
1983
Там же, стр. 183.
1984
Кушайри, Рисала, стр. 333: ас-сабр тахт ал-амр ва-н-нахий.
1985
См. стр. 245; впрочем, передают, что основатель маликитской школы также отверг шерстяную власяницу, ибо в этом, мол, кроется желание выставить себя напоказ, тогда как грубая хлопчатобумажная материя тоже очень дешева, и ношение ее не является открытой демонстрацией своей принадлежности. Ибн ал-Хаджж, Мудхал, II, стр. 13; приведенная Гольдциером противоположность (WZKM, 13, стр. 40) также относится к изложенному выше.
1986
Макки, Кут ал-кулуб, I, стр. 149 и сл. По поводу легенды о Хузайфе см. Gоldziher, Vorlesungen über den Islam, стр. 193. Способность читать чужие мысли и ясновидение играли большую роль уже у суфиев IV в.х. (Кушайри, Рисала, стр. 125 и сл.).
1987
Ватари, Раудат ан-назирин, стр. 13.
1988
Кушайри, Рисала, стр. 31.
1989
Мукаддаси, стр. 439.
1990
Кашф ал-махджуб, стр. 174.
1991
Фихрист, стр. 183; Абу-л-Махасин, II, стр. 292; Ватари, Раудат ан-назирин, стр. 12, 13, 15.
1992
Кармали, «Метрик», II, стр. 883 и сл.
1993
Мукаддаси, стр. 188.
1994
Так следует читать это имя согласно Dict. technic. terms., стр. 1266.
1995
Мукаддаси, стр. 323, 365.
1996
Там же, стр. 179; по Ибн Хазму (Милал, IV, стр. 204),— в Хорасане и Иерусалиме. Основатель, некий уроженец Сиджистана, умер в 255/868 г. в Сирии (Абу-л-Фида, Анналы, год 255).
1997
Мукаддаси, стр. 202.
1998
Там же, стр. 235.
1999
Там же, стр. 182.
2000
Там же, стр. 41; Калабади, л. 94а; см. Goldziher, WZKM, 13, стр. 43, прим. 2.
2001
К этому же относится и замечание Макризи (Хитат, I, стр. 414): монастыри (хаваник) появляются около 400/1009 г.
2002
Мукаддаси, стр. 415; Кушайри, Рисала, стр. 17.
2003
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 119а.
2004
Мукаддаси, стр. 415.
2005
Кашф ал-махджуб, стр. 53.
2006
Субки, Табакат, II, стр. 257. В V/XI в. суфии уже редко носили шерстяные одежды, обычно это был покрытый заплатками халат (муракка‘а); см. Кашф ал-махджуб, стр. 45 и сл. Такой халат уже и раньше наряду с власяницей был облачением аскетов и оставался, когда власяница стала признаком принадлежности к суфиям, одеждой не членов религиозной общины (Кушайри, Рисала, стр. 23, 198; Йакут, Иршад, II, стр. 292, 294).
2007
Йатима, III, стр. 237.
2008
Джахиз, Байан, I, стр. 41.
2009
Мукаддаси, стр. 415.
2010
Кашф ал-махджуб, стр. 416; ср. стр. 43.
2011
Там же, стр. 420.
2012
Самарканди, Куррат ал-‘уйун, стр. 173.
2013
Хваризми, Расса’ил, стр. 90.
2014
Мукаддаси, стр. 415; Кушайри, Рисала, стр. 14, 32, 33.
2015
Мукаддаси, стр. 415.
2016
Кушайри, Рисала, стр. 36.
2017
Субки, Табакат, II, стр. 102.
2018
Тhа‘аlibi, ‘Umad el-mansub, V, стр. 302.
2019
Кушайри, Рисала, стр. 26.
2020
Там же, стр. 27.
2021
Там же, стр. 29; ср. стр. 217.
2022
Кашф ал-махджуб, стр. 416, 420.
2023
Ибн Хазм, Милал, IV, стр. 188.
2024
Там же, IV, стр. 226; см. также: Schreiner, ZDMG, 52, стр. 476.
2025
Кашф ал-махджуб, стр. 383.
2026
Кушайри, стр. 31.
2027
Там же, стр. 198.
2028
Там же, стр. 202.
2029
Ватари, Раудат ан-назирин, стр. 10.
2030
Там же, стр. 12.
2031
Там же, стр. 198.
2032
Amedroz, JRAS, 1912, стр. 558.
2033
Кашф ал-махджуб, стр. 363.
2034
Там же, стр. 362.
2035
Там же, стр. 247.
2036
Там же, стр. 364.
2037
Макки, Кут ал-кулуб, стр. 126.
2038
Там же.
2039
Кушайри, Рисала, стр. 3.
2040
Казвини, Космография, стр. 216.
2041
Ватари, Раудат ан-назирин, стр. 8.
2042
Кушайри, Рисала, стр. 12.
2043
Там же, стр. 24; Казвини, Космография, стр. 218.
2044
Зубдат ал-фикра, л. 164а.
2045
Казвини, Космография, стр. 216.
2046
Ватари, Раудат ан-назирин, стр. 12. Другие примеры особых родов воздержания, причем все из более поздних источников, см. Amedroz, JRAS, 1912, стр. 559.
2047
Кушайри, Рисала, стр. 13.
2048
Там же, стр. 32; т.е. первые отказывали Аллаху в разуме, как он понимается у человека, а вторые отказывали ему в научном, частичном познании. Ср. также Massignon, Hallağ, стр. 187.
2049
Некий поэт был в то же время и му‘тазилитом и аскетом, см., например, Йатима, IV, стр. 324. Абу Хаййан ат-Таухиди, писавший лучшую прозу IV/X в., также был и тем и другим (Йакут, Иршад, V, стр. 382).
2050
Закарийа, см. Кушайри, Рисала, стр. 24.
2051
Perinde ас cadaver <«как труп».— Д.Б.> появляется здесь впервые; в IV/X в. это выражение еще не могло иметь значения крылатого, хотя, правда, Калабази (ум. 380/990), его приводит (Goldziher, WZKM, 13, стр. 42), но Макки (ум. 386/996) не дает; с другой стороны, cм. Кушайри, Рисала, стр. 90. В названной выше работе Гольдциер рассматривает важность догмы таваккул для аскетизма.
2052
Корень фатах, который впоследствии становится безраздельно господствующим в этой области (Goldziher, WZKM, 13, стр. 48 и сл.), правда, уже появляется то здесь, то там; теперь он употребляется крайне редко.
2053
Макки, Кут ал-кулуб, II, стр. 7.
2054
Там же, стр. 9.
2055
Там же, III, стр. 9.
2056
Кушайри, Рисала, стр. 106, 107.
2057
Кашф ал-махджуб, стр. 180, 379 и сл.
2058
Там же, стр. 176 и сл.
2059
Напр., Макки, Кут ал-кулуб, стр. 7.
2060
Более раннее значение этого слова см. Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 286 и сл. В IV в.х. оно все еще употреблялось в мирском значении «близкий»; см., напр., письма Саби (Раса’ил, рук., л. 215б, 219а, 220а, 226б), письма Хваризми (Раса’ил, стр. 26). У Кушайри (Рисала, стр. 206): «Один был из аулийа ас-султан, другой из подданных (ра‘иййа)», причем первый немного ниже назван солдатом (джунди).
2061
Margoliouth,— «Transactions of the Third Religious Congress», Oxford, I, стр. 292.
2062
Кашф ал-махджуб, стр. 210.
2063
Это, пожалуй, арабизованная форма персидского слова «отцы», которое, начиная от гностиков и кончая йазидитами, обычно служило для обозначения духовных руководителей (пир). Абу Сауба (ум. 241/855), родом из Алеппо, живший в Тарсе, как передают, был одним из абдал (Захаби, Табакат ал-хуффаз, II, стр. 18). В 242/856 г. умер ат-Туси — один из абдал (там же, стр. 33), в 265/878 г.— Ибрахим ибн Хани ан-Найсабури, также принадлежавший к абдал (Абу-л-Фида, Анналы, под этим годом), в 322/933 г.— ан-Нассадж (Ибн ал-Асир, VIII, стр. 222), в 327/938 г.— Ибн Абу Хатим (Субки, Табакат, II, стр. 237). Об одном испанском ученом IV в.х. сказано: «Если кто-либо и принадлежал в свое время к числу абдал, то это мог быть он» (Ибн Башкувал, I, стр. 92).
2064
Lane; сахах, см. под этим словом.
2065
Хашф ал-махджуб, стр. 214, 228.
2066
Там же, стр. 229.
2067
Хваризми, Раса’ил, стр. 49.
2068
Кашф ал-махджуб, стр. 213, 215.
2069
Ватари, Раудат ан-назирин, стр. 5.
2070
Лубб ал-адаб, берлинск. рук., л. 95а.
2071
Это слово имело и светское значение, напр., у Саби (Раса’ил, рук., л. 228): он получил всевозможные дары милости (дуруб ал-карамат) правителя, как-то: полную почетную одежду и т.д. <Карамат означает делать что-нибудь, нарушая законы природы, но без какой бы то ни было претензии на пророчество. Я полагаю, что А. Мец неверно понял значение дуруб ал-карамат в отрывке из Саби. Проф. Марголиус считает: Лучший перевод слова карамат — «стихийное чудо», т.е. когда природа оказывает честь святому помимо желания самого святого.— Прим. англ. перев.>
2072
Казвини, Космография, стр. 215 и сл.
2073
Абу-л-Махасин, II, стр. 218 (Та’рих ас-Сулами).
2074
Ср., например, Йакут, Иршад, IV, стр. 202.
2075
Кушайри, Рисала, стр. 188.
2076
Кашф ал-махджуб, стр. 100.
2077
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 68а.
2078
Там же, л. 356; Абу-л-Махасин, II, стр. 233.
2079
Абу-л-Махасин, II, стр. 235.
2080
Там же, стр. 37.
2081
Ибн Xазм, Милал, IV, стр. 180.
2082
Кушайри, Рисала, стр. 203.
2083
См., напр., Михаил Сириец, стр. 560 и сл.
2084
Кушайри, Рисала, стр. 205.
2085
Там же, стр. 30.
2086
Там же, стр. 193.
2087
Там же.
2088
Там же, стр. 203.
2089
Там же, стр. 187 и сл. В качестве дальнейшего различия между пророком и святым к первому прилагают безгрешность, а ко второму — нет. Кашф ал-махджуб, стр. 25.
2090
Кушайри, Рисала, стр. 187.
2091
Там же, стр. 189.
2092
Бухари (Баб фи-л-джана’из).
2093
Massignon, Hallaj, стр. 10 и сл. Учение о довременном существовании также исходит от гностиков.
2094
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 139б.
2095
Субки, Табакат, III, стр. 303-304.
2096
Krumbacher, Byzantinische Literatur, 2, стр. 985.
2097
О Халладже см. Schreiner, ZDMG, 58, стр. 468 и сл., а также — ‘Ариб, стр. 86 и сл. и прежде всего Китаб ат-тавасин и Ana al-Haqq,— «Islam», III, стр. 248 и сл.
2098
Бируни, Хронология (перев. Захау), стр. 194.
2099
Фихрист, стр. 190.
2100
Кашф ал-махджуб, стр. 303.
2101
Фихрист, стр. 192; ср. Massignon, Hallaj, стр. 10. Бируни, Индия (пер. Захау), стр. 125, называет «Книгу концентрации величайшего» и «Книгу концентрации минимального», что представляет интерес из-за терминологии. Китаб ас-сайхур фи накс ад-духур читал также и летописец суфизма ас-Сулами (ум. 412/1021) — это был «небольшой квадратный том», в котором были стихи ал-Халладжа (Субки, Табакат, III, стр. 61).
2102
Китаб ат-тавасин, стр. 131.
2103
Там же, стр. 130.
2104
Напр., Hilgеnfeld, Ketzergeschichte, стр. 294.
2105
Китаб ат-тавасин, стр. 130.
2106
<Ириней — святой отец католической церкви, родом из Малой Азии; представитель практически-христианского направления и противник гностицизма; автор пяти томов сочинений против гностиков («Adversus haereses»). См. Dufourq, Saint Irenee, Paris, 1904.— Прим. перев.>
2107
Hilgеnfeld, Ketzergeschichte, стр. 199.
2108
Китаб ат-тавасин, стр. 56.
2109
<Кельсий (Celsus) — философ и друг Лукиана (ок. 125—180 гг. до н.э.), автор полемического сочинения (сохранились лишь фрагменты), направленного против христианства. См. Мuth, Der Kampf des heidnischen Philosophen Celsus gegen das Christentum, Mainz, 1899.— Прим. nepeв.>
2110
Hilgenfeld, Ketzergeschichte, стр. 278.
2111
Китаб ат-тавасин, стр. 31.
2112
‘Ариб, стр. 90 — по Мискавайху.
2113
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 59а.
2114
Истахри, стр. 184 и сл.
2115
Китаб ат-тавасин, стр. 134.
2116
Там же. В Китаб ат-тавасин, как это ни странно, этот образ не встречается. Вероятно, там идет речь о различных стадиях развития.
2117
Там же, стр. 17.
2118
Там же, стр. 133.
2119
По Истахри (стр. 449), особенно в Вавилонии, Месопотамии и Мидии. Согласно Ибн Хаукалу, ал-Халладж начал как эмиссар Фатимидов.
2120
Кашф ал-махджуб, стр. 260.
2121
Там же, стр. 155 и сл.
2122
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр. 347.
2123
Ибн Xазм, Милал, IV, стр. 185.
2124
Литература об аш-Шалмагани собрана у Шрайнера (Schreiner, стр. 472). Там отсутствует Ибн Хаукал (стр. 211) и изданный позднее Иршад Йакута (Йакут, Иршад, I, стр. 296), где Йакут дает в выдержках письмо халифа ар-Ради Саманиду Насру ибн Ахмаду по поводу процесса аш-Шалмагани, которое автор читал в Мерве.
2125
Йакут, Иршад, I, стр. 302.
2126
Мас‘уди, Танбих, стр. 397.
2127
Это подтверждает Кашф ал-махджуб (стр. 416): «Истории с мальчиками хулулиты рассматривали как позорное клеймо на святых Аллаха и приверженцах суфизма».
2128
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 184б.
2129
Из многих этимологий этого имени я лично считаю наиболее вероятным предположение Фоллерса (Vollers), связывающее его с греческим grammata («писание, грамота»), потому что это можно подтвердить существованием этого слова в воровском жаргоне Южной Месопотамии IV/X в. В «бродяжном» стихотворении Абу Дулафа (Йатима, III, стр. 184) появляется некий кармат, «который пишет амулеты».
2130
Макризи, Итти‘аз, стр. 111.
2131
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 133; ‘Ариб, стр. 134.
2132
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 170б.
2133
Сведения Саби; см. Ибн ал-Каланиси, стр. 1 и сл.
2134
Макризи, Итти‘аз, стр. 133.
2135
Мукаддаси, стр. 133.
2136
Насиp-и Хусрау, перевод, стр. 228; об этом же было рассказано Абу-л-‘Ала ал-Ма‘арри (Рисалат, стр. 829).
2137
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр 829.
2138
Там же.
2139
Ибн Xазм, Милал, IV, стр. 187.— Ср. де Гуе в прим. к ‘Арибу, стр. 111, прим. 3.
2140
Бируни, Хронология, стр. 196.
2141
Макризи, Итти‘аз, стр. 141.
2142
Фихрист, стр. 189.
2143
Макризи, Итти‘аз, стр. 139. Наместник Махди на Востоке сидел в Рее, где ему были подчинены даже вербовщики в Месопотамии, а также Бану Ахмад в Мосуле (Фихрист, стр. 189).
2144
Ибн Хаукал, стр. 221.
2145
Йакут, Иршад, I, стр. 96.
2146
Фихрист, стр. 189.
2147
De Sacу, Religion des Druzes, стр. LXXIV и сл.
2148
Фихрист, стр. 186.
2149
Там же, стр. 187, 11.
2150
Ибн Хазм, Милал, II, стр. 29 и сл.
2151
Там же, стр. 116. Это выражение не следует понимать буквально, ибо в то время это было стойкое выражение для обозначения ереси. Кушайри (Рисала, стр. 38) хулит нечто весьма далекое от зороастризма, утверждая, что это «чистый магизм».
2152
Фихрист, стр. 189.
2153
Там же, стр. 138; Йакут, Иршад, I, стр. 142.
2154
Фихрист, стр. 187.
2155
<Бардесан (Бар Дайсан) — сирийский гностик, ум. 223 (или 222) г. н.э. См.: Hilgenfeld, Bardesanes, der letzte Gnostiker; Honigmann, Die sieben Klimata, стр. 92-93; Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 20.— Прим. nepeв.>
2156
Первые значительные успехи этой секты в 260/875 г. совпадают со смертью Хасана ибн ‘Али, которого большинство крайних шиитов чтило как имама и который к великому их смущению скончался в этом году бездетным (Ибн Хазм, Милал, IV, стр. 93).
2157
Макризи, Итти‘аз, стр. 101 и сл.
2158
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 29б.
2159
Насиp-и Xусрау, перевод, стр. 160.
2160
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 216.
2161
Байхаки, стр. 34.
2162
Йакут, Иршад, I, стр. 130 и сл.
2163
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 96.
2164
Напр., Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 158б и там же еще не раз, напр. л. 169а.
2165
Напр., Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 158б.
2166
Ибн ал-Джаузи.
2167
Ибн ал-Асир, IX, стр. 74.
2168
Кашф ал-махджуб, стр. 335.
2169
Абу Ну‘айм, Та’рих Исфахан, л. 98а.
2170
Йакут, Иршад, I, стр. 247.
2171
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 82а; Субки, Табакат, II, стр. 166.
2172
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 80а.
2173
Там же, л. 88а.
2174
Там же, л. 160б.
2175
Субки, Табакат, II, стр. 80.
2176
Там же, III, стр. 5.
2177
Там же, стр. 208.
2178
Там же, стр. 222.
2179
Там же, стр. 251.
2180
Йахйа ибн Са‘ид, л. 123а и сл. Император Никифор Фока (963—969), блестящий полководец, тоже надевал по ночам власяницу и пояс кающегося грешника.
2181
Йатима, IV, стр. 310.
2182
Там же, стр. 320.
2183
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 89а.
2184
Мирхонд, История Саманидов, стр. 50.
2185
Мискавайх, VI, стр. 295; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 100а.
2186
Мас‘уди, Танбих, стр. 375.
2187
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 136б.
2188
Там же, л. 139а.
2189
Там же, л. 135б; Ибн а л-Асир, IX, стр. 74, где вместо дирхемов, согласно Ибн ал-Джаузи, следует читать динары.
2190
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 181а.
2191
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, стр. 5.
2192
‘Ариб, стр. 24.
2193
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 158а.
2194
Мискавайх, V, стр. 247.
2195
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 159а.
2196
Там же, л. 162б.
2197
Мискавайх, VI, стр. 240.
2198
Абу Ну‘айм, Та’рих Исфахан, л. 71б.
2199
Йакут, Иршад, II, стр. 357.
2200
Mукаддаси, стр. 127.
2201
Масари‘ ал-‘ушшак, стр. 109.
2202
Китаб ал-вузара, стр. 420; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 146а.
2203
<Места паломничества перечисляет Мукаддаси — см. англ. пер., стр. 154 и сл.— Прим. англ. перев.>
2204
Мукаддаси, стр. 146.
2205
Там же.
2206
Насиp-и Xусрау, перевод, стр. 66.
2207
<Кальвария (лат. calvaria — череп) — место, где складывались черепа после казни; в переносном значении — Голгофа; отсюда в странах католицизма холмы с крестами, статуями и иконами, олицетворяющие путь Христа на Голгофу, служившие объектами паломничества.— Прим. перев.>
2208
Мукаддаси, стр. 122 и сл.
2209
Хашф ал-махджуб, стр. 91.
2210
Там же, стр. 140.
2211
Йакут, Иршад, V, стр. 382.
2212
Субки, Табакат, III, стр. 140.
2213
Кашф ал-махджуб, стр. 329.
2214
Абу-л-Фида, Анналы, год 256.
2215
Йакут, Иршад, II, стр. 357.
2216
Там же, стр. 408.
2217
Субки, Табакат, III, стр. 58.
2218
Ибн Xаукал, стр. 122.
2219
Йакут, Иршад, II, стр. 353. <Арабское название города Карин.— Прим. перев.> Это утверждение основано на ошибке: эти люди пользовались уважением из-за их родства с армянским царем (тагавор); можно предположить здесь и опечатку — вместо тагавор — сугун, т.е. пограничник.— Проф. Марголиус.— Прим. англ. перев.>
2220
Нищенская макама Абу Дулафа, Йатима, III.
2221
Кинди, стр. 419.
2222
Истахри, стр. 290.
2223
Мискавайх, VI, стр. 283 и сл.: Amedroz, Islam, III, стр. 331 и сл.; Истахри, стр. 220, 314; Мукаддаси, стр. 273.
2224
Мухадарат ал-удаба, стр. 92 и сл.
2225
Йакут, Иршад, VI, стр. 94.
2226
Танухи, Китаб ал-фарадж, I, стр. 19.
2227
Некоторым наместникам препятствием к отправлению церковных обязанностей было уже хотя бы недостаточное знание арабского языка. Последний арабский эмир Египта (208—242/852—856) был также и последним эмиром, предстоявшим на молитве (Кинди, стр. 202).
2228
Мас‘уди, VIII, стр. 2.
2229
Абу-л-Махасин, II, стр. 87.
2230
Йакут, Иршад, II, стр. 349.
2231
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 106б. Конец обычный, такой же как и у Ибн Нубаты, см. ниже.
2232
Mакризи, Хитат, II, стр. 55. И из других источников известно, что проповеди в Египте читались по записи (Хитат, II, стр. 300).
2233
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 155.
2234
Субки, Табакат, III, стр. 285.
2235
Джахиз, Байан, I, стр. 117; там же, стр. 42: «В старом исламе проповеди- всегда были краткими; красноречие заключалось в меткости выражений».
2236
Впрочем, и православный патриарх, которого я слушал в Вербное воскресение в 1902 г. в Дамаске, читал проповедь всего 10 минут.
2237
Ибн Xамдис, стр. 9.
2238
Ибн Нубата, Проповеди (Бейрут), стр. 6, <Сахбан (ум. 54/673) был наиболее прославленным проповедником и оратором раннего ислама; один из сохранившихся наиболее ранних образцов арабской хутбы в рифмованной прозе принадлежит ему. См. Сhenery, Hariri, I, стр. 309.— Прим. англ. перев.>
2239
Две переведенные проповеди (на англ. яз.) из Индии и Египта см.: Hughes, Dictionary of Islam, под словом — «Khutbah»; Lane, Manners, стр. 73. Проповедь, произнесенную при дворе Альмохадов (перевод), см.: Марракуши, стр. 295 и сл.
2240
В Хорасане он этого не делал; см. Мукаддаси, стр. 927.
2241
Ибн Нубата, Проповеди, стр. 287 и сл.
2242
Там же, стр. 321 и сл.
2243
Там же, стр. 69 и сл.
2244
Коран, XVIII, 51.
2245
Коран, LXIX, 13-18.
2246
Напр., Тухфат ал-‘арус, стр. 162.
2247
См. стр. 199.
2248
Ибн Нубата, Проповеди, Предисловие, стр. 19.
2249
Книга проповедей Абу-л-‘Ала ал-Ма‘арри сохранила остаток осознанного старого стиля. Она содержит пятничные проповеди, проповеди к обоим праздникам (празднику жертвоприношения в дни паломничества и Байраму), по случаю лунных и солнечных затмений, проповеди во время молебствий о ниспослании дождя, а также надгробные речи. Расположены они были в алфавитном порядке по рифмующимся буквам. Однако там встречались рифмы только на б, д, р, л, м и н, ибо рифмовка на прочие буквы была бы уж слишком искусственной, а стиль проповеди требовал изящной прочности (Йакут, Иршад, I, стр. 182).
2250
Norden, Die antike Kunstprosa, II, стр. 844.
2251
Сообщается, что Хутаб ал-джихадиййа были сочинены, вероятно, в 348/959 г., когда византийцы взяли Маййафарикин (Aбу-л-Махасин, II, стр. 349).
2252
Коран, III, 121-122.
2253
Коран, III, 150.
2254
Коран, XXII, 41.
2255
Коран, IX, 38 и сл.
2256
Мукаддаси, стр. 129, 416.
2257
Там же, стр. 327.
2258
Ибн Тагрибирди, стр. 107.
2259
Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 161 и сл. Здесь приведен один анекдот, характеризующий манеру их проповеди (Китаб ал-агани, III, стр. 30): живший при первых Аббасидах слепой поэт Башшар ибн Бурд проходил как-то мимо одного касса и услыхал, как он говорил: «Кто постится в раджабе, ша‘бане и рамадане, тому построит Аллах в раю дворец, двор которого будет иметь 1000 на 1000 фарсахов (12 тыс. км), высотой в 1000 фарсахов и все ворота будут иметь по 10 фарсахов в ширину и в высоту». Тогда Башшар обратился к своему поводырю и сказал: «А ведь в январе в таком доме должно быть весьма неуютно».
2260
Макризи, Хитат, II, стр. 253.
2261
Там же.
2262
Там же. Назначенный в 70 г. кади Египта, который к тому же был еще и публичным чтецом, получал столько же жалованья (ризк) за эту должность, как и за судейскую, а именно по 200 динаров в год (Кинди, стр. 317).
2263
Кинди, стр. 427.
2264
Макризи, Хитат, II, стр. 254.
2265
Ибн Тайфур, стр. 100. «Касс должен быть слепым, старым и обладать зычным голосом».— Джахиз, Байан, стр. 141.
2266
Мукаддаси, стр. 236.
2267
Ибн ал-Хаджж, Мудхал, II, стр. 21 и сл.
2268
Напр., Макки, Кут ал-кулуб, стр. 149. В 335/946 г. один из таких рассказчиков в Тарсе в столь грозных тонах изобразил величие Аллаха, что сам из страха перед ним упал без чувств и скончался (Субки, Табакат, II, стр. 103).
2269
Goldziher, Muh. Studien, стр. 168.
2270
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 152б.
2271
Мукаддаси, стр. 182, 13. Самое раннее упоминание музаккира, на основании которого возможна датировка, я нашел в стихотворении на осаду Багдада при Амине (198/813) у Мас‘уди, VI, стр. 448.
2272
Мукаддаси, стр. 182.
2273
Кашф ал-махджуб, стр. 235.
2274
Ибн ал-Хаджж, Мудхал, II, стр. 23. В Кут ал-кулуб ал-Макки я этого изречения не мог найти.
2275
Макки (ум. 386/906), Кут ал-кулуб, стр. 152.
2276
Напр., Мукаддаси, стр. 182, 327.
2277
Бустан ал-‘арифин, стр. 25 и сл.
2278
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 89б.
2279
Бухари, Сахих, I, стр. 100.
2280
Йакут, Иршад, VI, стр. 100.
2281
Сунан, Каунпур, 1293, стр. 38; цитировано по Goldziher, RHR, 1890, стр. 299.
2282
«‘Икд», отражающий воззрения III/IX в., приводит эти обряды, не имеющие особенно важного значения, в разделе «молитва» — см. «‘Икд», I, стр. 322, в то время как у Самарканди «поминание» (зикр) образует особую главу.
2283
Самарканди, Танбих ал-гафилин, стр. 255.
2284
Ибн Зулак (ум. 386/997) — см. Кинди, Приложение, стр. 519.
2285
Субки, Табакат, III, стр. 85.
2286
Там же, стр. 229.
2287
Ибн Башкувал, I, стр. 134.
2288
Кушайри, стр. 119.
2289
Мубаррад, Камил, стр. 367.
2290
Абу Нувас, Диван (Каир), стр. 108.
2291
Gоldziher, RHR, 1890, стр. 295 и сл.; ZDMG, 50, стр. 488; Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 66.
2292
Субки, Табакат, III, стр. 91.
2293
Мухаммад ‘Омар, Хадир ал-масриййин, стр. 103.
2294
Несколько таких анекдотов, которые хорошо дают представление о господствовавших в то время воззрениях, мы находим в ‘Икд, I, стр. 290.
2295
Джаубари, Китаб ал-мухтар, л. 17б.
2296
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 22.
2297
Сам он сообщает, что его дед Исма‘ил называл его Сим‘ун — с «и». Та’рих Багдад (рук.), 1, л. 85.
2298
Йакут, Иршад, II, стр. 319.
2299
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 112б.
2300
Там же, л. 141а.
2301
Та’рих Багдад (рук.), I, стр. 85.
2302
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 89а. Считалось, что после него с назидательным повествованием (касас) было покончено.
2303
Та’рих Багдад (рук.), л. 112а.
2304
Ибн Тагрибирди, стр. 93.
2305
Заркани, I, стр. 63.
2306
См. выше и Зубдат ал-фикра, л. 20а. Сообразно с этим следует понимать цитату Гольдциера, см. Gоldziher, ZDMG, 55, стр. 507, прим. 1.
2307
Mакризи, Хитат, II, стр. 254.
2308
Ибн Джубайр, стр. 221; Ибн ал-Джаузи, Китаб ал-азкийа, стр. 95; Казвини, Космография, стр. 214.
2309
Mакризи, Хитат, II, стр. 403.
2310
Так, например, в Старом Каире эпохи Тулунидов главная мечеть запиралась после вечерней молитвы, так как против минбара стоял ящик с государственной казной (Ибн Руста, География, стр. 116). Однако, когда в 294/906 г. наместник хотел опять ее закрыть и открывать лишь для молитвы, то народ возмутился (Кинди, стр. 266).
2311
Макризи, Хитат, I, стр. 319.
2312
Так, например, у Байхаки, стр. 483.
2313
Суровая ортодоксальная реакция III/IX в. рассматривала это как осквернение святого места. Правительство запретило кади исполнять свои обязанности в главной мечети, так же как оно запретило книготорговцам продавать сочинения по философии и диалектике (Абу-л-Махасин, II, стр. 86).
2314
Мукаддаси, стр. 205.
2315
Ибн Хаукал, стр. 341.
2316
Мукаддаси, стр. 205.
2317
Китаб ал-фарадж, II, стр. 110.
2318
Мукаддаси, стр. 440.
2319
Xамадани, Макамы, стр. 157.
2320
Китаб ал-агани, стр. 17, 14.
2321
Йатима, II, стр. 460; см. ниже стр. 294; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 48а.
2322
На мысль о создании его произведения Харири навел некий фокусник-трансформатор, который выпрашивал в своих речах подаяние на разные добрые дела во всех мечетях Басры, причем каждый раз в другом облике, Йакут, Иршад, VI, стр. 168.
2323
Джаубари, Китаб ал-мухтар, л. 25а.
2324
Байхаки, стр. 473.
2325
Мукаддаси, стр. 182.
2326
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 151.
2327
Макризи, Хитат, II, стр. 274; ср. Суйути, Хусн ал-мухадара, II стр. 151.
2328
Макризи, Хитат, II, стр. 295.
2329
Там же.
2330
Насир-и Xусрау, стр. 56.
2331
Мукаддаси, стр. 205.
2332
Там же, стр. 205, 430.
2333
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 67б.
2334
Мукаддаси, стр. 327.
2335
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 153; что это было новшеством, свидетельствуют вызванные этим шутки: почему-де Ибн Тулун не пристроил к мечети обычную баню? — Там же.
2336
Там же, стр. 151.
2337
Насиp-и Xусрау, перевод, стр. 28, 41.
2338
Абу Ну‘айм, Та’рих Исфахан, л. 11б.
2339
Ибн Руста, География, стр. 111.
2340
Мукаддаси, стр. 327.
2341
Мухаммад ‘Омар, Хадир ал-масриййин, стр. 106.
2342
Кинди, стр. 469.
2343
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 88б.
2344
Ибн ал-Асир, IX, стр. 129.
2345
Ибн Джубайр, стр. 221. Так (курра) назывались «чтецы» (lectores), прислуживавшие в алтаре христианской церкви. «Они пели псалмы Давида с трелями, переливавшимися в глотке» (Абу Нувас, Диван, Каир, Приложение, стр. 80).
2346
Джaубари, Китаб ал-мухтар, л. 17б.
2347
Ибн Тайфур, стр. 76.
2348
К числу реликвий, названных у Гольдциера (Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 356 и сл.), мне хотелось бы еще добавить: ложе Мухаммада, которое после смерти А’иши перешло в собственность одного клиента Му‘авийи за 4 тыс. дирхемов (Китаб Алиф-Ба, I.— согласно Ибн Кутайбе), плащ его и написанный на коже, им самим составленный договор, которые хранились в сирийском городе Азрухе (Мукаддаси, стр. 178).
2349
Кашф ал-махджуб, стр. 158.
2350
Китаб ал-вузара, стр. 67 и сл. Очень похожая история рассказана Йакутом о том, как Хатиб ал-Багдади раскрыл поддельность договора с Хайбаром, см. Йакут, Иршад, I, стр. 248.
2351
Абу-л-Махасин, II, стр. 472.
2352
Ибн Джубайр, стр. 267.
2353
Кинди, стр. 469.
2354
Макризи, Хитат, II, стр. 254.
2355
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 116а.
2356
Идриси (изд. Дози), стр, 210.
2357
Goldziher, Muh. Studien, II, стр. 362.
2358
Mукаддаси, стр. 84.
2359
Йакут, Иршад, I, стр. 163.
2360
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр. 296.
2361
Это стихотворение см. Kremer, ZDMG, 34, стр. 503.
2362
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. 34.
2363
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр. 298.
2364
Там же.
2365
Там же, стр. 304. Совершенно случайно как раз в то время, когда это происходило и имущество Абу-л-‘Ала было очень скудным, через Ма‘appy проезжал персидский путешественник Насир-и Хусрау. Он задержался там всего лишь на один день, к поэту не пошел, но ему рассказали: «Он слывет главой города, у него большое состояние, много рабов и слуг. Все жители города как бы его подданные. Сам же он отказался от радостей жизни, носит власяницу и никогда не покидает свой дом; пропитание его состоит из полмана ячменного хлеба. Ворота его дома постоянно открыты, его чиновники и приверженцы управляют городом и лишь в важных случаях обращаются к нему за советом. Он никогда не отказывает в денежной помощи. Сам же он постоянно блюдет пост, бодрствует ночи напролет и не занимается мирскими делами». А сам поэт жалуется: «Люди полагают, что у меня есть деньги, и ждут поэтому от меня денег» (Kremer, ZDMG, 34, стр. 101; Абу-л-‘Ала, Лузумиййат, стр. 202).
2366
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр. 304.
2367
Там же.
2368
Kremer, ZDMG, 30, стр. 40.
2369
Там же, стр. 43.
2370
Там же, стр. 5, 53.
2371
Там же, стр. 45.
2372
Абу-л-‘Ала, Рисалат, стр. 308.
2373
Йакут, Иршад, V, стр. 424.
2374
JRAS, 1900 и сл.
2375
Субки, Табакат, III, стр. 53.
2376
Абу-л-Фида, Анналы, год 293.
2377
Китаб ал-вузара, стр. 270.
2378
<Несколько фрагментов собраны проф. Марголиусом, см. Centenario di М. Amari. Часть этого сочинения, как говорят, все же существует.— Прим. англ. перев.>
2379
Goldziher, ZDMG, 29, стр. 640.
2380
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 103.
2381
Сулами (ум. 394/1003); Йатима, II, стр. 171.
2382
Йатима, II, стр. 242, 243. По мусульманскому вероучению, умерший, лежа в могиле, видит уготованное ему на небе или в аду место, которое он займет после Страшного суда.
2383
Там же, стр. 263.
2384
Мас‘уди, VIII, стр. 204 и сл.
2385
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 207б.
2386
Йакут, Иршад, II, стр. 81.
2387
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 221.
2388
Ибн Xаукал, стр. 127.
2389
Субки, Табакат, II, стр. 184.
2390
Происхождение их носит религиозный характер. Этот «третий пол» возник в угоду богам; против его высокого религиозного значения неизбежно должен был ополчиться как § 1 Никейского собора, так и Мухаммад. Sachau, Von den rechtlichen Verhältnissen, стр. 83 и сл.
2391
Маварди, стр. 431.
2392
Табари, Анналы, III, стр. 950 и сл.
2393
Это Абу Нувас; см. Табари, Анналы, III, стр. 965.
2394
Странно при этом, что иудеям их закон запрещал холостить жеребцов и быков, так что они вынуждены были покупать волов у христиан (Krauß, Talmudische Archäologie, II, стр. 116).
2395
Ибн Фадлаллах, см. Marquart, Beninsammlung, стр. CCCVI.
2396
Pückler, Aus Mehemed Alls Reich, III, стр. 159.
2397
Маltzan, Meine Wallfahrt, I, стр. 48.
2398
Мас‘уди, VIII, стр. 148.
2399
Мукаддаси, стр. 242.
2400
Также и по Ибн Хаукалу (стр. 75), все рабы, которые непосредственно ввозятся в Хорасан, не кастрированы. Что же касается евнухов-славян, то их также вывозят из испанской Галии (там же). Говорят, что голоса славян после кастрации изменялись сильнее, чем у других (Джахиз, Хайаван, I, стр. 51).
2401
В православной церкви евнухи служили не только певчими, но и могли в отличие от католической церкви быть священниками. Как раз в начале IV/X в. два кастрата один за другим были даже патриархами Константинополя (Ибн Са‘ид, стр. 83, 86). То же имело место около 370/980 г. (Barhebraeus, Chron. eccles., I, стр. 414) и в 410/1019 г. (Ибн Са‘ид, стр. 227).
2402
Иудеи в империи франков также практиковали кастрацию, причем особой известностью пользовались в этом отношении иудеи Вердена (Dozy, Gesch. der Mauren, 2, стр. 38).
2403
Жену одного евнуха упоминает Ибн ал-Асир (VIII, стр. 191). Любовные связи между девушками-рабынями Хумаравайхи, как передают, явились причиной убийства эмира. Один евнух ‘Адуд ад-Даула был женат на абиссинской рабыне, «однако на сердце у нее был другой» (Ибн ал-Асир, IX, стр. 39).
2404
Vоgt, Basile, I, стр. 383.
2405
Джаухари, записывавший старое словоупотребление, еще не дает значения «евнух», а говорит, что все они, будь то мужчина или женщина, назывались слугами. Напротив, Илья из Нисибина (род. 364/974) неизменно переводит этот термин словом сариса.
2406
Mукаддаси, стр. 31.
2407
Мас‘уди, VIII, стр. 180; йа‘акик субб ма ватрах дакик! или йа‘акк тавил ассак.
2408
Табари, Анналы, III, стр. 2164.
2409
Мас‘уди, VIII, стр. 162, 164.
2410
Байхаки, стр. 610.
2411
Джахиз, Хайаван, I, стр. 62.
2412
Хамадани, Раса’ил, стр. 19.
2413
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 99а.
2414
Кинди, стр. 276.
2415
Йахйа ибн Са‘ид, л. 130аб.
2416
Там же, л. 107а; Ибн ал-Асир, IX, стр. 39.
2417
Суйути, Ава’ил.
2418
Джахиз, Хайаван, I, стр. 48, 62; Байхаки, стр. 609.
2419
Байхаки, стр. 611; Макризи, Хитат, II, стр. 96.
2420
Джахиз, Хайаван, I, стр. 53. Я читаю даббур вместо даббук.
2421
Однако Мас‘уди (VIII, стр. 149) хвалит их за то, что у них нет запаха из подмышек.
2422
Джахиз, Хайаван, I, стр. 48, 61, 72; Байхаки, стр. 611.
2423
Джахиз, Хайаван, I, стр. 72.
2424
Макризи, Хитат, II, стр. 3.
2425
Мас‘уди, VIII, стр. 299.
2426
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 70б.
2427
Мас‘уди, VIII, стр. 300.
2428
Абу Нувас, Диван (Каир), стр. 234, 240. Те немногие случаи, когда этот же поэт, говоря о девушках, употребляет местоимение «он», связаны с этой модой.
2429
Кудама (рук.), л. 29б.
2430
Субки, Табакат, III, стр. 18.
2431
Джахиз (ум. 255/868) пытается объяснить это в «Книге о школьном учителе» тем, что Абу Муслим на первых порах запретил войску брать с собой жен; см. также Хамза ал-Исфахани в диване Абу Нуваса (берлинск. рук., л. 193б) и в статье Мittwоch, Die literarische Tätigkeit al-Isfahanis, стр. 138.
2432
Tha‘alibi, ‘Umad el-mansub, VIII, стр. 56.
2433
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 83а.
2434
Йатима, II, стр. 163 и сл.
2435
Абу Фирас, стр. 165 и сл.
2436
Мас‘уди, VIII, стр. 374; Йатима, II, стр. 133.
2437
Мискавайх, VI, стр. 469; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 495.
2438
Мискавайх, VI, стр. 81.
2439
Йакут, Иршад, II, стр. 340; Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 127.
2440
Йатима, I, стр. 483.
2441
Йахйа ибн Са‘ид, л. 127б.
2442
<А. Мед имеет в виду Да’уда аз-Захири, основателя школы захиритов. — Прим. перев.>
2443
Йакут, Иршад, I, стр. 309.
2444
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 190а; Йакут, Иршад, II, стр. 19 и сл.
2445
Йакут, Иршад, II, стр. 23.
2446
Wüstenfeld, Schafiiten, № 88.
2447
Остроты по этому поводу см.: Мухадарат ал-удаба, I, стр. 129.
2448
Силсилат ат-таварих, стр. 70; дополнения Абу Зайда ас-Сирафи; ср. Мас‘уди, I, стр. 296.
2449
Бируни, Индия (пер. Захау), II, стр. 157; Мукаддаси, стр. 441.
2450
Макризи, Хитат, I, стр. 89.
2451
Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 48.
2452
Ибн ал-Кифти, стр. 298.
2453
Мукаддаси, стр. 407.
2454
Ибн Хаукал, стр. 70.
2455
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 230.
2456
Маварди, стр. 418.
2457
Йахйа ибн Са‘ид, л. 124а; Кинди, Приложение, стр. 606. По Вюстенфельду (Wüstеnfеld, Statthalter Ägyptens, III, стр. 58) в Египте это было запрещено в 253/867 г.; Кинди (ум. 350/961) говорит об этом иначе (Кинди, стр. 210).
2458
Stendhal, Promenades, II, стр. 358.
2459
‘Икд, I, стр. 218.
2460
Китаб ал-агани, XIX, стр. 136.
2461
Абу-л-Kасим, стр. 73.
2462
Макризи, Хитат, I, стр. 39.
2463
Мукаддаси, стр. 200.
2464
Там же, стр. 427.
2465
Там же, стр. 436.
2466
Калкашанди, Китаб субх ал-а‘ша (Каир), I, стр. 40.
2467
Напр., Ибн ал-Джаузи, лл. 126а, 146а. Знаменита была Карима в Мекке, которой удавалось в 5 дней преподать весь Сахих Бухари (Йакут, Иршад, I, стр. 247).
2468
Хамадани, Макамы (Бейрут), стр. 103.
2469
Макризи, Хитат, I, стр. 352.
2470
Kremer, ZDMG, 38, стр. 509.
2471
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 121б.
2472
Джахиз, Фусул, л. 61а.
2473
Байхаки, стр. 449; Шайзари, Джамхарат ал-ислам, л. 200б.
2474
Xваризми, Раса’ил, стр. 173.
2475
Ради, Диван, I, стр. 245.
2476
Хваризми, Раса’ил, стр. 61.
2477
Landberg, Proverbes arabes, XVI.
2478
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, стр. 87.
2479
‘Ариб, стр. 161.
2480
Йатима, III, стр. 102 и сл.
2481
Там же, стр. 130.
2482
Йакут, Иршад, II, стр. 338.
2483
Йатима, II, стр. 63 и сл.
2484
Там же, стр. 130; Йакут, Иршад, VI, стр. 217.
2485
Хамадани, Диван, Каир, стр. 65; рук., л. 59а.
2486
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 204.
2487
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 34.
2488
Там же, стр. 29.
2489
Кинди, стр. 224; Йакут, Иршад, II, стр. 416.
2490
‘Ариб, стр. 112.
2491
Ибн Xишам, стр. 444.
2492
Zintgraff — см. Vierkandt, Naturvölker, стр. 264.
2493
Табари, Анналы, III, стр. 2206.
2494
‘Ариб, стр. 3 и сл.
2495
Ибн ал-Асир, IX, стр. 144; Ибн Тагрибирди, стр. 99.
2496
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 191.
2497
Там же, стр. 121.
2498
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 49; Мас‘уди, VIII, стр. 169; ‘Ариб, стр. 77.
2499
‘Ариб, стр. 104; Мас‘уди, VIII, стр. 169, 198.
2500
Зубдат ал-фикра, л. 179б,— как, например, Мунис плененного им Хамданида.
2501
Карматы, хариджит (Мас‘уди, VIII, стр. 169) и евнух Васиф (там же, стр. 198), Хамданид Хусайн (‘Ариб, стр. 67), Йусуф ибн Абу-с-Садж (‘Ариб, стр. 77).
2502
Зубдат ал-фикра, л. 182б; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 205.
2503
‘Ариб, стр. 77.
2504
Мискавайх, VI, стр. 501.
2505
Там же, стр. 17.
2506
‘Ариб, стр. 57.
2507
Там же, стр. 77.
2508
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 205 и сл.
2509
Мас‘уди, VIII, стр. 154.
2510
Китаб ал-вузара, стр. 102.
2511
Китаб ал-вузара, стр. 381; ‘Ариб, стр. 184.
2512
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 108.
2513
Последнее явствует из стихотворения Анбари, посвященного некоему человеку, в 367/977 г. выставленному к позорному столбу,— согласно «‘Уйун ас-сийар» Хамадани; см. «Надим ал-‘ариб» Ахмада Са'ида ал-Багдади, стр. 143.
2514
Ахмад Са‘ид, Надим ал-‘ариб, стр. 143.
2515
Истахри, стр. 129, у списавшего с него Ибн Хаукала, стр. 210.
2516
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 129.
2517
Так обстоит дело и в наши дни, так обстояло оно и в давние времена; ср. условия, поставленные Абу Бакром восставшим арабам: «Мы сохраним, что мы захватили у вас, вы же отдаете нам то, что вы захватили у нас. Вы платите виру за наших убитых, ваши же убитые должны быть преданы огню» (Балазури, Футух, стр. 95). И в то время мусульманский вождь действительно сжег тела противников (там же, стр. 98). У греков выход из употребления виры связан, пожалуй, со все более распространившимся обычаем сожжения трупов.
2518
Мискавайх, V, стр. 208.
2519
Китаб ал-вузара, стр. 471.
2520
Существует всего лишь один анекдот, в котором халиф Му‘тадид заподозрен в подобной мести. Йакут, Иршад, VI, стр. 494 и сл.
2521
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 252б и сл.
2522
Йахйа ибн Са‘ид, л. 100а; Макризи, Хитат, II, стр. 413.
2523
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 111а.
2524
Макризи, Хитат, I, стр. 426.
2525
Йахйа ибн Са‘ид, л. 123б.
2526
Schlumberger, Épopée byzantine, II, стр. 208.
2527
Вследствие этой боязни вообще разрешались очень многие кажущиеся нам совершенно излишними зверства. Марко Поло (II, 5) рассказывает, что Великий хан велел завернуть Найана в ковер и до тех пор катать его взад и вперед, пока тот не умрет, «ибо был он его крови, которую он не хотел пролить на землю или перед солнцем».
2528
Мас‘уди, VIII, стр. 4.
2529
Абу-л-Фида, Анналы, год 255.
2530
Мас‘уди, VIII, стр. 11. <На стр. 12 ошибочно дана дата смерти: 255 г.х.>
2531
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 13.
2532
Йахйа ибн Са‘ид, л. 86а; Мискавайх, V, стр. 456; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 211.
2533
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 142а.
2534
Мас‘уди, VIII, стр. 351; Илья из Нисибина, стр. 212 — по Сабиту ибн Синану.
2535
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 431, 497; Йакут, Иршад, V, стр. 349.
2536
Субки, Табакат, II, стр. 293.
2537
Китаб ал-вузара, стр. 19.
2538
Напр., Зубдат ал-фикра, л. 193.
2539
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 107а.
2540
Мас‘уди, VI, стр. 266.
2541
Там же, VIII, стр. 211.
2542
Там же, стр. 116, 160.
2543
Мискавайх, V, стр. 446.
2544
Там же, стр. 423, согласно Сабиту ибн Синану.
2545
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 194.
2546
Мискавайх, V, стр. 421; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 45а; Зубдат ал-фикра, л. 225б; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 193.
2547
Мискавайх, VI, стр. 481, 517. ‘Адуд ад-Даула также первым вновь применил боевых слонов (там же, стр. 464).
2548
Йатима, IV, стр. 7.
2549
Абу-л-Касим, стр. 83. <Другой случай самоубийства ученого см.: Бартольд, Ученые мусульманского «ренессанса», стр. 12, прим. 2.— Прим. перев.>
2550
Fragmenta, стр. 63.
2551
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 88.
2552
Китаб ал-вузара, стр. 21.
2553
Ибн ал-Му‘тазз — см. Байхаки, стр. 571; в «Диване» этого стиха нет.
2554
Ибн ал-Кифти, стр. 193.
2555
Макризи, Хитат, I, стр. 89.
2556
Напр., Кашф ал-махджуб, стр. 315.
2557
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 128а; Субки, Табакат, II, стр. 165.
2558
Субки, Табакат, II, стр. 222.
2559
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 142б.
2560
Там же, л. 56а.
2561
Китаб ал-вузара, стр. 64.
2562
Ибн Хаукал, стр. 224.
2563
Ибн ал-Му‘тазз, Дизан, I, стр. 68, 73.
2564
Glеiсhеn-Russwurm, Elegantiae, стр. 277.
2565
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 117а.
2566
Абу Ну‘айм, Та‘рих Исфахан, л. 161а.
2567
Макризи, Хитат, II, стр. 409.
2568
Фихрист, стр. 245.
2569
Ибн Тайфур, л. 20б.
2570
Макризи, Хитат, II, стр. 409. Но один из противников издевался: «Пусть его госпиталь повиснет у него на заду вместе со всеми его неотесанными варварами!» (Кинди, стр. 217).
2571
Макризи, Хитат, II, стр. 267.
2572
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, VII, стр. 321; ‘Икд, III, стр. 240.
2573
Китаб ал-агани, XVIII, стр. 30.
2574
Китаб ал-вузара, стр. 21.
2575
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 14а; в данном случае это особо важный источник, ибо он непосредственно использует хронику самого Сабита ибн Синана. Самой старой была больница Са‘иди близ ворот Мухаввал (там же, л. 66а).
2576
Ибн ал-Кифти, стр. 194; Ибн Абу Усайби‘а, I, стр. 222; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 16а; по его данным — 2000; Абу-л-Махасин, II, стр. 203.
2577
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 23.
2578
Ибн ал-Kифти, стр. 193.
2579
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 69а; Ибн ал-Асир, IX, стр. 12; Ибн Халликан, II, стр. 485.
2580
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 98б.
2581
Мукаддаси, стр. 430; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 69а. Больница в Басите называлась «постоялый двор» (дар ад-дийафа) и являлась одновременно народной столовой, которую Беджкем открыл во время голода (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 69а; Ибн ал-Кифти, стр. 193). Настоящую больницу Васит получил лишь в 413/11022 г. (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 193б).
2582
Ибн ал-Kифти, стр. 191.
2583
Абу-л-Махасин, II, стр. 277.
2584
Масари‘ ал-‘ушшак, стр. 159.
2585
Там же, стр. 5.
2586
Китаб ал-фарадж, II, стр, 17.
2587
Sarre u. Herzfeld, Erster vorläufiger Bericht, стр. 14.
2588
Сардабом называлась в то время вырытая под землей яма, например, во дворце (Муктадир выкопал перед «оранжереей» (?) яму для Муниса, чтобы можно было сказать — он упал в сардаб; Китаб ал-‘уйун, IV, л. 113б) или в доме, прикрытая железной дверью (‘Ариб, стр. 10). Уже во времена Мансура кого-то заперли в сардабе, где «он не мог отличить белый день от мрака ночи» (Мас‘уди, VI, стр. 200).
2589
JRAS, 1898, стр. 819.
2590
Ибн Хаукал, стр. 299.
2591
Насиp-и Хусрау, текст, стр. 91; перевод, стр. 250.
2592
Макризи, Хитат, I, стр. 28.
2593
Табари, Анналы, III, стр. 418; Йакут, Иршад, VI, стр. 99 — в стихе из эпохи Тахира.
2594
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 14.
2595
Мукаддаси, стр. 449.
2596
dе Gоеjе, Carmathes, стр. 218,— согласно Мискавайху.
2597
Гузули, Матали‘ ал-будур, I, стр. 65. Для IV/X в. доказано цитатой из Сари.
2598
Шайзари, Джамхарат ал-ислам, л. 199а; Байхаки, стр. 447.
2599
Это видно из истории зверя Забзаб, которая рассказывается во всех хрониках под 304 г.х. См. также: Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 18б: «В таммузе 308 г. наступили такие холода, что люди спустились с крыш и закутались в одеяла, как зимой».
2600
Истахри, стр. 211.
2601
Xамдани, I, стр. 196.
2602
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, VII, стр. 266, 16.
2603
Mас‘уди, VIII, стр. 192 и сл.
2604
Sarre u. Herzfeld, Erster vorläufiger Bericht, стр. 34. Предместье восточной части Багдада, откуда брала свое начало военная дорога в сторону Персии, вероятно, получило свое название («Трое ворот») от постройки такого типа. <См. Le Strange, Baghdad, стр. 254.— Прим. англ. перев.>
2605
Йакут, I, стр. 809. Так, пожалуй, следует понимать это не совсем ясное место.
2606
Макризи, Хитат, I, стр. 345.
2607
Истахри, стр. 83. Это было, пожалуй, как Шираз, заключил некий наблюдатель, который около конца IV/X в. прошел по этой в основном пустынной территории (Та’рих Багдад, изд. Салмона, текст, стр. 49).
2608
Китаб ал-вузара, стр. 179.
2609
См. Джаухари — под этим словом и Абу-л-Касим, стр. 36.
2610
Ибн ал-Му‘тазз, Диван,— о «Дворце семи созвездий».
2611
Китаб ал-вузара, стр. 420.
2612
Так назывались и сами части, так как они получали жалованье через сорок или девяносто дней.
2613
Мискавайх, V, стр. 324; Хамза Исфахани, Анналы, I, стр. 204; также Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 138, строка 6, где следует читать так.
2614
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 160а. У Ибн ал-Му‘тазза (Диван, I, стр. 138, строка 6) это строение названо «Высокий купол». Передают, что свое название эта постройка получила оттого, что халиф мог верхом на осле въехать по винтовой галерее до самой вершины. Правда, впервые речь об этом идет в очень позднем источнике (Йакут, I, стр. 806), и, вероятно, придумана эта история по аналогии с маяком Александрии, о котором рассказывается нечто подобное (Ибн Хордадбех, стр. 115).
2615
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 160а.
2616
Насир-и Хусрау, стр. 129, 158; также Макризи, Хитат, стр. 457.
2617
Мукаддаси, стр. 449.
2618
Ибн Хордадбех, стр. 114.
2619
Fontanе, Fünf Schlösser, стр. 96.
2620
Макризи, Хитат, I, стр. 365.
2621
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 53.
2622
Gleiсhеn-Russwurm, Elegantiae, стр. 387.
2623
Абу-л-Махасин, II, стр. 281.
2624
Макризи, Хитат, I, стр. 487.
2625
Там же, стр. 301; Абу-л-Махасин, II, стр. 56.
2626
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 53 и сл.
2627
Мас‘уди, VIII, стр. 336.
2628
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 237.
2629
Насиp-и Хусрау, перевод, стр. 160, 172.
2630
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 52 и сл.
2631
Ebersoll, Le grand palais de Constantinople, стр. 68.
2632
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 138.
2633
Их называли кавашик — «киоски» — см. Абу-л-Касим, стр. 33.
2634
Йатима, II, стр. 253; Шайзари, Джамхарат ал-ислам, л. 77а.
2635
Мукаддаси, стр. 429.
2636
Хамадани, Макамы, Бейрут, стр. 105.
2637
Китаб ал-вузара, стр. 172; Йатима, III, стр. 237; Китаб ал-фарадж, I, стр. 20.
2638
Джахиз, Китаб ал-бухала, стр. 57; Мас‘уди, VIII, стр. 269.
2639
Хамадани, Макамы, Бейрут, стр. 113; Абу-л-Касим, стр. 38; Макризи, Хитат, I, стр. 419.
2640
Китаб ал-вузара, стр. 65.
2641
Макризи, Хитат, I, стр. 420.
2642
Йа’куби, Китаб ал-булдан, стр. 227.
2643
Джахиз, Китаб ал-бухала, стр. 57; посуда из халанджа упоминается также и в стихотворении, см. ‘Икд, III, стр. 296.
2644
Йакут, Иршад, I, стр. 392.
2645
Насиp-и Xусрау, стр. 152.
2646
Йешу Стилит (изд. Райта), § 19.
2647
Nöldеkе, Tabari, стр. 134, прим. 5.
2648
Land, Anecdota, III, стр. 210; Йешу Стилит (изд. Райта), § 75.
2649
Йа‘куби, История, I, стр. 199.
2650
Субки, Табакат, II, стр. 131.
2651
Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 17 — по Замахшари.
2652
Мискавайх, V, стр. 449. Для обозначения раздевальни в бане арабский язык употребляет заимствованное из сирийского слово машлах (Ибн Са‘ид, изд. Талквиста, стр. 43), в то время как сирийцы называли кирпичи именно в бане греческим словом керамиди (Му‘арраб, стр. 116).
2653
Sarre u. Herzfeld, Erster vorläufiger Bericht, стр. 24.
2654
Мас‘уди, III, стр. 29.
2655
Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 17.
2656
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 254.
2657
Та’рих Багдад, стр. 76 и сл.
2658
Там же. Цифра 60 тыс. для бань (там же, стр. 74) звучит фантастически, а цифру 27 тыс. следует отнести к мечетям.
2659
Макpизи, Хитат, II, стр. 80; Ибн Джубайр, стр. 230.
2660
Ибн Джубайр, стр. 230.
2661
Макризи, Хитат, II, стр. 80.
2662
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 74.
2663
Jacob, Altarab. Beduinenleben, стр. 237.
2664
Изнутри они распирались деревянными рейками (Китаб ал-агани, IX, стр. 121; Лубб ал-адаб, берлинск. рук., л. 124б). Передают, что первым, кто перенял этот головной убор, был завоеватель Кандагара при первом Омейяде (Балазури, Футух, стр. 434).
2665
Харун ар-Рашид был против этого нововведения: сообщают, что он прогнал одного поэта, который намеревался прочесть ему свои стихи, украсив голову высокой шапкой: он должен был явиться в арабской одежде и с повязкой на голове (Джахиз, Байан, I, стр. 42). Позднее Му‘тасим, как говорят, будто бы ввел моду на высокие шапки (Мас‘уди, VIII, стр. 302). Около 230/845 г. кади Египта выговорил себе одному право ношения высокой шапки и распорядился, чтобы всем, кто наденет подобную шапку, сбивать ее с головы (Кинди, стр. 460). Странная мода ношения двух поясов, господствовавшая во Франции в XII в., также пришла с Востока (Falckе, Geschichte des Geschmackes, стр. 66).
2666
Мас‘уди, VII, стр. 402.
2667
Там же.
2668
Йакут, Иршад, I, стр. 254; Дабби, Бугйат ал-муталаммис, III, стр. 49. Таухиди (ум. 400/1009 г.) (Фи-с-салака, стр. 11) сообщает: «Некто спросил: „Запускает ли кто из вас свою руку в рукав своего друга и берет ли столько золота или серебра, сколько ему „нужно“? Они отвечали: „Нет!“ На что он возразил: „В таком случае вы не братья!“»
2669
Йакут, Иршад, II, стр. 49.
2670
Там же, I, стр. 399.
2671
Мас‘уди, VI, стр. 345.
2672
Макризи, Хитат, II, стр. 390.
2673
Китаб ал-фарадж, I, стр. 69. Сообщается, что рукава были такие длинные, что кончались ниже кончиков пальцев (Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 90).
2674
Фахри (изд. Альвардта), стр. 298.
2675
Адаб ан-надим, л. 15а.
2676
Самарканди, Бустан ал-‘арифин, стр. 90.
2677
Ибн Xамдун, Тазкира (парижская рук.), л. 148а.
2678
Китаб ал-мувашша, стр. 124; Са‘алиби, Китаб ал-мирва, л. 129б.
2679
Китаб ал-мувашша, стр. 126; Кушаджим, стр. 169; Китаб ал-‘уйун, VI. л. 209.
2680
Тираз ал-мувашша, стр. 202.
2681
Напр., Мискавайх, V, стр. 528; Китаб ал-вузара, стр. 176. От слова шаравил в качестве другого мн.ч. было образовано шаравилат (Китаб ал-мувашша, стр. 125, 15).
2682
Напр., Мискавайх, VI, стр. 308.
2683
В одном лишь Ширазе тайласан был настолько распространенной одеждой, что пьяные путались в его полах, а Мукаддаси не мог появиться в нем перед везиром.
2684
Та’рих Багдад, парижск. рук., л. 15а.
2685
‘Ариб, стр. 182.
2686
Абу-л-Махасин, II, стр. 303.
2687
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 33.
2688
Санаубари, см. Шайзари, Джамхарат ал-ислам, л. 113а.
2689
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 12.
2690
Бухтури, Диван, I, стр. 185.
2691
Мукаддаси, стр. 96.
2692
Китаб ал-агани, IX, стр. 85.
2693
Йатима, III, стр. 34 — из цветного шелка-сырца.
2694
Китаб ал-мувашша, стр. 125; Ибн Хордадбех, стр. 109.
2695
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 66.
2696
Там же, стр. 70.
2697
Абу Нувас, Диван (Каир), стр. 82.
2698
Gebhart, Italie mystique; Тоmаsсhеk, Die Thraker.
2699
Абу Ну‘айм, Та’рих Исфахан, I, л. 108; другие примеры: лл. 108а, 122а; II, л. 25б.
2700
Фихрист, стр. 144.
2701
Glеiсhеn-Russwurm, Elegantiae, стр. 461.
2702
Абу-л-Махасин, II, стр. 203.
2703
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 69а.
2704
Там же, л. 102а. <Кладбище в Багдаде, где были погребены некоторые имамы шиитов, существовало с 149/766 г.— прим. ред.>
2705
Ради, Диван, стр. 666.
2706
Кинди, стр. 203 и сл.
2707
Там же, стр. 266.
2708
Йахйа ибн Са‘ид, л. 115б.
2709
Китаб ал-вузара, стр. 49.
2710
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 137б.
2711
Там же, л. 180б.
2712
Хамадани, Раса’ил, стр. 536 и сл.
2713
<Зарира — ароматический порошок из индийского тростника.— Прим. ред.>
2714
Ибн Шаддад, л. 51а. За эту цитату я приношу благодарность д-ру В. Саразину (W. Sarasin).
2715
Ибн Халликан (изд. Вюстенфельда), II, стр, 23.
2716
Ибн Тагрибирди, стр. 46, по Захаби.
2717
Субки, Табакат, III, стр. 15.
2718
Ибн Башкувал, I, стр. 134; в Испании этот обычай получил, кажется, большее распространение.
2719
Напр., имам ал-Харамайн (Субки, Табакат, II, стр. 257); много лет бывший верховным судьей ‘Абдаллах ибн Ма‘руф (ум. 381/991) (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 336); Исфара’ини, умерший в 406/1015 г. в Багдаде, был перенесен на кладбище лишь в 410/1019 г. (Ибн Халликан, изд. Вюстенфельда, I, стр. 35); му‘тазилитский верховный кади Абд ал-Джаббар из Рея (ум. 410/1019) (Субки, Табакат, I, стр. 220); Кудури (ум. 420/1029) (Ибн Халликан, I, стр. 38).
2720
Кумми, Китаб ал-‘илал, л. 115б. Ихшид и оба его сына были похоронены в Иерусалиме (Кинди, стр. 296).
2721
Примеры см. Йатима, III, стр. 80 и сл.
2722
Там же, стр. 81.
2723
Китаб ал-вузара, стр. 240.
2724
Мустатраф, I, стр. 149 и все более ранние рассказы.
2725
Кумми (ум. 301/991), Китаб ал-‘илал, л. 112; Адаб ан-надим, л. 48б.
2726
Кумми, Китаб ал-‘илал, л. 112б; Адаб ан-надим, л. 48б. Кумми, бывший родом из Хорасана, приводит еще и другой обычай: омовение после еды начинать справа от дверей, причем, безразлично, будет то раб или свободный.
2727
Адаб ан-надим, л. 48б.
2728
Байхаки, стр. 497; Мас‘уди, VIII, стр. 104.
2729
Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 67.
2730
Ибн ал-Асир, IX, стр. 85.
2731
Йакут, Иршад, VI, стр. 105.
2732
Адаб ан-надим, л. 48б.
2733
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 6.
2734
Различные точки зрения по этому вопросу см.: Адаб ан-надим, л. 44б и сл.
2735
Там же, л. 45.
2736
Са‘алиби, Китаб ахсан, стр. 103.
2737
Тhа‘аlibi, ‘Umad el-mansub, VIII, стр. 518. По пятницам резали больше всего скота и больше всего ели (Джахиз, Китаб ал-бухала, стр. 121), по субботам доедали остатки и в первую очередь голову, поэтому в Испании еще долгое время после мусульманской эпохи по субботам ели бараньи головы (Mendoza, Lazarillo de Tormes, стр. 31).
2738
Китаб ал-мувашша, стр. 129 и сл.
2739
Йатима, II, стр. 120.
2740
Фихрист, стр. 145.
2741
Ибн ал-Кифти, стр. 331 и сл.
2742
Xамдани, стр. 198.
2743
Абу-л-Касим, стр. XXXIX и сл.
2744
Мaс‘уди, VIII, стр. 392 и сл.
2745
Мутанабби, Диван, стр. 18.
2746
<Она называлась еще «глина из Нишапура», подробно описана у Ибн Байтара.— Прим. англ. перев.>
2747
Китаб ал-мувашша, стр. 131 и сл.: Абу-л-Касим, стр. 48 и сл.
2748
Табари, Анналы, III, стр. 552.
2749
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 64.
2750
Мукаддаси, стр. 200.
2751
Макризи, Хитат, I, стр. 490.
2752
Зинад ал-вари‘, л. 63а.
2753
Rоhlfs, Mein erster Aufenthalt in Marokko, стр. 75.
2754
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 49б; Абу-л-Махасин, II, стр. 256.
2755
Мискавайх, V, стр. 424; Абу-л-Махасин, II, стр. 254.
2756
Сули, Аурак, стр. 63.
2757
Мас‘уди, VIII, стр. 390.
2758
Китаб ал-фарадж, I, стр. 11.
2759
Йатима, II, стр. 106.
2760
Йакут, Иршад, V, стр. 260 и сл.
2761
Ибн Са‘ид, стр. 40.
2762
Мутанабби, Диван, стр. 50.
2763
Ибн Са‘ид, л. 118а.
2764
Адаб ан-надим, л. 32а.
2765
Абу Нувас, Диван (Каир), стр. 356, 358.
2766
Мухадарат ал-удаба, 1, стр. 428.
2767
Там же, стр. 429.
2768
Йатима, II, стр. 170.
2769
Санаубари, см. Шайзари, Джамхарат ал-ислам, л. 113а.
2770
Китаб ал-мувашша, стр. 131; Йатима, II, стр. 40.
2771
Йатима, III, стр. 129.
2772
Ибн ал-Му‘тазз, (Диван, II, стр. 118) называет лиру, лютню, цитру (канун), флейту. Танухи (Мустатраф, II, стр. 144, на полях) — лютню, гитару (танбур), флейту и лиру. О танцевальных мелодиях, которые частично носили те же названия, что и музыкальные тональности (хафиф, рамал, хазадж, хафиф ас-сакил ал-аввал), частично же имели характер пантомим — «танец верблюда», «танец мяча», см. Мас‘уди, VIII, стр. 100 и сл.
2773
Китаб ал-вузара, стр. 193.
2774
Мухадарат ал-удаба, I, стр. 443. <О Мушарике см. Ribera, Music in Ancient Arabia and Spain, стр. 56 и сл.— Прим. англ. перев.> <Об арабской музыке см. также: Farmer, A History of Arabian Music; Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments и др.— Прим. перев.>
2775
Ибн Тайфур, л. 74а.
2776
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 44б.
2777
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 115б.
2778
Абу-л-Касим, стр. 78 и сл. Слово тараб — «экстаз», вероятно, образовано позднее от таба — «блаженствовать».
2779
Ибн Тайфур, л. 43а.
2780
Адаб ан-надим, л. 43; Мас‘уди, VI, стр. 133.
2781
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 63.
2782
Адаб ан-надим, л. 40б.
2783
Мас‘уди, VI, стр. 132.
2784
Ибн Са‘ид (изд. Талквиета), стр. 33.
2785
Мутанабби, Диван, стр. 160 и сл.
2786
Михлат, стр. 186.
2787
Силсилат ат-таварих, II, стр. 41. Даже и в самой Срединной Стране он совсем недавно вошел в употребление и лишь в 793 г. н.э. был впервые обложен налогом (Рfizmaier, SBAW Wien, 67, стр. 422).
2788
Mас‘уди, II, стр. 84.
2789
‘Ариб, стр. 61.
2790
Байхаки, стр. 447.
2791
Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 71.
2792
Макризи, Хитат, II, стр. 36.
2793
Китаб ал-фарадж, I, стр. 15.
2794
Йатима, II, стр. 47, ‘Адуд ад-Даула создал монополию на производство льда и шелка (Ибн ал-Асир, IX, стр. 6 — согласно «Таджи», сочинению Саби, современника ‘Адуд ад-Даула). Если только вместо слдж («лед») не следует читать млх («соль»).
2795
Танухи (ум. 384/994), Китаб нишвар, см. Мустатраф, II, стр. 143 и сл., на полях.
2796
Субки, Табакат, II, стр. 172; вариант см. Мухадарат ал-удаба, I, стр. 447.
2797
Маc‘уди, VIII, стр. 311. В качестве шахматной доски служила красная кожа (там же, стр. 316; Ибн Тайфур, л. 112б). Наряду с принятыми у нас квадратными досками Мас‘уди описывает в 332/943 г. еще и прямоугольную доску, круглую — «румскую», по которой 7 планет передвигались по двенадцати знакам Зодиака (там же, стр. 313 и сл.).
2798
Фихрист, стр. 131; Мас‘уди, VIII, стр. 314.
2799
Мухадарат ал-удаба, I, стр. 448.
2800
Там же, стр. 449.
2801
Абу-л-Касим, стр. 93 и сл.
2802
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 35б.
2803
Мас‘уди, VIII, стр. 318 и сл.; Мухадарат ал-удаба, I, стр. 449.
2804
Самарканди, Куррат ал-‘уйун, стр. 122 и сл.
2805
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 3б.
2806
См. Дамири, под словом хайл.
2807
Кинди, стр. 402.
2808
Там же, стр. 203.
2809
Макризи, Хитат, I, стр. 316.
2810
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 18.
2811
Мас‘уди, IV, стр. 25.
2812
Goldziher, AfR, VIII, стр. 422.
2813
Гузули, Матали‘ ал-будур, II, стр. 260.
2814
Ибн Тайфур, л. 98а; Ибн Хамдун, Тазкира, л. 25а; Мас‘уди, VIII, стр. 230, 379.
2815
Ибн ал-Хаджжадж, Диван, стр. 141.
2816
Мас‘уди, VIII, стр. 379.
2817
Schwarz, Turkestan, стр. 290.
2818
Напр., Ибн Тайфур, л. 38а.
2819
Китаб ал-агани, III, стр. 100.
2820
Там же, VI, стр. 70.
2821
Ради, Диван, стр. 3.
2822
Маварди, стр. 404.
2823
Сомнительное слово; следует читать: да‘ийан лаху.
2824
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 30.
2825
Наглядное описание этой игры греческим автором см.: Quatremère, Hist. des Mameloucs, I, стр. 11 и сл. «Поло» — назывался мяч, перс.-араб. кура, а сауладжан — бита.
2826
Китаб ал-вузара, стр. 138.
2827
Абу-л-Махасин, II, стр. 38. В 315/927 г. наместник Джурджана упал при этом с лошади и умер (Зубдат ал-фикра, л. 203а).
2828
Табари, Анналы, III, стр. 1327.
2829
Ибн Кутайба, ‘Уйун ал-ахбар, стр. 166,— согласно «Китаб ал-‘уйун».
2830
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 34б.
2831
Охотничье стихотворение называлось тардиййа. Корень трд стал употребляться для выражения «охотиться» лишь позже. Лейн доказывает это значение только по Замахшари. Это, пожалуй, сирийское заимствование; западные сирийцы говорили вместо сад — «охотиться», тад (Barhebraeus, Buch der Strahlen, стр. 30).
2832
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 71а; для Сирии — охотничьи стихи Мутанабби.
2833
Макризи, Хитат, I, стр. 316.
2834
Китаб ал-фарадж, II, стр. 70 и сл.
2835
Абу-л-‘Ала, Письма, письмо V.
2836
Китаб ал-агани, X, стр. 130.
2837
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 44б.
2838
Абу-л-Махасин, II, стр. 60.
2839
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 53.
2840
Йакут, Иршад, II, стр. 412; Макризи, Хитат, I. стр. 319.
2841
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 81а: ла ’ухриджанна уммак фи-л-хаййал.
2842
Мусаббихи (ум. 420/1029), см.: Макризи, Хитат, I, стр. 207.
2843
Мас‘уди, VIII, стр. 161 и сл. Этот анекдот слился уже в «Мустатрафе» (II, стр. 203), с имеющей больше притягательной силы личностью Харуна ар-Рашида. О других актерах-мимах рассказывают Джахиз (Байан, I, стр. 31) и Са‘алиби (Тhа‘аlibi, ‘Umad el-mansub, V).
2844
Йатима, II, стр. 142; Tha‘alibi, ’Umad el-mansub, V.
2845
Maltzan, II, стр. 119.
2846
Sachau, Am Euphrat und Tigris, стр. 65 и сл.
2847
Мусаббихи, по Макризи, Хитат, I, стр. 207.
2848
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 15аб; см. также гл. 23 — «Праздники».
2849
<Эта глава была напечатана под заглавием «Von der muhammedanischen Stadt im 4. Jahrhundert», см. ZA, Bd 27.— Прим. nepeв.>
2850
Мукаддаси, стр. 35, 47. Психологическая классификация городов имеется в разных местах, но самый обширный перечень, известный в наше время, мы находим в «Та’рих Багдад», парижск. рук., л. 15а: искусное мастерство характерно для Басры, красноречие — для Куфы, привольная жизнь — в Багдаде, вероломство отличает Рей, зависть — Герат, порок характерен для Нишапура, скупость — для Мерва, гордость — для Самарканда, рыцарство — для Балха и торговля развита в Мисре.
2851
Мукаддаси, стр. 282.
2852
Истахри, стр. 58.
2853
В данном случае шафи‘иты проявляли особенную строгость. Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 155.
2854
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 76, где перепутаны местами число бань и число мечетей. Согласно Йа‘куби (Китаб ал-булдан, стр. 254), восточная сторона столицы имела в X в.х. 15 тыс. мест для моления, а западная часть (там же, стр. 250) насчитывала их 30 тыс.
2855
<См. Levy, A Baghdad Chronicle, стр. 458; ср. Le Strange, Baghdad, стр. 320.— Прим. англ. перев.>
2856
Та’рих Багдад, парижск. рук., л. 15а.
2857
Истахри, стр. 49.
2858
<Добавлено по данным англ. перевода, стр. 410.— Прим. перев.>
2859
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 364; Мукаддаси, стр. 117.
2860
Мукаддаси, стр. 198 и сл.
2861
Насиp-и Хусрау, стр. 145.
2862
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 64.
2863
<Lе Strange, Baghdad, стр. 125, 126.— Прим. англ. перев.>
2864
Ибн Джубайр, стр. 230.
2865
Абу-л-Касим, стр. 87.
2866
Тухфа ал-бахиййа, стр. 37.
2867
Ибн Хаукал, стр. 83.
2868
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 72.
2869
Там же, стр. 65, 67.
2870
Ибн Азари, II, стр. 247.
2871
Истахри, стр. 49; Ибн Хаукал, стр. 95; Мукаддаси, стр. 198.
2872
Насиp-и Хусрау, стр. 50.
2873
Ибн Xаукал, стр. 77.
2874
Насиp-и Хусрау, стр. 50.
2875
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 266.
2876
Насиp-и Хусрау, стр. 45.
2877
Позднее Каиру не удалось избежать участи большого города, и Ибн Са‘ид жалуется в VIII в.х. на узкие, темные и грязные улицы Каира с их высокими домами, между которыми не проникает ни воздух, ни свет (Макризи, Хитат, I, стр. 366).
2878
Макризи, Хитат, II, стр. 161.
2879
Йакут, Словарь, IV, стр. 58.
2880
Мукаддаси, стр. 207.
2881
Насиp-и Xусрау, стр. 44.
2882
Макризи, Хитат, II, стр. 108, по Мусаббихи.
2883
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 250.
2884
Табари, Анналы, III, стр. 1440.
2885
Китаб ал-вузара, стр. 286. <См. также Bowen, Life and Times of Ali ibn Isa, стр. 428.— Прим. англ. перев.>
2886
Истахри, стр. 209; Ибн Хаукал, стр. 339.
2887
Там же, стр. 216, 366.
2888
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 274.
2889
Насир-и Xусрау, стр. 278 (прим. Шефера).
2890
Истахри, стр. 256; Ибн Хаукал, стр. 312; Йакут, Словарь, IV, стр. 857. О подземных водопроводах в не имеющих каналов областях современной Персии см.: Grоthe, Persien, стр. 103; Hedin, Zu Land nach Indien, I, стр. 184.
2891
Мукаддаси, стр. 304.
2892
Йакут, Словарь, I, стр. 648; ‘Уйун ал-ахбар, стр. 265.
2893
Джахиз, Байан, I, стр. 31.
2894
Ибн Са‘ид, стр. 33. В 440/1048 г. Насир-и Хусрау (стр. 53) сообщает о 50 тыс. наемных ослов в Мисре.
2895
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 73.
2896
Ибн Хаукал, стр. 309.
2897
Китаб ал-вузара, стр. 76.
2898
Йакут, Иршад, I, стр. 130.
2899
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 248 и сл. <Рустак> Карха распадался на 12 «деревень» (карйа),— Китаб ал-вузара, стр. 258.
2900
Там же, стр. 158.
2901
Маварди, стр. 404 и сл.
2902
Макризи, Хитат, I, стр. 463.
2903
Саби, Раса’ил, стр. 113.
2904
‘Ариб, стр. 147; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 165.
2905
Хамадани, Макамы (Бейрут), стр. 162.
2906
Танухи, Китаб ал-фарадж, I, стр. 19.
2907
Хамадани, Макамы (Бейрут), стр. 160.
2908
Китаб ал-агани, XIX, стр. 147.
2909
Силсилат ат-таварих, стр. 42. В Египте уже в очень раннюю эпоху ислама существовала крайне строгая паспортная система, регламентировавшая передвижение внутри страны (Becker, Papyri Schott-Reinh., I, стр. 40); из Египта Тулунидов также нельзя было выехать без пропуска (джаваз) (Ибн Са‘ид, Мугриб, стр. 52).
2910
Мукаддаси, стр. 429.
2911
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 8а.
2912
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 46.
2913
Там же, стр. 50. Шильтбергер (Schiltberger, Bibl. des literat. Vereins, стр. 50) считал византийских священников в мусульманской империи держателями кабачков. Между прочим, и нам в сирийских деревнях приносил вино христианский священник, спрятав его под полой.
2914
Йакут, Иршад, I, стр. 291.
2915
Абу Салих, л. 49а.
2916
Уже в IV в. н.э. в Иерусалиме обычно в этот день «дети опускались с Елеонской горы, держа в руках ветви пальмы и оливкового дерева» (Silviae peregrinatio, стр. 91). Еще и в наше время у маронитов в день Вербного воскресенья в церковь приносят разукрашенное оливковое дерево, которое предают затем с торгов. Тот, кому оно досталось, сажает на него своего сына или какого-нибудь другого мальчика и обносит его под ликующие крики народа вокруг церкви. После этого все присутствующие набрасываются на это дерево, чтобы раздобыть себе ветки «ради благословения». Копты сплетают пальмовые и оливковые ветви в одну большую оливу, которую патриарх возлагает на алтарь в Вербное воскресенье, затем обносит ее по всем четырем углам церкви, где всякий раз перед ней читается из Евангелия о Вербном воскресенье. Процессия с оливковым деревом обходит также и вокруг монастырских мельниц и пекарен (Шайху, «Машрик», VIII, стр. 342). В западной церкви в день Вербного воскресенья святят елей.
2917
Mакризи, Хитат, I, стр. 264.
2918
Китаб ал-агани, XIX, стр. 138.
2919
Йахйа ибн Са‘ид, стр. 194.
2920
Там же. Специфически христианским был обычай надевать в этот праздник белые одежды (Ради, Диван, стр. 917).
2921
Рази, стр. 574.
2922
Название монеты, равна 1/40 динара.
2923
Макризи, Хитат, I, стр. 450.
2924
Там же, стр. 157.
2925
Там же, стр. 266; Ибн ал-Хаджж, Мудхил, стр. 305.
2926
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 4б.
2927
Там же, л. 8а; Бируни, Хронология, стр. 310.
2928
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 18аб; Бируни, Хронология, стр. 310.
2929
Kitab alsin ect. Florenz Laurent., f. 99a.
2930
Биpуни, Хронология, стр. 291.
2931
Иза джа’а ‘ид барбара, ла-йаттахиз ал-банна заммара,— Мукаддаси, стр. 182.
2932
Там же, стр. 45.
2933
Китаб ал-‘илал, л. 31а.
2934
Мискавайх, V, стр. 479.
2935
<Мас‘удовский канон» — сочинение Бируни Ал-канун ал-Мас‘уди фи-л-хай’а ва-н-нуджум, ок. 421/1030 г.— Прим. перев.>
2936
Бируни, Хронология, стр. 213.
2937
Ибн ал-Аcир, VIII, стр. 222 и сл.; Абу-л-Фида, Анналы, год 323.
2938
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 192б.
2939
Бируни, Хронология, стр. 226.
2940
Мискавайх, V, стр. 479 и сл.; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 222 и сл.; Абу-л-Фида, Анналы, год 323, который говорит, что было убито 100 лошадей и 2000 голов скота.
2941
Макризи, Хитат, I, стр. 205.
2942
Ибн Са‘ид, Мугриб, стр. 196.
2943
Мас‘уди, II, стр. 364 и сл.
2944
Макризи, Хитат, II, стр. 96.
2945
Мусаббихи (ум. 420/1029) см.: Becker, Beiträge, I, стр. 62.
2946
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 37б.
2947
Kармали, «Машрик», IX, стр. 200.
2948
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 1а.
2949
Мусаббихи, см. Макризи, Хитат, I, стр. 207.
2950
Там же, II, стр. 245.
2951
Там же, I, стр. 69.
2952
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 22б.
2953
Бируни, Хронология, стр. 217.
2954
Макризи, Хитат, I, стр. 268 и сл.
2955
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 15аб.
2956
Табари, Анналы, III, стр. 2144.
2957
Бируни, Хронология, стр. 215, 218.
2958
Julien, JA, I, стр. 58.
2959
Кинди, стр. 294; Макризи, Хитат, I, стр. 266. «В августе в Египте Новый год, когда люди зажигают огни и льют воду»,— «Календарь Кордовы на 961 г.», стр. 85.
2960
Макризи, Хитат, I, стр. 269, 493.
2961
Так же и в Европе: Сатурналии — время между Рождеством и Днем богоявления (Крещение — 9 января) и т.п. В некоторых местностях Германии на 4-й день Рождества дети бьют родителей, а в Болгарии на Новый год — слуги своих господ.
2962
Бируни, Хронология, стр. 266.
2963
Кармали, «Машрик», III, стр. 668.
2964
Мас‘уди, III, стр. 413 и сл.; Tha‘alibi, ‘Umad el-mansub, VI, стр. 389; Бируни, Хронология, стр. 211; Дамири, Хайат ал-хайаван, I, стр. 127.
2965
Бируни, Хронология, стр. 223; Йатима, IV, стр. 65; Кушаджим, Диван — часто.
2966
Мас‘уди, III, стр. 404; Суккардан ас-султан, стр. 163.
2967
Йатима, II, стр. 58.
2968
Для Северной Персии — Ибн ал-Асир, IX, стр. 41; для Египта — Макризи, Хитат, I, стр. 490.
2969
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 68б.
2970
Макризи, Хитат, I, стр. 488. <Кальюб — ок. 9 км на северо-запад от Каира.— Прим. перев.>
2971
Табари, Анналы, III, стр. 1170.
2972
Китаб ал-агани, III, стр. 62.
2973
Мусаббихи (ум. 420/1029), см. Becker, Beiträge, I, стр. 70 и сл.; Ср. Насир-и Хусрау, стр. 158; Макризи, Хитат, I, стр. 387; Абу-л-Махасин, II, стр. 473 и сл.
2974
Та’рих Багдад, парижск. рук., л. 14б; Абу-л-Махасин, II, стр. 67.
2975
Мукаддаси, стр. 183.
2976
Йатима, XII, стр. 36.
2977
Wüstenfeld, AGGW, 37, № 126; Макризи, Хитат, I, стр. 432.
2978
3аркани, I, стр. 164. На устроенное им торжество устремилось множество богословов, суфиев, проповедников, чтецов Корана и поэтов из Багдада, Мосула, Джезиры, Синджара, Нисибина, а также из Персии, и они оставались в Арбеле с мухаррама до начала раби‘ I. Эмир велел выстроить на главной улице около 20 деревянных балаганов в 4-5 этажей, которые были роскошно украшены и сверху донизу заняты певцами, актерами теневого театра и музыкантами. В эти дни народ ничем не занимался и лишь ходил вдоль балаганов, любуясь представлениями. В самую ночь маулида эмир проехал по этой улице, и перед ним колыхалось множество горящих свечей, укрепленных на спинах мулов. Завершился праздник парадом и торжественным угощением (Ибн Халликан, изд. Вюстенфельда, стр. 16).
2979
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 10б.
2980
Китаб ал-‘уйун, IV, л. 252а.
2981
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 64а и сл.
2982
Там же, л. 66б.
2983
Зубдат ал-фикра, л. 192а.
2984
Китаб ал-агани, V, стр. 119; см. гл. 26 — «Торговля». В Багдаде соответственно существовавшим обычаям первым блюдом свадебного пира всегда была хариса — нечто вроде рубленого мяса (Ибн ал-Хаджжадж, Диван. X, стр. 79). Разбрасывание конфетти (нуcap) было также специфически свадебным обычаем (Йатима, II, стр. 20).
2985
Йакут, Иршад, I, стр. 141.
2986
Йакут, Иршад, I, стр. 370. Богатые люди держали своего собственного цирюльника (Мискавайх, VI, стр. 247).
2987
<В.В. Бартольд особо отметил это замечание А. Меца. См. «Ученые мусульманского „ренессанса“», стр. 3 — Прим. перев.>
2988
Ризкаллах, «Машрик», 1908, стр. 614.
2989
Йахйа ибн Адам, стр. 86.
2990
Hirth and Rockhill, стр. 137, 144. Уже Страбон (XV, 1) упоминает о выращивании риса в Месопотамии, однако эта культура, должно быть, не имела важного значения, так как, судя по Талмуду, рис вообще не играл никакой роли, во всяком случае он не упоминается в книге Крауса (Krauss, Talmudische Archäologie). Зерновая культура, возделывавшаяся в Сирии до месопотамской пшеницы, называлась камх и упоминается в Ветхом Завете наряду с хитта, вавилонской пшеницей, которая под этим же названием пришла в Египет (Kremer, SBAW Wien, 117). В арабскую эпоху в Сирии пшеница называлась камх, в Вавилонии — хинта, в Аравии — дурр (Джахиз, Байан, I, стр. 9), где последнее примыкает, пожалуй, к дурра — «просо», греч. дарата — «хлеб», староперс. дурва — сорт проса. Еще и в наши дни по всей Сирии мы встречаем только камх, а в Пальмире, месте стыка двух наречий, вдруг неожиданно появляется месопотамское хунта.
2991
Ибн Хаукал, стр. 173.
2992
Там же, стр. 272.
2993
Мукаддаси, стр. 203. ‘Абд ал-Латиф (стр. 23) видел этот плод также и под Дамаском, где он встречается не часто.
2994
<Таро, или колоказия (также кало),— египетский съедобный корень.— Прим. перев.>
2995
Мукаддаси, стр. 203.
2996
‘Абд ал-Латиф, стр. 23.
2997
Ибн ал-Хаджж, Мудхал, III, стр. 143.
2998
Хазз ал-кухуф, стр. 160.
2999
Маварди, стр. 304.
3000
Ибн ал-Факих, стр. 125.
3001
Там же.
3002
Страбон, XV, 3.
3003
Хваризми, Раса’ил, стр. 49.
3004
Истахри, стр. 266.
3005
Ибн Хаукал, стр. 124.
3006
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 65аб.
3007
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, II, стр. 106, 119.
3008
Мас‘уди, II, стр. 438 и сл.; Макризи, Хитат, I, стр. 28.
3009
Мас‘уди, VIII, стр. 366.
3010
Мукаддаси, стр. 181.
3011
Ибн Хаукал, стр. 228.
3012
Мукаддаси, стр. 482.
3013
Йатима, III, стр. 82.
3014
Дамири, Хайат ал-хайаван, II, стр. 30 и сл. В «Календаре Кордовы на 961 г.», где говорится о сортах плодов Испании, нет ни наранджа, ни лимона (лимуна).
3015
Макризи, Хитат, II, стр. 237.
3016
Самарат ал-аурак, II, стр. 244,
3017
Йатима, II, стр. 47.
3018
Tha‘alibi, ‘Umad el-mansub, VlII, стр. 524. Злые языки жителей Багдада называли одно стихотворение Ибн ар-Руми, в котором встречается много названий местностей, «арбузным домом» (Фахри, изд. Альвардта, стр. 299). А Ибн Ланкак поносит одного человека так: он сын всего света, а имя его отца — всего лишь сокращение, подобное «арбузному дому», в котором лежат все сорта плодов (Йатима, II, стр. 122).
3019
Истахри, стр. 262.
3020
Mарко Поло, I, 24.
3021
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 129. Ныне Мерв в значительной части пустыня, однако дыни Бухары, лежащей приблизительно там же, знамениты. «Мне рассказывали, что департамент земледелия в Вашингтоне ввез в Соединенные Штаты дыни бухарских сортов, затем были произведены скрещивания, и теперь эти дыни — лучшие в Штатах» (Вussе, Bewässerungswirtschaft in Turan, стр. 241).
3022
Китаб ал-вузара, стр. 257.
3023
Мас‘уди, VIII, стр. 270.
3024
Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 229.
3025
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 95.
3026
Вussе, Bewässerungswirtschaft in Turan, стр. 316.
3027
В то время как сегодня граница распространения фиников проходит через ‘Ана на Евфрате и Текрит на Тигре, тогда Синджар был еще городом финиковой пальмы (Ибн Xаукал, стр. 149; Мукаддаси, стр. 142).
3028
Мукаддаси, стр. 228. «В Вади Дра‘а финики настолько дешевы, что в урожайные годы их можно иметь за полдинара верблюжий вьюк (ок. 3 ц)». Rоhlfs, Mein erster Aufenthalt in Marokko, стр. 442.
3029
Мукаддаси, стр. 469.
3030
Идриси (изд. Дози), стр. 4, 6, 21.
3031
Замахшари, Кашшаф, к суре XXIV, 35.
3032
Мукаддаси, стр. 174.
3033
Мискавайх, V, стр. 47.
3034
Ибн Хаукал, стр. 47.
3035
Fischer, Mittelmeerbilder, Bd I, стр. 432.
3036
Hасиp-и Хусрау, стр. 153. Под Александрией, в средиземноморской области, добывали оливковое масло (Мукаддаси, стр. 197); по Калкашанди (стр. 34) немногие оливки, получаемые в Египте, не перерабатывались на масло — их ели с солью.
3037
Krauss, Talmudische Archäologie, II, стр. 226; Марко Поло, I, 27. Согласно Талмуду, «в Вавилонии также существовала небольшая культура оливы» (Krauss, Talmudische Archäologie, стр. 215).
3038
Мукаддаси, стр. 162, 180. В эпоху крестовых походов венецианцы владели плантацией сахарного тростника под Тиром (Тafel u. Thomas, Urkunden, II, стр. 368).
3039
Führer durch die Ausstellung Rainer, стр. 183.
3040
Насир-и Хусрау, стр. 51.
3041
Мукаддаси, стр. 408.
3042
Байхаки, стр. 623.
3043
Для IV/X в.— «Календарь Кордовы на 916 г.», стр. 25, 41, 91 и Cron. Moro Rasis, см. Mem. Acad., Madrid, VIII, стр. 37, 38, 56.
3044
Хамдани, стр. 198.
3045
Ибн Хаукал, стр. 248; Йакут, Словарь, II, стр. 457; Абу-л-Фида, География, стр. 52. В оз. Ван вода соленая (Lе Strange, Mustawfi, стр. 51).
3046
Идриси (изд. Дози), стр. 168.
3047
Абу-л-Фида, География, II, стр. 215.
3048
Ибн Хаукал, стр. 213. Не «that tasted like beetroot» (Le Strange, The Lands, стр. 258), потому что именно брюква часто привлекается для сравнения с зеленым цветом.
3049
Йатима, IV, стр. 107 — «как комочки камфары».
3050
Истахри, стр. 274.
3051
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 114.
3052
Идриси (изд. Дози), стр. 188.
3053
Канз ал-‘уммал, VI, стр. 191; Кумми, Китаб ал-‘илал, л. 207а.
3054
Истахри, стр. 244.
3055
L.М., RMM, V, 5, стр. 137.
3056
Нirth and Rockhill, стр. 224.
3057
Силсилат ат-таварих, стр. 36; Нirth and Rockhill, стр. 193.
3058
Истахри, стр. 25; Xамдани, стр. 200.
3059
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 366.
3060
<Барка, или Барка ал-Хумра,— местность в Северной Африке на берегу Средиземного моря между 19 и 25° вост. долготы; соответствует древней Киренаике.— Прим. перев.>
3061
Макдиси (изд. и пер. Юара), IV, стр. 72; Бакри (изд. де Слэна), стр. 5.
3062
Ибн Xаукал, стр. 13.
3063
Там же, стр. 328. Уже в VI в. н.э. или в самом начале VI в. индиго было известно китайцам как продукт персидской провинции Цзан (Кабул).— Hirth and Rockhill, стр. 217.
3064
Идриси (изд. Дози), стр. 44. И все же египетское индиго считалось менее качественным, чем индийское (‘Абд ал-Латиф, стр. 36).
3065
Мукаддаси, стр. 180.
<Базан, или Башан (лат. Batanaea),— область древней Палестины западнее Хаурана и южнее Гермона; славилась пшеницей.— Прим. перев.>
3066
Ибн Хаукал, стр. 124; Мукаддаси, стр. 174; Идриси (изд. Бранделя), стр. 5.
3067
Макризи, Хитат, I, стр. 272. О дальнейшей обработке индиго в Индии сообщает Марко Поло (III, 25).
3068
Истахри, стр. 188.
3069
Там же, стр. 190.
3070
Джаухари, Словарь, под словом врс; Са‘алиби, Фикх ал-луга, Каир, стр. 113; Xамдани, стр. 100; Казвини, Космография, II, стр. 76.
3071
<В современном арабском языке варс — желтое дерево (Memeceylon tinctorium).— Прим. перев.>
3072
Табари, Анналы, III, стр. 1449.
3073
Karabаček, Die persische Nadelmalerei, стр. 52 и сл.
3074
Cron. Moro Rasis, стр. 50; Маккари, I, стр. 48.
3075
Traité d’alchimie arabe, см. Berthelot, La Chimie au moyen âge, II, стр. 63, 145, прим. 4.
3076
Ибн Хаукал, стр. 248.
3077
<Под Суданом подразумевается «страна черных» (билад ас-судан) — вся Центральная Африка, далеко на юг и на запад.— Прим. ред.>
3078
Идриси (изд. Дози), стр. 39 и сл.
3079
См. Marquart, Die Beninsammlung, в оглавлении под словом «Salz».
3080
Ибн Хаукал, стр. 337. Однако аммиак добывали также и на вершине горы Демавенд, севернее Тегерана. Им наполняли наверху бычьи шкуры и скатывали их вниз (Насир-и Хусрау, стр. 10).
3081
Richthofen, China, I, стр. 560.
3082
Истахри, стр. 327 и сл.; Ибн Хаукал, стр. 382 и сл.
3083
Ибн Xаукал, стр. 383.
3084
Мас‘уди, I, стр. 347 и сл.
3085
Juliеn, JA, 1, стр. 63.
3086
Richthofen, China, I, стр. 560.
3087
Кашф ал-махджуб, стр. 407.
3088
Friedriсhsen, стр, 246; по сочинению: Klaproth, Tableaux histor., стр. 110.
3089
Gartenflora, XXVII, 1879, стр. 40.
3090
Friеdriсhsen, стр. 247.
3091
Подробнее всего об этом см.: Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 334 и сл.
3092
Отметку делали золой или известью; см. Petachjа, стр. 384. Судя по этому, такой способ обнаружения золотого песка был, кажется, распространен по всему Ближнему Востоку. Совершивший в 1259 г. н.э. путешествие на запад Чан Дэ сообщает: «В Египте (Ми-сы-эр) золото находится в земле. Ночью в определенных местах виден блеск. Люди отмечают их перышком или углем. Когда же они днем начинают копать, то находят большие куски» (Bretschneider, Researches, I, стр. 142).
3093
Идриси (изд. Дози), стр. 26.
3094
Истахри, стр. 288.
3095
Макризи, Хитат, I, стр. 196, 197.
3096
Йакут, Иршад, I, стр. 178.
3097
Идриси (изд. Дози), стр. 6.
3098
Marquart, Die Beninsammlung, стр. CII,— согласно одному португальскому источнику. В оглавлении у Маркварта под словом «Gold» можно найти все достойное изучения о добыче золота и о торговле им на Юге.
3099
Макдиси (изд. и пер. Юара), IV, стр. 73; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 144а; Ибн ал-Асир, IХ, стр. 116.
3100
Ибн Хаукал, стр. 327.
3101
Йакут, Словарь, I, стр. 773 и сл.
3102
Ибн Руста, География, стр. 156.
3103
Истахри, стр. 269.
3104
Ибн Руста, География, стр. 156.
3105
Мукаддаси, стр. 324.
3106
Ибн Xаукал, стр. 214; Ибн ал-Факих, стр. 254.
3107
Мукаддаси, стр. 184; Идриси (изд. Бранделя), стр. 22. О добыче железа в Ливане более точные сведения дает в 1805 г. Зетцен (Seetzen, Reisen, I, стр. 189).
3108
Мукаддаси, стр. 470.
3109
Ибн Xаукал, стр. 328.
3110
Там же, стр. 384.
3111
Мукаддаси, стр. 239.
3112
Идриси (пер. Жобера), I, стр. 65.
3113
Мискавайх, VI, стр. 264; Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 94б.
3114
Идриси (изд. Дози), стр. 213; Димашки, Махасин ат-тиджара, стр. 29.
3115
Ибн Хаукал, стр. 362, 397.
3116
Мукаддаси, стр. 303; Марко Поло, I, 40.
3117
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 116.
3118
Китаб ал-джамахир, стр. 347.
3119
Там же, стр. 352.
3120
Димашки, Махасин ат-тиджара, стр. 16. Benvenuto Cellini, II, 13: «И вот измыслили они себе, что хотят они подмешивать к пище только толченый алмаз, который сам по себе не есть сорт яда, но из-за своей неоценимой твердости сохраняет наиострейшие уголки, не так как другие камни, которые, когда их толкут, приобретают до известной степени округлую форму. Попадает он [алмаз] с прочей пищей, такой острый и колючий, в тело, он цепляется во время пищеварения к слизистым желудка и кишечника и постепенно, когда пища на него давит, продырявливает со временем их части и от этого умирают; в то время как всякий прочий сорт камня или стекло не обладают такой силой цепляться и проходят вместе с пищей».
3121
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 15; Марко Поло (стр. 93) упоминает также и керманскую бирюзу.
3122
Fraser, Journey into Khorasan, стр. 407 и сл. По данным Grothe, Persien, стр. 19, Брикто (Briсteux, Au pays du lion, стр. 254-255) дает описание современных разработок бирюзы под Нишапуром.
3123
Димашки, Махасин ат-тиджара, стр. 16,— относится, пожалуй, к VI/XII в.
3124
Там же, стр. 47.
3125
Мукаддаси, стр. 101.
3126
Ибн Хаукал — под Бадахшаном.
3127
Марко Поло, I, гл. 27.
3128
Макризи, Хитат, I, стр. 196,— по Джахизу.
3129
Мас‘уди, III, стр. 43 и сл. Индия доставляла смарагд более низкого качества. Там же, стр. 47.
3130
Там же, стр. 33.
3131
Xамдани, стр. 203.
3132
Мас‘уди, IV, стр. 97; Мукаддаси, стр. 226; Бируни, Китаб ал-джамахир, стр. 317. По данным китайца Чжао Жу-гуа (ок. 1300 г. н.э.), места добычи коралла находятся также на западе Средиземного моря (Нirth and Rосkhill, стр. 226).
3133
Ибн Хаукал, стр. 51.
3134
Мукаддаси, стр. 226; Идриси (изд. Дози), стр. 116.
3135
Идриси (изд. Дози), стр. 168.
3136
Бируни, Китаб ал-джамахир, стр. 317.
3137
Марко Поло, I, гл. 29.
3138
Hartmann, Chinesisch-Turkestan, стр. 63.
3139
Нirth and Rоckhill, стр. 229.
3140
Мас‘уди, I, стр. 328; Идриси (пер. Жобера), I, стр. 373 и сл.; Palgrave, см. Zehme, Arabien, стр. 208. Вениамин Тудельский (стр. 89) ошибается, указывая октябрь, как начало ловли.
3141
‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 135; Идриси, I, стр. 373.
3142
Вениамин Тудельскиий, стр. 90.
3143
Zehme, Arabien, стр. 208; Grothe (Persien, стр. 19) упоминает небольшую монографию Perez, Six semaines de dragages.
3144
Хизанат ал-адаб, I, стр. 544; перевод см. Lуаll, JRAS, 1902, стр. 146 и сл.
3145
Мас‘уди, I, стр. 329 и сл.
3146
Бируни, Индия (пер. Захау), I, стр. 211.
3147
Идриси (пер. Жобера), I, стр. 373 и сл.
3148
Вениамин Тудельский, стр. 80.
3149
Hirth and Rockhill, стр. 209 и сл.,— согласно Лин вай дай-да (написано в 1174 г. н.э.).
3150
Bretschneider, Researches, I, стр. 145.
3151
Мас‘уди, III, стр. 8.
3152
Hirth and Rосkhill, стр. 232.
3153
Mас‘уди, III, стр. 8.
3154
Там же, стр. 2.
3155
Мукаддаси, стр. 180, 203; Вениамин Тудельский, стр. 30; Истахри, стр. 24, 35.
3156
Мукаддаси, стр. 100.
3157
Джахиз, Манакиб, стр. 71.
3158
Истахри, стр. 312.
3159
Мукаддаси, стр. 283.
3160
Истахри, стр. 268.
3161
См. гл. 29 — «Морское судоходство», стр. 401.
3162
Истахри, стр. 63.
3163
Идриси (изд. Дози), стр. 190, 280.
3164
Ибн Хаукал, стр. 272.
3165
Истахри, стр. 212.
3166
Мукаддаси, стр. 470.
3167
Ибн ал-Факих, стр. 254.
3168
Для Туркестана см. Busse, Bewässerungswirtschaft in Turan, стр. 55.
3169
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 63.
3170
Мискавайх, VI, стр. 376.
3171
Там же, стр. 219.
3172
Мафатих ал-‘улум, стр. 68.
3173
Истахри, стр. 261 и сл.; Мукаддаси, стр. 330.
3174
Мафатих ал-‘улум, стр. 68 и сл. <Автор подставляет в оригинал «локоть», в то время как указанное здесь ша‘ира (ячменное зерно) много меньше локтя.— Прим. проф. Марголиуса.>
3175
Мукаддаси, стр. 231.
3176
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 274; Мукаддаси, стр. 329; Насир-и Xусрау, стр. 278.
3177
О современных кяризах см.: Вussе, Bewässerungswirtschaft in Turan, стр. 321 и сл.; Неdin, Zu Land nach Indien, I, стр. 184; Grоthe, Persien, стр. 105.
3178
Мафатих ал-‘улум, стр. 71.
3179
Йa‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 313.
3180
Джаухари, Словарь, под словом длв.
3181
Мукаддаси, стр. 411, 444.
3182
Табари, Анналы, I, стр. 827; Табари-Нёльдеке, стр. 33, прим. 2.
3183
Мукаддаси, стр. 444.
3184
Там же, стр. 411; Абу Дулаф — см. Йакут, Словарь, I, стр. 411, 412.
3185
Хамдани, стр. 138.
3186
Ибн Руста, География, стр. 112.
3187
Вussе, Bewässerungswirtshaft in Turan, стр. 111.
3188
Schwarz, Turkestan, стр. 341 и сл.; Вussе, Bewässerungswirtschaft in Turan, стр. 32.
3189
Middendоrf.
3190
Ибн Хаукал, стр. 371.
3191
Sykes, A travers la Perse, стр. 193.
3192
Истахри, стр. 244.
3193
Sykes, A travers la Perse, стр. 193; Hedin, Zu Land nach Indien, II, стp. 331.
3194
Mукаддаси, стр. 206.
3195
Там же.
3196
Макризи, Хитат, II, стр. 185.
3197
Мукаддаси, стр. 206.
3198
Насиp-и Xусрау, стр. 118.
3199
Мукаддаси, стр. 357; BGA, IV, стр. 288.
3200
Бакри (изд. де Слэна), стр. 48. В наши дни в Сусе период, в течение которого каждая семья имеет право орошать свое ноле, определяется отрезком времени, необходимым для того, чтобы имеющая отверстия миска погрузилась на дно большой бочки с водой (Zеуs, Une Française au Магос, стр. 79).
3201
Ибн Хаукал, стр. 299.
3202
Йакут, Словарь, I, стр. 86.
3203
'Абд ал-Латиф, стр. 3.
3204
Йакут, Иршад, V, стр. 306.
3205
Ибн ал-Балхи (ок. 500/1107), JRAS, 1912, стр. 329.
3206
dе Gоеjе, Carmathеs, стр. 29.
3207
Schwarz, Turkestan, стр. 365.
3208
Buсhser, Marokkanische Bilder, стр. 66.
3209
dе Goeje, Mémoires, 3, стр. 22 и сл. Под Антиохией умер в 270/883 г. от неумеренного потребления молока буйволиц Ахмед ибн Тулун — правитель Египта и Сирии (Абу-л-Фида, Анналы, год 270). В IV/X в. молоко буйволиц употреблялось также и в Палестине (Мукаддаси, стр. 181).
3210
Мукаддаси, стр. 116. Эта перемена (приписывалась ал-Хаджжаджу, который, как передают, запретил убой крупного рогатого скота (Ибн Хордадбех, стр. 15).
3211
Ибн Xаукал, стр. 208.
3212
Абу-л-Касим. Киргизы также находятся под влиянием арабской медицины: «Говядину богатый киргиз не ест, а бедный — лишь весьма неохотно. Киргизы утверждают, что говядина переваривается с трудом, а потому в высшей степени нездорова: она вызывает давление под ложечкой и головные боли» (Radlоff, Sibirien, II, стр. 439).
3213
Тибб ал-фукара, л. 68.
3214
Ибн Руста, География, стр. 112.
3215
Glaser, см. Jacob, Altarab. Beduinenleben, стр. 84.
3216
Бакри (изд. де Слэна), стр. 5.
3217
Истахри, стр. 280.
3218
Мукаддаси, стр. 482; Джаухари, Словарь, под словом флдж.
3219
Мас‘уди, III, стр. 4 и сл. О выносливости джаммазат см. гл. 28 — «Сухопутные сообщения».
3220
Мукаддаси, стр. 145.
3221
Марко Поло, стр. 91, 454.
3222
Бакри (изд. де Слэна), стр. 148. См. Marquart, Die Beninsammlung, стр. CLXVII, который выводит из этого названия наименование Канарских островов.
3223
‘Абд ал-Латиф, стр. 135 и сл. В прим. 3 де Саси собрал также и античные данные.
3224
Gеорonicа, 13, 6.
3225
Мукаддаси, стр. 162.
3226
Wüstenfeld, Schafiiten, № 129.
3227
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 152.
3228
Абу-л-Касим, стр. 36.
3229
Plinius, Hist. nat., XIX, 14.
3230
Еще в конце XVIII в. Египет вывозил лен в Сирию и ввозил оттуда хлопок (Browne, Travels in Africa, стр. 354).
3231
Мукаддаси, стр. 203. Во время большого голода египтяне вынуждены были питаться льняным семенем (Eutychius, стр. 71).
3232
Мукаддаси, стр. 442.
3233
Там же, стр. 202.
3234
‘Икд, I, стр. 46.
3235
Макризи, Хитат, I, стр. 163.
3236
Абу-л-Касим, стр. 93, 109.
3237
Фихрист, стр. 285.
3238
Ибн Хаукал, стр. 101.
3239
Ибн Дукмак, II, стр. 79; Макризи, Хитат, I, стр. 177.
3240
Ибн Xаукал, стр. 105.
3241
Китаб ал-мувашша, стр. 124; Са‘алиби, Китаб ал-мирва, л. 129б; Абу-л-Касим, стр. 33.
3242
Макризи, Хитат, I, стр. 177.
3243
Ибн Дукмак, II, стр. 79.
3244
Макризи, Хитат, I, стр. 229. Позднее в Вавилонии тоже было местечко Дабикиййа (Йакут, Словарь, под этим словом), которое однако на протяжении IV/X в. нигде не упоминается. Это название отнюдь не означает заимствования египетской техники, а просто дано было по названию знаменитой ткани, как местечко Сусанджирд под Багдадом (Karabaček, Die persische Nadelmalerei, стр. 117).
3245
Йакут, Словарь, I, стр. 890.
3246
Насир-и Xусрау, стр. 36.
3247
Напр., Абу-л-Хасим, стр. 53-54; Насиp-и Xусрау, стр. 36.
3248
Насир-и Хусрау, стр. 37; Абу-л-Касим, стр. 3. Авторы IV/X в. в отношении Египта ничего об этом не говорят; для Мукаддаси (стр. 240) абу каламун — «морская шерсть», т.е. шерсть какого-то животного, остающаяся на камнях, о которые оно трется, ее собирают, и она так дорога, что платье из нее стоит 10 тыс. динаров. Однако в V/XI в. в хранилище фатимидских халифов имелись даже ковры из каламуна (Макризи, Хитат, I, стр. 416).
3249
Михаил Сириец, стр. 516.
3250
См. выше, стр. 111.
3251
Мукаддаси, стр. 433.
3252
Там же, стр. 442.
3253
Там же.
3254
Там же, стр. 435.
3255
Ибн ал-Балхи, JRAS, стр. 337.
3256
«Известно, что хлопок принадлежит Хорасану, а лен Египту» (Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 97).
3257
Bretschneider, Researches, I, стр. 70, 31.
3258
Ибн Xаукал, стр. 328.
3259
Вussе, Bewässerungswirtschaft in Turan, стр. 72.
3260
См. выше, стр. 111.
3261
Бaкри (изд. де Слэна), стр. 59, 69.
3262
Cron. Moro Rasis, стр. 56.
3263
Ибн Xаукал, стр. 223.
3264
Мукаддаси, стр. 323; Са‘алиби, Лата‘иф ал-ма‘ариф, стр. 119; Ибн Xаукал, стр. 316; Ибн ал-Факих, стр. 320.
3265
Мутанабби, Диван, стр. 17.
3266
Абу-л-Kасим, стр. 37.
3267
Йатима, II, стр. 62.
3268
Ибн Хаукал, стр. 362.
3269
Vambéry, Geschichte Bocharas, стр. 63.
3270
Мас‘уди, II, стр. 185 и сл.
3271
Ибн Хаукал, стр. 2.
3272
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 131. Даже из страны франков мусульманам доставляли атлас (Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 270).
3273
Истахри, стр. 012; Ибн Хаукал, стр. 272.
3274
Ибн Хаукал, стр. 246. В современном Багдаде это самая важная отрасль местной промышленности. Было известно, что шелк-сырец ввозился из Мерва в Джурджан и Табаристан (Ибн Xаукал, стр. 316) и еще в IV/X в. коконы ежегодно поступали из Джурджана в западный Табаристан (там же, стр. 272).
3275
Karаbačеk, Die persische Nadelmalerei.
3276
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 111, 232; Абу-л-Касим, стр. 36.
3277
Китаб ал-агани, V, стр. 173.
3278
Мас‘уди, VI, стр. 234.
3279
‘Ариб, стр. 48.
3280
Мискавайх, V, стр. 389.
3281
Илья из Нисибина, стр. 202.
3282
Истахри, стр. 153.
3283
Ибн Руста, География, стр. 153.
3284
Марко Поло, I, 3.
3285
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 128. Затем шла шерсть из Текрита и только после нее — персидская. Эта цитата взята из сочинения Джахиза о торговле, см. Тhа‘аlibi, ’Umad es-mansub, VIII, стр. 529.
3286
Мас‘уди, II, стр. 102.
3287
Макризи, Хитат, I, стр. 416 и сл.
3288
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 331.
3289
Ибн Руста, География, стр. 186.
3290
Ср. Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 52, а также: Kremer, Culturgeschichte, II, стр. 289; Макризи, Хитат, I, стр. 417.
3291
Мукаддаси, стр. 118.
3292
Там же, стр. 442.
3293
Там же, стр. 203.
3294
Истахри, стр. 93.
3295
Мукаддаси, стр. 443.
3296
Истахри, стр. 153; Ибн Xаукал, стр. 213.
3297
<Кайсум — Artemisia abrotanum, сафлор — Carthamus tinctorius, вайда (крутик, синильник) — Isatis tinctoria.— Прим. перев.>
3298
Ибн Хаукал, стр. 213.
3299
Напр., Мукаддаси, стр. 408; Мафатих ал-‘улум, стр. 71.
3300
Мукаддаси, стр. 401, 406.
3301
Ибн Хаукал, стр. 222.
3302
Мукаддаси, стр. 125.
3303
Истахри, стр. 273,— о Хорасане. В изобилующем реками Фарсе это, очевидно, не было принято. Жители дер. Хуллар, снабжавшие жерновами всю провинцию, вынуждены были молоть зерно в соседней деревне, так как у них не было мельничного ручья (Ибн ал-Балхи — писал ок. 500/1107 г.,— стр. 335).
3304
Бакри (изд. де Слэна), стр. 162.
3305
Ибн Хаукал, стр. 147 и сл.
3306
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 243.
3307
Мас‘уди, IV, стр. 227.
3308
Ибн Хаукал, стр. 299; Мукаддаси, стр. 333.
3309
Неdin, Zu Land nach Indien, II, стр. 147.
3310
Гузули, Матали‘ ал-будур, I, стр. 50. Так называемые в Африке «персидские мельницы» (Бакри, изд. де Слзна, стр. 36; Абу Салих, л. 63а; в словарях нет) служили для измельчения сахарного тростника (Liррmann, Geschichte des Zuckers, стр. 110).
3311
Вырабатывали его там обычно в свитках длиной ок. 30 локтей и шириной в одну пядь (Суйути, Хусн ал-мухадара, II, стр. 194). Что означает киртас кухиййа у ‘Омара ибн Абу Раби‘а (Диван, № 32, 33) — мне неизвестно; возможно, что следует читать с вариантом кахвиййа — «цвета вина».
3312
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 126.
3313
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 338.
3314
Ибн Хаукал, стр. 86.
3315
Неhn, Kulturpflanzen, стр. 312.
3316
Karаbаčеk, Das arabische Papier, стр. 98.
3317
Там же, стр. 114 и сл.
3318
Истахри, стр. 288.
3319
Мукаддаси, стр. 180.
3320
Насир-и Хусрау, стр. 12 — Идриси (изд. Дози, стр. 192) в VI/XII в. считал бумажную фабрику в Шатива (Xativa) самой лучшей в Испании. Согласно Карабачеку (Das arabische Papier, стр. 101), еще в конце II/VIII в. в Багдаде была построена фабрика самаркандской бумаги. Однако этому противоречат надежные данные Истахри и Са‘алиби, причем последний выписывает сведения из более раннего источника — вероятно, из сочинения Джахиза о торговле, а также полное молчание по этому поводу всех ранних авторов, равно как и подробнейших описаний Багдада. Единственный источник, которым пользовался в данном случае Карабачек,— более поздний Ибн Халдун, что же касается двух других, также более поздних и западных источников (Диван ал-инша и Макризи), то они говорят только лишь о факте введения бумаги в канцеляриях Харуна ар-Рашида. Йакут (Иршад, II, стр. 522) первый упоминает о том, что в его время в бывшем «Шелковом дворе» Багдада делали бумагу. На основании того, что автор Фихриста (стр. 10) находит где-то документы, написанные на варак тихами, Карабачек, следуя Кремеру, ищет третье по древности место изготовления бумаги на юго-западном побережье Аравийского полуострова, что с самого начала является маловероятным и опять-таки имеет против себя данные Истахри, молчание Хамдани и всех более поздних авторов. Это единственное указание, по всей вероятности, не выдерживает критики, и самое лучшее — читать шами вместо тихами, и тогда мы получим «сирийскую бумагу». Наконец, если Са‘алиби (‘Umad el-mansub, VIII, стр. 526) расхваливает бумагу Египта как самую лучшую, тонкую и гладкую, то из перевода Хаммера отнюдь не ясно, идет ли здесь речь о папирусе или бумаге. Наверное, Са‘алиби также говорил там о более ранних временах. Почти достоверно явствует это из одного хорошего раннего сообщения у Йакута (Иршад, II, стр. 412), согласно которому египетский везир Абу-л-Фадл ибн ал-Фурат (ум. 391/1001) ежегодно давал распоряжение о доставке бумаги (кагиз) из Самарканда для своих переписчиков книг, а один египетский ученый, которому досталась часть библиотеки везира, старательно вырезал из этих книг всякий чистый лист, собирая их для новой книги. Все это никак не подтверждает наличия местной бумажной промышленности.
3321
Xваризми, Раса’ил, стр, 25.
3322
Йакут, Иршад, V, стр. 447.
3323
Xамдани, стр. 132.
3324
Мукаддаси, стр. 141.
3325
Там же, стр. 180.
3326
Мукаддаси, стр. 356.
3327
Марко Поло, I, 4.
3328
Бухари, Сахих, II, стр. 4.
3329
Китаб ал-вузара, стр. 478.
3330
Симонсен высказал предположение о возможности переводить радханиййа как «люди с Роны» (см. Simоnsеn, REJ, 1907, стр. 141 и сл.), что однако не встретило одобрения у де Гуе (см. de Gоеjе, Verslagen, стр. 253). Я тоже считаю подобный перевод невозможным. О кораблях евреев на Средиземном море говорит в это же самое время (конец IX в.) и Ноткер Заика (Notker balbulus) в своей истории Карла Великого. В одном прибрежном городе Нарбоннской Галлии можно увидеть суда; одни говорят, что это еврейских купцов, а другие, что африканских или даже британских (Buch, II, Kap. 14).
3331
Ибн Хордадбех, стр. 453; Ибн ал-Факих, стр. 270.
3332
Ибн Хордадбех, стр. 164; Ибн ал-Факих, стр. 271.
3333
Через посредство миссии Ибн Фадлана, сообщение которого частично сохранилось.
3334
Мас‘уди, II, стр. 15.
3335
Неуd, Levantehandel, I, стр. 69.
3336
Schlumberger, Épopée byzantine, стр. 9.
3337
Абу Дулаф, см. Йакут, Словарь, под словом син.
3338
Ибн Хаукал, стр. 281, ср. Dorn, Caspia.
3339
Ибн Руста, География, стр. 141.
3340
Ибн Хаукал, стр. 281. <См. также: Куник и Розен, Известия ал-Бекри; Kowalski, Relacja Ibrahima Jbn Ja‘kuba; Widajewicz, Studia nad relacja о slawianach; Артамонов, Хазары.— Прим. перев.>
3341
Westberg, Ibrâhîm ibn Ja‘qûbs Reisebericht, стр. 53, 155.
3342
Ибн Хаукал, стр. 225; Аджа’иб ал-Хинд, стр. 142, 144, 161.
3343
См. гл. 29 — «Морское судоходство».
3344
Ибн Хордадбех, стр. 70.
3345
Vogt, Basile, I, стр. 393.
3346
Мукаддаси, стр. 123.
3347
Gelzer, Byzantinische Kulturgeschichte, стр. 79. Аналогичный договоо Византия заключила с франкским королем Хлодвигом.
3348
Абу Йусуф, Китаб ал-харадж, стр. 52.
3349
Кудама, стр. 239.
3350
Kremer, Einnahmebudget.
3351
Graetz, Geschichte der Juden, V, стр. 196.
3352
Йакут, Иршад, II, стр. 153.
3353
Китаб ал-вузара, стр. 202.
3354
Истахри, стр. 314.
3355
Там же, стр. 323.
3356
Там же, стр. 156.
3357
См. также: Хамадани, Раса’ил, стр. 11.
3358
Китаб ал-вузара, стр. 36, прим. 1. В 300/912 г. Хамданид Насир ад-Даула чеканил «полноценные динары в 13 дирхемов», в то время как старые стоили всего лишь 10. Sauvaire, JA, sér. VII, vol. 15, стр. 259. Динар стоил 15 дирхемов. Аджа’иб ал-Хинд, стр. 52.
3359
Sauvaire, JA, sér. VI, vol. 14, стр. 524.
3360
Amedroz, JRAS, 1906, стр. 475.
3361
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 191а.
3362
Китаб ал-вузара, стр. 36, прим. 1.
3363
Там же, стр. 402.
3364
Джаухари, Словарь,— под словом забака. Все серебро, подлежавшее чеканке, сплавляли с ртутью. Amеdrоz, JRAS, 1906, стр. 479.
3365
Мукаддаси, стр. 99.
3366
Абу Йусуф, JA, sér. VII, t. XIX, стр. 26.
3367
Там же, стр, 25 и сл.
3368
Кое-что об этом см. Grasshоff, Die suftağa und hawâla.
3369
Масари‘ ал-‘ушшак, стр. 10.
3370
Насиp-и Хусрау, стр. 64.
3371
Так следует понимать выражение саххаха; ср., напр., Китаб ал-вузара, стр. 296.
3372
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 32.
3373
Бухари (1309), I, стр. 14; Китаб ал-агани, V, стр. 15; Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 137.
3374
Китаб ал-вузара, стр. 77.
3375
Ибн Хаукал, стр. 42, 70. От Сиджилмасы до Аудагушта было 51 день пути (Бакри, изд. де Слэна, стр. 156 и cл.).
3376
Байхаки, стр. 545.
3377
Йакут, Иршад, I, стр. 385.
3378
Там же, стр. 399.
3379
Шабушти, Китаб ал-дийарат, л. 88а.
3380
См. Насир-и Хусрау (который прибыл туда в 444/1052 г.), стр. 253.
3381
Насиp-и Хусрау, стр. 86.
3382
Безналичные расчеты в том виде, в каком они уже вполне развились в греческом Египте, еще не существовали (Рreisigke, Girowesen).
3383
Ибн ал-Факих, стр. 51.
3384
Абу-л-‘Ала, Письма, стр. 75.
3385
Истахри, стр. 19.
3386
Ибн Хаукал, стр. 42.
3387
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 327.
3388
Мукаддаси, стр. 35: «Кто ищет торговлю, тот должен отправляться в Аден, Оман или Египет».
3389
Са‘алиби, Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 101.
3390
Кинди, стр. 402.
3391
Ибн Са‘ид, перевод, стр. 118 и cл.
3392
Мукаддаси, стр. 388. Сегодня еще живет их там 5000 человек (Jackson, Persia, стр. 205).
3393
Mискавайх, V, стр. 408.
3394
См. выше, стр. 355.
3395
Бируни, Индия (пер. Захау), I, стр. 206.
3396
Бутрус ибн Рахиб, стр. 132; Абу Салих, л. 48а.
3397
Макризи, Итти‘аз, стр. 87.
3398
Насиp-и Хусрау, стр. 159 и сл.
3399
Kremer, Einnahmebudget, стр. 343.
3400
‘Ариб, стр. 74.
3401
Китаб ал-вузара, стр. 178.
3402
Там же, стр. 159. Еврейские источники упоминают Иосифа бен Пинхаса и его пасынка Нетиру среди наиболее знатных евреев Багдада (Graetz, Geschichte der Juden, V, стр. 277).
3403
Мискавайх, V, стр. 408.
3404
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 150а.
3405
Тадж ал-‘арус,— под словом блт.
3406
Впрочем, это засвидетельствовано только для VI/ХII в., см. Ноutsmа, Seldjoucides, I, стр. 48 и сл.
3407
Gelzer, Byzantinische Kulturgeschichte, стр. 80.
3408
Макризи, Хитат, I, стр. 94 (2-я строка снизу).
3409
Там же, стр. 381.
3410
Багдадский банкир из приведенной выше истории уже к обеду кончал свои дела (Йакут, Иршад, I, стр. 399). В Хормузе, главном порте Кермана, который как и нынешний Бендер-Аббас терзаем самым страшным на свете климатом, купцы жили разбросанно, на расстояниях до 6 миль (Истахри, стр. 166).
3411
Мукаддаси, стр. 129.
3412
Жаркое выкладывалось и подавалось на поджаренных лепешках, являвшихся, с точки зрения восточных вкусов, едва ли не более важными, чем само мясо.
3413
Который, значит, тоже сидел у трактирщика.
3414
Xамадани, Макамы (Бейрут), стр. 57 и сл.
3415
Таухиди, Фи-с-садака, стр. 43.
3416
Та’рих Багдад (изд. Салмона), стр. 28.
3417
Мукаддаси, стр. 225, 226.
3418
Там же, стр. 405, 406. Так же и в марокканском Вади Дра‘а (Бакри, изд. де Слэна, стр. 152).
3419
Pückler, Semilasso in Afrika, II, стр. 107.
3420
Glaser, Petermanns Mitteilungen, стр. 41.
3421
Mукаддаси, стр. 433.
3422
Там же, стр. 413, 425
3423
Там же. В Персии эти постройки назывались хан, в Мавераннахре — тим (Мукаддаси, стр. 34); отдельная лавка — махзин — магазин, склад — хананбар, мн.ч. хананбарат (Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 480б, 482а).
3424
Мукаддаси, стр. 101.
3425
Там же, стр. 413.
3426
Как обычно, это считалось словом пророка (Ибн Кутайба, Мухталиф ал-хадис, стр. 90).
3427
Субки, Табакат, II, стр. 103.
3428
Фараби, стр. 65.
3429
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 17.
3430
Сули, Аурак, стр. 91.
3431
Насиp-и Xусрау, стр. 152.
3432
Quatremère, Hist. des mameloucs, стр. 247.
3433
Китаб ал-агани, V, стр. 119.
3434
Джами‘ ас-сагир, стр. 79.
3435
Sachau, Muhammedanisches Recht, стр. 278.
3436
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 135.
3437
Мас‘уди, IV, стр. 93; Marquart, Beninsammlung, стр. CLXXXI и сл.
3438
Рetасhja, JA, стр. 373.
3439
Sасhau, Syrische Rechtsbücher, II, стр. 157.
3440
Ибн ал-Му‘тазз, Диван, I, стр. 136.
3441
Йакут, Иршад, V, стр. 458.
3442
Джами‘ ас-сагир, стр. 78.
3443
Wanslеbs, Beschreibung Aegyptens, стр. 63.
3444
Мукаддаси, стр. 19.
3445
С точки зрения фактического судоходства это, пожалуй, верно, хотя Истахри (стр. 99) в одной только родной своей провинции Фарс «насчитывает 11 больших рек, которые несут суда, когда их спускают на них». Река Афганистана — Хильменд, стекающая с Гундукуша и других индо-афганских гор, была судоходна только в период высокого стояния воды (Ибн Хаукал, стр. 301). Страбон (XV, 1) говорит о том, что финикийцы плавали по Иордану вверх по течению. Однако в средние века это было так же мало распространено, как и в наши дни; только небольшие суда плавали по Мертвому морю между Зоаром, Иерихоном и др. районами Иорданской низменности (Идриси, изд. Бранделя, стр. 4).
3446
«Кашмирцам требуется 70 дней пути до Мансуры. Они спускаются по Инду, который в то же время, что и Тигр и Евфрат, имеет наивысшее стояние воды. Они упаковывают корни косуса в мешки, по 700-800 фунтов в каждый, помещают эти мешки в кожаные меха, обмазывают их смолой, так что в них не проникает вода, связывают затем эти мешки попарно, вяжут их вместе так, что они могут на них стоять и сидеть. Таким образом, они за 47 дней добираются до порта Мансура и корни при этом остаются сухими» (‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 104).
3447
Middendorf, стр. 189.
3448
Schwarz, Turkestan, стр. 425.
3449
Мукаддаси, стр. 291.
3450
Истахри, стр. 301 и сл.
3451
Абу-л-Касим, стр. 107.
3452
Мискавайх, VII, стр. 44, 57, 111.
3453
Ибн Са‘ид (изд. Талквиста), стр. 29.
3454
Китаб ал-вузара, стр. 310.
3455
Напр., для IV в.х.— Ибн ал-Асир, VIII, стр. 125.
3456
Ибн Хордадбех, стр. 72.
3457
Абу-л-Фида, География, стр. 52. Близ Анбара, возле имения, называющегося ал-Фаллуджа, ответвляется Нахр ‘Иса.
3458
Мас‘уди, III, стр. 40, где неверно назван Тауса. <Поправка неосновательна: у Балазури (Футух, стр. 179) названы радом ан-Науса и Алуса, ср. Йакут, Словарь, IV, стр. 734.— Прим. ред.>
3459
Китаб ал-вузара, стр. 257.
3460
Ибн Хаукал, стр. 158.
3461
Мукаддаси, стр. 138.
3462
Мискавайх, VI, стр. 234.
3463
Мукаддаси, стр. 124.
3464
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 17а, 26б; Та’рих Багдад (изд. Салмона), л. 36б; сумайриййат ма‘ бараниййат.
3465
Марини, «Машрик», IV, стр. 992.
3466
Китаб ал-вузара, стр. 19.
3467
Табари (Анналы, III, стр. 952 и сл.) подтверждает это ссылкой на стихотворение современника Абу Нуваса.
3468
Мас‘уди, VIII, стр. 377.
3469
Китаб ал-‘уйун, III, л. 183б.
3470
Мискавайх, VI, стр. 218.
3471
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 477.
3472
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 125а.
3473
Ибн Абу Усайби‘а, I, стр. 179; Gildemeister, стр. 438.
3474
Мукаддаси, стр. 118.
3475
Камайа — см. Абу-л-Касим, стр. 108; в словарях это слово отсутствует.
3476
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 38б.
3477
Ибн Руста, География, стр. 185.
3478
Йахйа ибн Са‘ид, л. 85а.
3479
Хваризми, Раса’ил, стр. 79.
3480
Ибн ал-Хаджжадж, Диван (лондонская рук.), л. 170а; Ибн ал-Хаджжадж, Диван (Марджана), X, стр. 218; Хитаб ал-фарадж, II, стр. 107.
3481
Китаб ал-фарадж, II, стр. 108.
3482
Тhа‘аlibi, ‘Umad el-mansub, VIII, стр. 306.
3483
Мискавайх, VI, стр. 171 и сл.; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 362, 368 и сл.
3484
Йакут, Иршад, I, стр. 235.
3485
Ибн Xаукал, стр. 119.
3486
Ибн Руста, География, стр. 184.
3487
Там же, стр. 185.
3488
Мукаддаси, стр. 198.
3489
Mac‘уди, III, стр. 40; ‘Абдаллах ибн Сулайм (конец IV/X в.), его слова приводит Макризи; см. Marquart, Beninsammlung, стр. CCXLIX).
3490
Идриси (изд. Бранделя), стр. 20, 21,
3491
<Это утверждение неудачно по ряду причин. Во-первых, рух слово не арабское, а персидское; во-вторых, это доказывает, что оно несет в себе значение «повозка» и в персидском и в арабском. См.: Murray, History of Chess, стр. 159, 160.— Прим. англ. перев.>
3492
Марко Поло, I, 48.
3493
Xамдани, стр. 183; айтар — это обочины (хибал) дороги.
3494
О чем Хамдани (стр. 183 — «аравийские арабы называли их мулайки») сообщает с неправильной трактовкой этимологии.
3495
Насиp-и Xусрау, стр. 118.
3496
Макризи, Хитат, I, стр. 213.
3497
Бируни, Индия (пер. Захау), I, стр. 22.
3498
Путешествие Чан Чуня в 1221 г.; Bretschneider, Researches, I, стр. 69.
3499
Истахри, стр. 197; Насиp-и Xусрау, стр. 256.
3500
Там же, стр. 22.
3501
Бакри (изд. де Слэна), стр. 48. Сегодня так называемая «дорога» из Йезда в Тебес через персидскую солончаковую пустыню отмечена пятью пирамидами из камней, сооруженными по приказанию парсов из Йезда,— Неdin, Zu Land nach Indien, II, стр. 6. Каменные дорожные знаки стоят в этой местности также и на перекрестках главных дорог. Там же, II, стр. 36.
3502
Истахри, стр. 290.
3503
Фихрист, стр. 343.
3504
Mукаддаси, стр. 416.
3505
Шабушти, Китаб ад-дийарат, л. 95б, 113а.
3506
Шабушти,— см. Streck, Landschaft Babylonien, стр. 179; Йакут, Словарь, II, стр. 645.
3507
Калкашанди, стр. 82.
3508
Ибн Хаукал, стр. 49.
3509
Там же, стр. 168.
3510
Фотографию см.: Grоthе, Geographische Charakterbilder.
3511
Ибн ал-Асир, IX, стр. 210.
3512
Bretschneider, Researches, I, стр. 75.
3513
Китаб ал-вузара, стр. 257.
3514
Le Strange, Ibn Serapion, стр. 239. <Настоящее имя автора Сухраб. См.: Mžik, ВАН, Bd V; Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 97-99.— Прим. перев.>
3515
Мукаддаси, стр. 411.
3516
Йакут, Словарь, под этим словом.
3517
Tha‘alibi, ‘Umad el-mansub, VIII, стр. 524 и сл.; Истахри, стр. 62; Мас‘уди, Танбих, стр. 64, 144; Мукаддаси, стр. 147; см. также: Le Strange, The Lands, стр. 124, прим. Уже римские итинерарии отмечали его важное значение: Miller, Itin. Romanа, стр. 765.
3518
Ибн Хаукал, стр. 170.
3519
Макдиси (изд. и пер. Юара), IV, стр. 87.
3520
Неdin, Durch Asiens Wüsten, II, стр. 152.
3521
Также и согласно арабской исторической традиции (Макризи, Хитат, I, стр. 229).
3522
Уже у ‘Имрулкайса, см. Ahlwardt, Six Divans, стр. 130, v. 27.
3523
Собственно «пеший» — в этом слове сокрыт корень ped. Индийск. форма этого слова — батак, см.: Аджа’иб ал-Хинд, стр. 106.
3524
Собственно «егерь»; для IV в.х. засвидетельствовано у Хваризми, Раса’ил, стр. 53.
3525
Ибн Хордадбех, стр. 112.
3526
Мубаррад, Камил, стр. 286.
3527
<Это утверждение, кажется, не очень верно. В папирусах, в распоряжениях на использование почтовых животных, они называются дабба, что обычно означает «лошадь»; а в отчете о барид у Фахри особо упоминаются лошади.— Прим. англ. перев.>
3528
Силсилат ат-таварих, стр. 113. Подрезание хвостов в качестве отличительного признака относится еще к доисламским временам (Ahlwardt, Six Divans, стр. 138, v. 28). Хамза Исфахани (ум. между 350—360/961—970) объяснял слово барид — «почта», исходя от персидского бариде занаб — «с подрезанным хвостом» (Анналы, стр. 39), что повторяет за ним слово в слово Са‘алиби (Цари, стр. 398).
3529
Парсанг (фарсах) считали равным трем милям: Ибн Хордадбех, стр. 83; Мукаддаси, стр. 65; Макдиси (изд. и пер. Юара), IV, стр. 85.
3530
Напр., в Южной Аравии — Кудама, стр. 190, в Восточной Персии — Ибн Руста, География, стр. 168.
3531
В Индии уже с давних пор через каждые 10 стадий стояла колонна, указывавшая боковые дороги и расстояния. Страбон, XV, 1.
3532
Мафатих ал-‘улум, стр. 63; Мукаддаси, стр. 66. Согласно данным последнего, в пустыне и в Вавилонии станции были на расстоянии 12 миль = 4 фарсахов. В отношении Вавилонии это не сходится с данными Кудамы. Увеличение расстояний между станциями произошло во всяком случае в более поздний период, когда Вавилония стала пустыней. Почтовая книга III/IX в. исчисляет число станций в 930 (Ибн Хордадбех, стр. 153).
3533
Сули, Аурак, стр. 136.
3534
Ибн Хордадбех, стр. 29.
3535
Ибн Хаукал, стр. 130.
3536
Великолепная прямая дорога через пустыню Ктесифон-Хатра-Харран, как она приведена в Таблицах Пейтингера (Miller, Itin. Romana), в то время уже давно была заброшена.
3537
Кудама, стр. 228 и cл.
3538
В древние времена эта дорога вела вверх по течению Евфрата по восточному берегу (Мiller, Itin. Romana).
3539
Kremer, Einnahmebudget, стр. 307.
3540
Китаб ал-фарадж, II, стр. 76. Другие дороги ответвлялись в сторону выше по течению Евфрата и шли в обход через Русафу, чтобы попасть в Дамаск или даже в Алеппо, как это сделал в 440/1048 г. Ибн Бутлан (Кифти, стр. 296). Однако также и там грозила опасность подвергнуться разбойному нападению бедуинов (Китаб ал-фарадж, II, стр. 109).
3541
Ибн Руста, География, стр. 167.
3542
Мукаддаси, стр. 278.
3543
Richthofen, China, I, стр. 456.
3544
Произношение и местоположение этого пункта установлены теперь наконец благодаря Гардизи (стр. 89 и сл.). Причину того, что де Гуе в Нушаджане видел местность вокруг Хотана (Dе Muur, стр. 114), следует, пожалуй, в основном отнести за счет утверждения Кудамы (стр. 208) о том, что горный проход Атбаш лежит между Тибетом, Ферганой и Нушаджаном. Однако и эта версия не подходит, так как дорога к Ошскому перевалу через Узкенд отчетливо загибается к северу. Эти затруднения устраняются тем, что в то время бассейн р. Тарим все еще причисляли к Тибету, например путешественник Абу Дулаф (Йакут, Словарь, III, стр. 447), а Макдиси (изд. и пер. Юара, IV) называет даже Хотан столицей Тибета. Это совпадает также и с китайскими источниками; еще в VIII в. н.э. города, расположенные между Алтыном и Тянь-Шанем, платили подати Тибету (Grenard, JA, vol. 15, стр. 24), который владел ими еще большую часть IX в. н.э., а затем потерял их, будучи вынужденным уступить их уйгурам и тюркам-карлукам (Howorth, JRAS, стр. 814). Утверждение Ибн Хордадбеха (стр. 30): «Атбаш лежит на высоком горном перевале между Тибетом и Ферганой» — также относит Восточный Туркестан к Тибету. Идриси (пер. Жобера, I, стр. 490) называет ок. 550/1150 г. Хотан «столицей Тибета» и, наконец, против идентификации де Гуе Хотана и Нушаджана говорит и тот факт, что как Бируни, так и Гардизи и Сама‘ани (ум. 562/1167) у Абу-л-Фида (География, стр. 505) называют Хотан его нынешним именем.
3545
Ибн Xордадбех, стр. 28 и сл.; Кудама, стр. 204 и сл.; Мукаддаси, стр. 341.
3546
Гардизи, стр. 91.
3547
Richthofen, China, I, стр. 540.
3548
Неdin, Durch Asiens Wüsten, II, стр. 466.
3549
de Goeje, De Muur, Marquart, Streifzüge, стр. 74 и сл.
3550
Mас‘yди, I, стр. 349.
3551
Richthofen, China, I, стр. 560. Так же и Ван Янь-дэ, который совершил путешествие в 981—983 гг. (Julien, JA, I, стр. 63).
3552
Richthofen, China, I, стр. 562.
3553
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 287; Кудама, стр. 209 и сл.
3554
Ибн Хордадбех, стр. 50.
3555
Мукаддаси, стр. 493. В 1881 и 1892 гг. частными лицами Йезда на месте пересечения дорог Тегеран — Тебес, Йезд — Тебес и севернее было выстроено прекрасное здание для путешественников (Неdin, Zu Land nach Indien, II, стр. 37 и сл.).
3556
Мукаддаси, стр. 488 и сл.
3557
Кудама, стр. 186.
3558
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 71а.
3559
Там же, л. 98б.
3560
Абу-л-Макасин, I, стр. 174.
3561
Поэтому у Кудамы (стр. 222) и не упоминается прибрежная дорога.
3562
Ибн Хордадбех, стр. 89.
3563
Там же, стр. 55.
3564
Marquart, Beninsammlung, стр. CV.
3565
Ибн Хаукал, стр. 42, 66.
3566
Мас‘уди, VI, стр. 263.
3567
Байхаки, стр. 429.
3568
Балазури, Футух, стр. 402.
3569
Ибн Тайфур, л. 131б.
3570
dе Gоеjе, ZDMG, 52, стр. 76.
3571
‘Ариб, стр. 53.
3572
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 34; Quatremère, Hist. des mameloucs, II, стр. 289, на основании Китаб ал-инша. Название са‘и осталось за почтальоном и по сей день.
3573
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 34; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 425.
3574
Ибн ал-Асир, VIII, стр. 480. Судя по описанию Са‘алиби (Лата’иф ал-ма‘ариф, стр. 15), это были иноходцы (джамаза означает «идти иноходью»). Самым быстроходным верблюдом на востоке современной Персии все еще считался верблюд из Белуджистана, называемый джамбас, т.е. иноходец, который с легкостью делает 110 км в день (Неdin, Zu Land nach Indien, II, стр. 346 и сл.). Таким образом, джамбас, вероятно, персидская народная этимология.
3575
Führer durch die Ausstellung Rainer, стр. 53.
3576
Абу-л-Мaxасин, I, стр. 174.
3577
Марракуши, стр. 299.
3578
Diels, Antike Technik, стр. 68.
3579
de Goeje, Carmathes, стр. 207. В Китае упоминание о первых почтовых голубях впервые встречается ок. 700 г. н.э., по всей вероятности, они были завезены туда индийскими или арабскими купцами (Hirth and Rockhill, стр. 28, прим. 2).
3580
Китаб ал-вузара, стр. 33.
3581
‘Ариб, стр. 110 и сл.
3582
Мискавайх, V, стр. 306; Ибн ал-Асир, VIII, стр. 135; по-иному — Ибн ал-Асир, VIII, стр. 240.
3583
Мискавайх, V, стр. 298.
3584
Там же, стр. 416.
3585
Там же, VI, стр. 22. Это слово часто встречается в более поздних хрониках.
3586
Тhа‘аlibi, ‘Umaid el-mansub, VIII, стр. 512.
3587
‘Умдат ат-талиб (парижск. рук.), л. 171а.
3588
Ибн ал-Джаузи, Мунтазам, л. 145а. Другие голубиные «телеграммы» — см. Мискавайх, VI, стр. 13, 49, 412.
3589
Китаб ал-агани, XIX, стр. 147.
3590
Силсилат ат-таварих, стр. 42.
3591
Becker, DI, II, стр. 369.
3592
Ибн Са‘ид, Мугриб, стр. 53.
3593
Мукаддаси, стр. 429.
3594
Ибн Хордадбех, стр. 153; Идриси (изд. Бранделя), стр. 2; Макризи, Хитат, I, стр. 213.
3595
Mас‘уди, I, стр. 365.
3596
Ибн Джубайр, стр. 68; также Идриси (изд. Бранделя), стр. 2.
3597
Марко Поло, I, 18.
3598
Мас‘уди, I, стр. 365.
3599
Сначала Идриси (пер. Жобера, I, стр. 46) по ‘Аджа’иб Хасана ибн ал-Мунзира — типичнейшего представителя «литературы чудес» (Мirabilia). Затем — Казвини, Космография, I, стр. 172. Макдиси, писавший далеко в середине Персии, перепутав все в этой истории, утверждал, что в западном море вообще суда не ходят, так как магнитные горы вытаскивают из них гвозди (изд. и пер. Юара, I, стр. 89).
3600
Нirth, Die Lander des Islam.
3601
Ибн Джубайр, стр. 235.
3602
Марко Поло, I, 18; III, 1.
3603
Идриси (изд. Бранделя), стр. 2; Мас‘уди, VIII, стр. 128.
3604
Силсилат ат-таварих, стр. 16.
3605
Там же, стр. 17.
3606
Нirth and Rockhill, стр. 9.
3607
<Лабх (Albizzia lebbek) — разновидность акации из семейства мимозовых.— Прим. перев.>
3608
Макризи, Хитат, I, стр. 204 — по книге о растениях Динавари (в издании ошибочно дерево бандж), Йакут, Словарь, I, стр. 381.
3609
Schaube, Handelsgeschichte, стр. 23 и сл. Еще в начале XIX в. н.э. Египет получал весь строевой лес из Венеции, дровяной же — частично из Мал. Азии (Seetzen, Reisen, III, стр. 207); говорят, что еще и в наши дни лес на мачты нильских судов поступает главным образом из Шварцвальда.
3610
Йахйа ибн Са‘ид, л. 113а.
3611
Мукаддаси, стр. 12.
3612
Klaproth, Lettre sur l'invention de la boussole.
3613
Mакpизи, Хитат, I, стр. 210.
3614
‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 87.
3615
Там же, стр. 30.
3616
Там же, стр. 46.
3617
Ибн Xаукал, стр. 103. На Востоке при противном ветре для лавирования пользовались парусом судовых лодок (Марко Поло, III, 2). <У Марко Поло (изд. Райта) стоит: «При условии, если направление ветра [отклоняется] на четверть, румба, а не прямо от носа к корме».— Прим. проф. Марголиуса.>
3618
‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 7.
3619
Hirth and Rосkhill, стр. 32.
3620
Gildеmеistеr, стр. 444.
3621
Hirth and Rосkhill, стр. 28.
3622
‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 46.
3623
Идpиси (изд. Дози), стр. 214.
3624
Антиохия, например, еще и для Прокопия является первым из всех римских, городов Востока (Heyd, Levantehandel, I, стр. 24).
3625
Ибн Хордадбех, стр. 153; Михаил Сириец, стр. 527, 537.
3626
Мас‘уди, I, стр. 302.
3627
Йа‘куби, Китаб ал-булдан, стр. 327.
3628
Ибн Хаукал, стр. 46.
3629
Так следует читать: мугаррибуна.
3630
В соответствии с античными воззрениями арабы представляли себе наружный океан темным. Так, например, и на Востоке наружное море тоже называлось ал-бахр аз-зафти — «смоляное море», потому что «воды его темные, ветры неистовы и там почти все время царит мрак» (Абу-л-Фида, География, II, стр. 25).
3631
Идриси (изд. Дози), стр. 184.
3632
Истахри, стр. 30; Мас‘уди, III, стр. 56; Идриси (изд. Бранделя), стр. 1.
3633
Калкашанди, стр. 169.
3634
Насири-и Xусрау, стр. 65; он посетил город в 442/1050 г.
3635
Макризи, Хитат, I, стр. 194-197, 202, 203.
3636
Идриси (пер. Жобера), I, стр. 133.
3637
Ибн Джубайр, стр. 66.
3638
Мас‘уди, I, стр. 233 и сл.
3639
Там же, III, стр. 31.
3640
Там же, стр. 6 <Машон — область Южной Родезии.— Прим. перев.>
3641
Идриси (пер. Жобера), I, стр. 65.
3642
Напр., Schurtz,— в кн. HelmоIt, Weltgeschichte, 3, стр. 428. Взято из кн. Rizbу, Report on the Zanzibar Dominions, стр. 47, который приводит эти сведения на основе бытующих там в наше время историй.
3643
Ибн Руста, География, стр. 86 и сл.
3644
Михаил Сириец, стр. 514.
3645
Мукаддаси, стр. 12.
3646
Мас‘уди, III, стр. 37; Мукаддаси, стр. 14.
3647
Истахри, стр. 33.
3648
dе Gоеjе, BGA, IV, стр. 195; ‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 193.
3649
Мукаддаси, стр. 34.
3650
Там же, стр. 97.
3651
Истахри, стр. 34.
3652
Силсилат ат-таварих (изд. Лангле) — написано ок. 300/912 г., стр. 15.
3653
Ибн ал-Балхи, JRAS, 1912, стр. 882.
3654
Истахри, стр. 139.
3655
Ибн Хаукал, стр. 206.
3656
Истахри, стр. 138.
3657
‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 98.
3658
Не «капитан», как обычно переводят; он назывался ра’с или руббан (Мукаддаси, стр. 31). Находа Бабишад, который плавал на своем корабле, имел, например, при себе «руббана своего судна», который обеспечивал вождение корабля. Никогда не восхваляют навигационные способности находа, но зато всегда руббана. В наши дни на Красном море различают находа ал-бахр — «подлинного командира корабля, который командует матросами и странным образом одновременно является и штурманом, и лоцманом», и находа ал-барр — судовладельца (Maltzan, Meine Wallfahrt. I, стр. 71).
3659
‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 23.
3660
Там же, стр. 22.
3661
Истахри, стр. 79.
3662
Мукаддаси, стр. 118.
3663
Китаб ал-вузара, стр. 73.
3664
Йакут, Иршад, I, стр. 77.
3665
Истахри, стр. 32; Мукаддаси, стр. 12, где он говорит о нескольких освещаемых «домах».
3666
Йатима, II, стр. 134.
3667
Мас‘уди, I, стр. 230.
3668
Насиp-и Хусрау, стр. 90.
3669
Мукаддаси, стр. 12.
3670
Китайские источники недавно сопоставлены в кн. Hirth and Rockhill, стр. 9 и сл.
3671
Там же, стр. 9.
3672
Там же, стр. 14 и сл.
3673
Силсилат ат-таварих, стр. 14.
3674
Там же, стр. 36.
3675
Там же, стр. 35.
3676
Мас‘уди, 4, стр. 308; Hirth and Rockhill, стр. 45, прим. 3, считают крайне неправдоподобным, чтобы эти «китайские суда» принадлежали китайцам или ими управлялись, ибо вплоть до конца XII в. китайцам были неизвестны даже названия Аден и Сираф. Этому соответствует и тот факт, что арабы никогда не рассказывают о китайских мореходах и что с разрушением мусульманских факторий в Китае «китайские суда» не заходят больше в арабские воды. Таким образом, под этим следует понимать мусульманских мореходов, «ходивших в Китай».
3677
Силсилат ат-таварих, стр. 52 и сл. и Мас‘уди (I, стр. 302); Абу-л-Фида, Анналы, год 264.
3678
Об этом сравнении см. Hirth and Rockhill, стр. 15.
3679
Richthofen, China, I, стр. 572.
3680
Йакут, Словарь, III, стр. 403.
3681
Мас‘уди, 4, стр. 308.
3682
Hirth and Rockhill, стр. 34 и сл.
3683
Там же, стр. 17 и сл. 119.
3684
Там же, стр. 23.
3685
Там же, стр. 24.
3686
Силсилат ат-таварих, стр. 16 и сл.
3687
Ибн Хордадбех, стр. 61 и сл.
3688
B XIII в. китаец Чжао Жу-гуа также считает один месяц на переход с попутным муссоном от Суматры до Малабара (Hirth and Rockhill, стр. 87).
3689
Mарко Поло, III, 4. Этим же путем плыл из Индии на родину еще в V в. н.э. паломник Фа-сянь (Hirth and Rockhill, стр. 27 и сл.).
3690
Так, по крайней мере, рассказывает один китайский источник XII в. н.э. (Hirth and Rосkhill, стр. 114).
3691
‘Аджа’иб ал-Хинд, стр. 85.
3692
Там же.
3693
Там же, стр. 91.
3694
В список библиографии включены источники и исследования, использованные А. Мецем в его труде и указанные в подстрочных примечаниях, а также (со знаком *) сочинения, которые не были по тем или иным причинам привлечены А. Мецем, но представляют интерес для современного читателя-востоковеда.
3695
См. Крачковский, Избран. соч., IV, стр. 38.