Книга: Выкрикивается лот 49
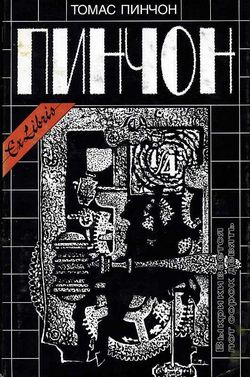
ВЫКРИКИВАЕТСЯ ЛОТ 49
Занимательная «энтропология» Томаса Пинчона
А. Жестокий порядок есть беспорядок; и
Б. Большой беспорядок есть некий порядок.
Эти две вещи суть одно. (Страницы примеров.)
Томас Пинчон – один из тех писателей, чья высокая репутация обратно пропорциональна количеству написанных книг. Пять романов, полдюжины рассказов и несколько эссе – вот, пожалуй, и все за сорок лет писательского творчества. Не случайно сборник своих ранних рассказов, написанных в период с 1958 по 1964 г., он назвал «Неторопливый ученик» («Ученик-тугодум») и выпустил в свет только в 1984 г., уже будучи автором трех знаменитых романов и если не самым читаемым, то, по крайней мере, самым изучаемым американским прозаиком последних десятилетий.
Впрочем, период ученичества как таковой занял не так уж много времени. Всего четыре года отделяют его первый опубликованный рассказ «Мелкий дождь», напечатанный весной 1959 г. в университетском журнале «Cornell Writer», от романа «V.» (1963), принесшего Пинчону Фолкнеровскую премию за лучший дебют и сразу выдвинувшего его в первые ряды американских романистов. Еще десять лет ушло у Пинчона на написание его magnum opus – романа «Радуга тяготения» (1973), за который он получил Национальную книжную премию и впоследствии был возведен в ранг живых классиков. Критики поставили этот роман в один ряд с «Моби Диком» Мелвилла и «Улиссом» Джойса. В промежутке Пинчон успел написать свой короткий шедевр «Выкрикивается лот 49» (1966). И только в 1990 году вышел роман – «Ваинленд», а спустя еще семь лет – его последняя на сегодняшний день книга «Мейсон и Диксон». Так что речь следует вести не столько о неторопливом ученичестве Пинчона, сколько о неспешном и дотошном исследовании некоторых сквозных тем его творчества, намеченных еще в малой прозе.
Этой несуетной дотошности мастера, вероятно, в немалой степени способствует «затворничество» Пинчона, избегающего какой бы то ни было публичности и участия в общественной и литературной жизни (креме публикации книг, разумеется). Его место жительства н образ жизни остаются в тайне с середины 1960-х годов. Достоверно известные факты его биографии столь же немногочисленны, как и опубликованные им книги, хотя они так или иначе нашли отражение в его произведениях.
Томас Рагглз Пинчон родился в 1937 г. в Глен-Коув, на Лонг-Айленде, в штате Нью-Йорк. С детства увлекался чтением шпионских романов. После школы, в «953 г., поступил в Корнеллский университет, где изучал технические дисциплины и литературу (вполне вероятно, что Пинчон посещал лекции Набокова, который в те годы вел там курс литературы[1]). Прервав учебу, два года, с 1955 по 1957 г., служил на флоте, затем вернулся в университет, который закончил в 1959 году. После университета некоторое время вел довольно богемный образ жизни в Нью-Йорке, а с 1960 по 1962 г. занимался технической документацией в корпорации «Боинг» в Сиэттле. Собственно говоря, этими скупыми сведениями ограничивается официальная биография писателя. А дальнейшая жизнь Пинчона скрыта в таинственной атмосфере его книг.
Рубеж 1950 – 60-х годов был, по сути дела, сменой эпох и поколений как в искусстве, так и в общественной жизни Америки. В эти годы дописывали свои последние книги мэтры американской литературы – Хемингуэй, Фолкнер, Дос Пассос, Стейнбек. Только что с авансцены американской литературы ушли битники; в сущности, исчерпало себя модное в послевоенное десятилетие увлечение экзистенциализмом, с которым смеясь разделался Джон Барт в «Плавучей опере» и «Конце пути».
В шестидесятые годы появляется совершенно новое поколение писателей, таких, как Джон Барт, в 1960 году выпустивший третий роман – «Торговец дурманом», Джозеф Хеллер со своей «Уловкой-22» (1961), Курт Воннегут, Джон Хоукс, начавший печататься еще в 40-е годы, Стэнли Элкин, Дж. П. Данливи и др. – довольно веселые, хотя и несколько мрачные ребята, которых за это сочетание тут же окрестили «черными юмористами». В эти годы в новой американской прозе появляется целая плеяда писателей, стремившихся пересмотреть традиционные, как реалистические, так и модернистские, мировоззренческие установки и приемы письма.
Вскоре созрел и новый термин для обозначения наметившихся тенденций в современном искусстве и философии – постмодернизм, и по сей день остающийся весьма расплывчатым понятием, которым характеризуется слишком широкий спектр явлений.
Пинчона поначалу записали в лидеры «черного юмора», а затем его творчество на все лады толковали как наиболее яркое выражение постмодернизма. Однако, как и всякий большой писатель, он не укладывается в прокрустово ложе каких-либо школ и направлений. В его произведениях можно найти стилистические элементы и приемы как высокого искусства прошлого, так и современной массовой литературы. В сущности, стилевое многообразие является характерной чертой и одним из достоинств пинчоновской прозы.
О таком освобождении языка и стилистической свободе Пинчон говорит в «Предисловии» к своему сборнику рассказов (кстати, единственном автокомментарии писателя), ссылаясь на битников, Миллера, Набокова и других писателей, чьи произведения подготовили почву для поколения «шестидесятников»:
«Это была эра «Вопля», «Лолиты», «Тропика Рака»… Мы находили поддержку сразу с нескольких направлений – в произведениях Керуака и писателей-битников, в стилистике «Приключений Оги Марча» Сола Беллоу, в новых голосах таких авторов, как Герберт Гоулд и Филип Рот, чтобы понять, как по крайней мере два совершенно различных типа английского языка могут сосуществовать в литературе. ‹…) Эффект был потрясающим, несущим свободу и в высшей степени позитивным. Дело было не в выборе либо/либо, а в расширении возможностей».[2]
С другой стороны, Пинчон, как и его современники, разделял и был, пожалуй, первым писателем, выразившим возникшее в эти годы ощущение, что «все вырождается» («everything is running downs», как выразилась Сьюзан Сонтаг).
Согласно Второму началу термодинамики, закрытая система (не получающая энергии извне) неизбежно движется от порядка, активности и разнообразия к хаосу, неподвижности и однообразию. В этом смысле энтропия – это мера хаоса такой системы.
В теории информации энтропия является мерой неопределенности сообщения в зависимости от числа возможных сообщений, которые могут заменить данное сообщение.
В середине XX века, как никогда, актуальной становится идея о вырождении культуры и цивилизации, которая находит свое выражение в распространении понятия энтропии на социальные процессы. В конце книги «Печальные тропики» (1955) известный французский антрополог Клод Леви-Стросс пишет: «С того времени, как человек качал дышать и питаться, вся его деятельность… – за исключением воспроизведения себе подобных – была не чем иным, как успешным разрушением миллиардов структур, доведением их до того состояния, в котором они уже не подлежат интеграции. (…) Цивилизация, рассматриваемая как целое, может восприниматься как необычайно сложный механизм, в котором мы хотели бы увидеть шанс для выживания нашего мира, если бы функцией этого механизма не было создание того, что физики называют энтропией… Любое произнесенное слово, любая напечатанная строчка создают связи между собеседниками и нивелируют уровень, который ранее характеризовался различием в информации, а значит – большей организованностью. Вместо «антропология» следовало бы писать «энтропология», то есть дисциплина, изучающая процесс дезинтеграции в его наиболее значимых проявлениях».[3]
Используя каламбур Леви-Стросса, известный критик Тони Тэннер называет американских писателей 60-х годов «усердными и заинтересованными энтропологами».[4] Среди писателей, использующих понятие энтропии, Тэннер называет Нормана Мейлера, Сола Беллоу, Джона Апдайка, Джона Барта, Уолкера Перси, Стенли Элкина и Дональда Бартельми.
Энтропия становится основной метафорой творимой Пинчоном картины мира. Именно так он назвал свой наиболее известный и, можно даже сказать, программный рассказ. Впрочем, в данном случае он отталкивается от мысли Генри Адамса, для которого энтропия ассоциировалась с наметившимся распадом прошлого идеологического единства. У Адамса энтропия становится метафорой «множественности XX столетия», исследованию которой он посвятил свою автобиографию «Воспитание Генри Адамса» (1907).
В «Предисловии» к «Неторопливому ученику», которое вообще отличается в высшей степени самокритичным тоном, Пинчон признается, что идея рассказа «Энтропия» (1960) возникла у него от чтения «Воспитания Генри Адамса» и книги основоположника кибернетики Норберта Винера «Человеческое использование человеческих существ» (1949).
Рассказ написан в характерной для Пинчона усложненной манере, перенасыщен культурными реалиями и призван передать движение современной цивилизации к хаосу и гибели. В структурном плане композиция рассказа строго упорядочена по аналогии с формой музыкальной фуги (джазовые ритмы вечеринки перемежаются «философскими» мемуарами Каллисто). Повествование строится на чередовании двух уровней: хаотического (вечеринка) и упорядоченного (оранжерея Каллисто), однако обе линии предположительно должны разрешиться в установлении равновесия. Однако, как обычно у Пинчона, вопрос о торжестве энтропии остается за рамками рассказа.
Предвосхищение темы энтропии, оппозиция порядка и хаоса возникают уже в первых рассказах Пинчона – «Мелкий дождь» и «К низинам низин» (1960). И в том и в другом случае упорядоченное пассивное существование героя, т. е. состояние равновесия, нарушается вторжением внешней силы.
Рассказ «К низинам низин» описывает, главным образом, пространственное перемещение главного героя по вертикали, сверху вниз, из дома на скале в недра городской свалки. Нетрудно заметить основное противопоставление рассказа: безбрежный океан, морская стихия – и маленький домик на скале, упорядоченное существование в его «утробе» (важнейший символ рассказа). «Утробное» существование одержимого морем Флэнджа нарушает Хряк Бодайн (который затем появится в романе «V.»), едва не ввергший Флэнджа в пучину хаоса за семь лет до этого. Флэндж, ранее совершавший редкие вылазки из «утробы» и находивший своеобразный суррогат свободы в иррациональном мире пьяного психоаналитика с гордым именем знаменитого вождя апачей, на сей раз из «утробы» изгнан, и даже суррогат «утробы» (заброшенная полицейская будка во дворе) становится ему недоступен. Казалось бы, Флэндж обретает настоящую свободу. Однако оппозиция «верх – низ» оказывается симметричной. Бездонная свалка заменяет безбрежный океан, а негр Болингброк (своего рода боцман свалки) и девушка-цыганка (своего рода лоцман) неотвратимо ведут Флэнджа в новую «утробу» к привычному существованию. Свобода оказывается иллюзорной, Флэндж остается прежним, он просто меняет одну утробу на другую. Вывод: бежать некуда.
Еще одной сквозной темой творчества Пинчона является тема заговора, который в его произведениях предстает в качестве одной из форм противодействия энтропии, поскольку заговор подразумевает не пассивное наблюдение, а строгое следование заранее определенной цепочке действий.
Рассказ «Под розой» (1961) можно назвать «наброском» к третьей главе романа «V.», вышедшего в 1963 г.
Разница лишь в том, что история, описываемая в рассказе от третьего липа, в «V.» будет рассказана от первого – точнее, от нескольких первых лиц. Некоторые пассажи будут перенесены в роман практически слово в слово. При этом сюжет (противостояние двух агентов секретных служб, один из которых почти до самого конца остается за кулисами) в «V.» представлен более туманно, чем в рассказе. «Под розой» оставляет впечатление художественного текста, написанного без определенной событийной концепции. Иными словами, Пинчон отталкивается не от заранее продуманного сюжета, а от образов персонажей и отчасти от места и времени действия, подстраивая под них события. Получился коллаж, украшенный всевозможными мистическими и фантастическими деталями, а также богатым изобразительным и звуковым рядом – в рассказе неоднократно звучит музыка (чаще всего это опера «Манон Леско» Пуччини; Пинчон намеренно проводит аналогию между Порпентайном, главным персонажем, и шевалье де Грие – образчиком благородства и простодушия). Но, пожалуй, здесь более важна идея о том, что весьма незначительные события могут изменить ход истории.
Рассказ (а точнее, небольшая повесть) «Секретная интеграция» (1964) – пожалуй, единственный отклик Пинчона на злобу дня. В то же время это одно из наиболее «красиво» исполненных произведений Пинчона, поскольку лишь в конце, после неожиданного сюжетного поворота, выясняется антирасистская направленность рассказа.
Наиболее последовательно метафора энтропии реализована во втором романе Пинчона – «Выкрикивается лот 49». Небольшой объем и относительно последовательное развитие сюжета делают этот роман на первый взгляд наиболее доступным и поэтому наиболее читаемым произведением Пинчона. Вместе с тем «Выкрикивается лог 49» остается его самой загадочной книгой, не поддающейся (можно даже сказать, принципиально противящейся) однозначной интерпретации. Поэтому мы попытаемся наметить лишь основные возможные «подходы» к се прочтению и обратить внимание читателей на некоторые принципиально важные аспекты.
Сюжет романа достаточно прост и, как нередко бывает у Пинчона, строится вокруг некоего предполагаемого или реально существующего заговора (заметим в скобках, что связь между заговором и сюжетом более очевидна в английском языке, где они обозначаются одним и тем же словом «plot») и стремления разгадать некую тайну.
Героиня романа, которую зовут Эдипа Маас, в один прекрасный день обнаруживает, что назначена распорядительницей имущества калифорнийского магната Пирса Инверэрити, с которым у нее в прошлом была любовная связь. Выполняя волю покойного, Эдипа отправляется в расположенный в южной Калифорнии город Сан-Нарцисо, где находятся многочисленные владения, предприятия и штаб-квартира Пирса. И практически с первых минут пребывания в этом городе, который видится ей иероглифической записью, скрывающей некий смысл, Эдипа начинает ощущать, что «оказалась как бы в преддверии какого-то необычного религиозного откровения».
И действительно, события начинают разворачиваться самым необычным образом. Посмотрев «Трагедию курьера» и проникшись ее атмосферой, «которую создал для аудитории XVII века чародей Ричард Уорфингер, – атмосферой предалокалиптической, насыщенной жаждой смерти и выдохшейся чувственностью, атмосферой хаотической, немного едкой, полной предчувствия холодной бездны гражданской войны», Эдипа пытается что-нибудь узнать об упомянутой в пьесе загадочной системе Тристеро, конкурирующей с почтовой монополией «Торн и Таксис».[5] Постепенно выясняется, что все прямо или косвенно оказывается связанным с наследием, оставленным Инверэрити. Случайные слова и символы указывают на существование некой организации, возникшей в Европе в противовес имперской почтовой системе и, по всей видимости, с середины прошлого века продолжающей свою тайную деятельность в Америке. Откровения начинают множиться в геометрической прогрессии, «словно чем больше информации она получала, тем больше ей предстояло узнать, пока все, что она видела и осязала, о чем грезила и что вспоминала, не будет так или иначе вплетено в Тристеро».
Эдипа тщетно стремится проникнуть в тайну Тристеро, подозревая, что все, происходящее с ней, является частью какого-то плана, заговора или, может быть, всего лишь розыгрышем, задуманным шутником Пирсом. Она продолжает надеяться, что за нагромождением случайных совпадений кроется некий смысл, который прояснится, если ей удастся упорядочить и свести в единую систему добытые сведения. Эдипа считает, что должна «стать темным проектором в центре планетария, способным превратить полученное наследство в звездородный Смысл, пульсирующий вокруг нее на искусственном небосводе». Ей кажется, что вместе с этим смыслом она освободится из заточения собственных страхов и сомнений относительно истинной и мнимой реальности. Но здесь неизбежно возникают, по сути дела, центральный вопрос романа: Что такое подлинная реальность? Является ли реальность творением человеческого сознания? Или она существует сама по себе? И если верно последнее, то как человек может познать ее и может ли вообще?
В начале романа Эдипа вспоминает виденный ею в Мексике триптих испанской художницы Ремедиос Варо, в центральной части которого изображены девушки, заточенные в башне и ткущие гобелен, «который вываливался через оконный проем в пустоту, тщетно пытаясь ее заполнить; все остальные здания и животные, все волны, корабли и леса земные были вышиты на гобелене, и гобелен был целым миром». Эдипа ощущает себя узницей собственного сознания, творящего собственный мир, который, возможно, не имеет ничего общего с подлинной реальностью. Она понимает, что «на самом деле в заточении ее держит магия, безликая и злобная, пришедшая извне и не поддающаяся разумному объяснению». Воплощением этой магии для нее становится система Тристеро, и, начиная свои поиски, Эдипа надеется, что раскрытие тайны Тристеро положит конец ее заточению в магической башне.
Однако истинное положение дел не только не проясняется, но запутывается еще больше. Ответы на те или иные вопросы, как правило, взаимно исключают друг друга и порождают все новые и новые вопросы. Здесь вступает в силу еще один важный структурный элемент романа – принцип неопределенности. В квантовой физике он был сформулирован немецким физиком Вернером Гейзенбергом в 1927 г. В более общем виде и в применении к процессу познания этот принцип можно изложить следующим образом: познающий субъект самим фактом наблюдения реальности неизбежно искажает объект познания. Поэтому какое-либо окончательно «истинное» суждение о реальности невозможно. К этому выводу Пинчон и подводит читателей.
Тем не менее, по мысли Пинчона, постижение недоступной для непосредственного восприятия реальности возможно, но только на «дологическом» уровне, через своего рода «религиозное откровение», посредством Слова. Во время своих ночных шатаний по Сан-Франциско Эдипа встречает умирающего от белой горячки старика моряка, и ей открывается еще одна истина, опять-таки выраженная в метафоре:
«Держа его в объятиях, Эдипа поняла, что он страдал от DT. За этой аббревиатурой – delirium tremens – скрывалась метафора трепетного проникновения разума в неведомое. Святой, чья вода могла возжигать лампады; ясновидец, чьи оговорки задним числом оказывались гласом Духа Господня; законченный параноик, для которого весь мир вертелся вокруг него самого и четко делился на сферу буйной радости и сферу постоянной угрозы; мечтатель, изучавший в своих видениях древние туннели истины с обветшавшими входами, – все они одинаковым образом соотносили свои действия со словом – или тем, что выполняло функцию слова, – которое прикрывало их и защищало».
В ее сознании delirium tremens неожиданно соотносится с дифференциалом такта времени, обозначаемым тем же сокращением. И в тексте возникает еще одна характерная для Пинчона математическая метафора: «Эдипа знала, что моряку открывались миры, которых не видел никто, так как в приземленных метафорах есть высокая магия, a DT дает доступ к спектру «dt», лежащему за пределами нашей вселенной, и музыка отражает белый ужас антарктического одиночества». Такое столкновение метафор, вероятно, можно истолковать именно как невозможность логического постижения истины.[6] А там, где бессильна логика, на помощь приходит ниспосланное свыше откровение. Возможно, оно ждет Эдипу в финале, когда аукционист, выкрикивая лот 49, вскидывает «руки, словно жрец какого-то туземного племени, как будто взывая к ангелу, сходящему с небес».
Такова, если можно так выразиться, «метафизика» романа. Однако в отличие от философского трактата роман не постулирует никаких истин, а в отличие от детектива тайна, которую расследует Эдипа, так и остается неразгаданной.
В этом смысле «Выкрикивается лот 49» можно назвать метафизическим детективом, точнее, пародией на детективное повествование, поскольку Пинчон не дает однозначных ответов на вопросы, которые мучают героиню. Не случайно она носит довольно необычное имя – Эдипа, которое служит Пинчону отправной точкой для инверсии мифа об Эдипе, разгадавшем, как мы помним, загадку Сфинкса.
Роман, который кажется запутанным, хаотическим, перенасыщенным информацией и временами даже абсурдным, на самом деле подчиняется очень жесткой внутренней логике. События фатальны и предначертаны, исход предрешен, изменить ничего нельзя. С этой точки зрения имя главной героини имеет несомненную связь с героем античного мифа, но не как вариант фрейдистского «эдипова комплекса», а как символ подвластности року.
Вообще имена и названия, которые использует Пинчон (и не только в этом романе) почти всегда «говорящие».
Вот лишь несколько примеров. Сан-Нарцисо – это явная аллюзия на миф о Нарциссе (гибель от самолюбования) и на легенду о Святом Нарцисе, превратившем воду в масло для лампады. В романе есть прямая отсылка к этой легенде («Картина с изображением святого, превращающего родниковую воду в масло для пасхальных лампад Иерусалима»), которая, вероятно, еще раз подчеркивает возможность чудесного спасения. Имя Пирса Инверэрити в английском созвучно слову inveracity (лживость, несоответствие истине) и pierce/peers in variety (проникновение и пристальное всматривание в разнообразие вещей). Тристеро, как и следовало ожидать, несет зловещие ассоциации, перекликаясь с французским tristesse (печаль) и соединяя в себе tryst (встреча возлюбленных) и terror (ужас).
Вся структура повествования соответствует центральной метафоре романа – энтропии, которую в рамках переосмысления мифа о царе Эдипе можно истолковать как современную форму судьбы или рока. При этом в развитии сюжета Пинчон соединяет оба вида энтропии. С точки зрения термодинамики Эдипа, отправившись навстречу судьбе, движется от состояния инертности и бездеятельного однообразия (т. е. большей энтропии) к состоянию активного разгадывания тайны Тристеро (т. е. меньшей энтропии). И наоборот, с точки зрения теории информации в этом ее движении происходит увеличение энтропии: количество информации, которую она собирает о Тристеро, непрерывно возрастает, и вместе с тем все более неопределенным становится конечный смысл этой информации.
Эти два вида энтропии Пинчон иронически соединяет в машине полубезумного изобретателя Нефастиса, который, утверждая, что энтропия – это всего лишь метафора, противоречит сам себе, когда говорит, что демон Максвелла «переводит метафору из разряда изящной словесности в разряд объективной истины». На самом же деле его машина не работает, и работать в принципе не может.
Для самого же Пинчона энтропия служит метафорой, которая применима к «действительности» лишь по аналогии, поскольку действие метафоры «является прорывом либо к правде, либо ко лжи, в зависимости от того, где вы в данный момент находитесь: внутри в безопасности или снаружи в смятении».
Но так ли вес безнадежно и мрачно в мире, который творит Пинчон? Думается, намек на некоторую надежду и на преображение жизни можно усмотреть в названии романа. У Пинчона, как мы знаем, ничего не бывает случайным. Разумеется, и номер лота, который выкрикивается в финале, несет принципиально важный для автора смысл. Внимательный читатель вспомнит, что первый акт «Трагедии курьера», которую смотрит Эдипа, завершается следующим стихом:
Шут Эрколе сейчас из подлеца
Одним ударом сделает скопца.
Нечистый дух отправим на погост,
Начнем ужасный праздник Пентекост.
Пентекост по-гречески значит «пятидесятый». В русском переводе Библии это название праздника жатвы первых плодов звучит как Пятидесятница, что ясно отсылает к его этимологии. В христианстве праздник жатвы иудеев стал днем сошествия Святого Духа (через пятьдесят дней после воскресения Христа), которое знаменовало начало осуществления Нового Завета в истории человечества. Исходя из этого, сорок девятый номер лота можно трактовать как преддверие и обещание спасения в новой вере.[7]
Н. Махлаюк, С. Слободянюк
Однажды летним вечером миссис Эдипа Маас вернулась домой с таппервэрской вечеринки,[8] где хозяйка, видимо, от души сдобрила фондю[9] бренди, дабы убедиться, что она – Эдипа – назначена распорядителем, точнее, распорядительницей имущества Пирса Инверэрити, калифорнийского магната в сфере торговли недвижимостью, который как-то в свободное время просадил два миллиона долларов, но тем не менее оставил солидные активы, в которых обнаружилась такая путаница, что привести их в порядок было делом не просто почетным, а почетным весьма. Эдипа стояла в гостиной под бесстрастным мертвым оком зеленоватого экрана телевизора и поминала всуе имя Господа, пытаясь почувствовать себя вдребезги пьяной. Не получалось. Она вспоминала, как хлопнула дверь номера в Масатланском отеле,[10] пробудив две сотни птиц в холле; думала о том, как над покатой крышей библиотеки Корнеллского университета занимается заря, которой никто, впрочем, там не видел, поскольку скат крыши выходил на запад; размышляла о сдержанной и печальной мелодии Бартока[11] из четвертой части Концерта для оркестра и о гипсовом бюсте Джея Гулда,[12] который стоял над кроватью на слишком узенькой полочке, и Эдипа всегда с ужасом ждала, что вот сейчас он грохнется. Может, так и умер Пирс, гадала Эдипа, погиб, раздавленный единственным в доме иконическим символом? У нее вырвался громкий беспомощный смех. Ты больна, Эдипа, говорила она то ли себе, то ли комнате – неизвестно.
Письмо, пришедшее из Лос-Анджелеса от юридической фирмы «Уорп, Уистфул, Кубичек и Мак-Мингус», было подписано неким Метцгером. В нем говорилось, что Пирс умер еще весной, но завещание обнаружилось только сейчас. Метцгеру предписывалось выступать в качестве душеприказчика и советника по вопросам любого судебного разбирательства, буде таковое возникнет. В приписке, сделанной год назад, душеприказчицей также назначалась Эдипа. Она попыталась припомнить, не случилось ли что-нибудь необычное в этот период. И весь остаток дня – во время похода на рынок в торговом центре Киннерета-Среди-Сосен,[13] где она покупала ricotta[14] и слушала музон (сегодня она прошла через бисерный занавес на четвертом такте концерта Вивальди для мирлитона[15] в исполнении ансамбля «Форт Уэйн Сеттеченто»,[16] солировал Бойд Бивер); собирая майоран и сладкий базилик в залитом солнцем саду, читая рецензии на новые книги в последнем номере «Сайентифик Америкэн»,[17] готовя лазанью и хлеб в чесночном масле, обрывая листья салата-латук и, наконец, разогревая еду в духовке и смешивая вечерний коктейль для супруга, Уэнделла Мааса по прозвищу Мачо, к его возвращению с работы, – она вспоминала и вспоминала, ковыляя через насыщенные событиями дни, которые либо казались (неужели она первой это заметила?) более или менее одинаковыми, либо сплошь пестрели тонкими намеками, которые, подобно колоде карт фокусника, охотно открывали свои секреты тренированному глазу. Она мучилась до середины телешоу Хантли и Бринкли[18] и в конце концов вспомнила, что однажды в прошлом году около трех часов утра раздался междугородный звонок – вряд ли она когда-нибудь узнает, откуда именно (если только Пирс не оставил дневника), – и собеседник поначалу заговорил с сильным славянским акцентом и представился вторым секретарем Трансильванского консульства, разыскивающим сбежавшую летучую мышь; после чего плавно смодулировал в комично утрированный негритянский выговор, перешел на грязный диалект пачучо, изобилующий chingas и maricones,[19] визгливым голосом гестаповского офицера стал допытываться, нет ли у нее родственников в Германии, и, наконец, сымитировал голос Ламонта Крэнстона, которым говорил Пирс во время поездки в Масатлан.
– Ради Бога, Пирс, – сумела вставить Эдипа, – я думала, между нами…
– Марго, – серьезно прервал он, – я только что побывал у комиссара Уэстона, старика завалили прямо в их дурдоме, причем пушка та самая, из которой шлепнули профессора Квакенбуша. – И понес что-то в этом роде.
– Ради Бога, – повторила Эдипа. Мачо перевернулся и смотрел на нее.
– Пошли его ко всем чертям и повесь трубку, – весьма разумно предложил он.
– Я слышал, – сказал Пирс – Думаю, что Уэнделлу Маасу пришла пора повидаться с Тенью. – Повисла основательная и многозначительная пауза.
Таким был последний из его голосов, который она услышала. Голос Ламонта Крэнстона.[20] Телефонная линия могла быть любой длины и тянуться в любом направлении. Через пару месяцев после звонка темную неопределенность вытеснило то, что удалось воскресить в памяти: его лицо, тело, вещи, которые он ей дарил, и слова, которых ока якобы не услышала. Затем все отодвинулось и оказалось на грани забвения. Тень выжидала целый год, прежде чем появиться. И вот пришло письмо Метцгера. Может, Пирс звонил тогда, чтобы сообщить об этой приписке? Или он решил сделать ее позже – например, из-за ее раздражения и равнодушия Мачо? Эдипа чувствовала себя беззащитной, растерянной и сбитой с толку. Ей никогда в жизни не приходилось исполнять волю покойного, она не знала, с чего начать, и не знала, как сказать юристам из Лос-Анджелеса, что не знает, с чего начать.
– Мачо, малыш, – позвала она в припадке беспомощности.
Мачо Маас, уютный и домашний, впрыгнул в дверной проем.
– Опять сегодня продули, – начал он.
– Должна тебе сообщить… – начала вместе с ним Эдипа.
Но сначала дадим Мачо войти.
Он работал диск-жокеем на Полуострове и регулярно страдал от приступов угрызений совести по поводу своей профессии. «Я ни капельки в это не верю, Эд, – обычно начинал он. – Пытаюсь, но никак не могу». – И тянул, и тянул дальше, выходя за пределы терпения Эдипы, которая не раз во время этих приступов уже была готова запаниковать. И, видимо, лишь ее вид, свидетельствующий, что сейчас она утратит над собой контроль, как-то приводил Мачо в себя.
– Ты слишком чувствителен. – Да, она должна была еще очень многое сказать, но ограничивалась этим. Во всяком случае, это была правда.
Пару лет он торговал подержанными машинами и настолько остро чувствовал, к чему приведет его эта профессия, что рабочие часы были для него мукой смертной. Мачо ежеутренне по три раза брил верхнюю губу, удаляя малейшие признаки усов, доставал новые лезвия, которые неизменно оставались окровавленными, но продолжал упорствовать; покупал прекрасно сидевшие костюмы и отправлялся к портному, чтобы как можно более неестественно обузить лацканы; волосы лишь смачивал водой, зачесывая их вверх и отбрасывая назад на манер Джека Леммона.[21] Вид карандашных стружек и опилок приводил его в содрогание, поскольку в автосалоне они использовались, чтобы приглушить скрежет в коробке передач; и даже сидя на диете, он не мог, подобно Эдипе, позволить себе подсластить кофе медом, поскольку все липкое и тягучее ему претило, слишком живо напоминая ту дрянь, которая часто смешивается с моторным маслом и коварно просачивается между поршнем и стенками цилиндра. Однажды он ушел с вечеринки, потому что услышал слова «взбитые сливки», которые, по его мнению, прозвучали угрожающе. Их произнес кондитер, беженец из Венгрии, говоривший о своих изделиях, но таков уж был Мачо – тонкокожий.
Впрочем, по крайней мере в машины он верил. Может, даже слишком; да и как могло быть иначе, когда все семь дней в неделю он видел людей беднее себя – негров, мексиканцев, голодранцев из южных штатов, – которые прикатывали, словно на парад, и устраивали самый что ни на есть богохульственный обмен старого на новое; металлические и моторизованные продолжения их самих, их семей и, возможно, всей их жизни представали, можно сказать, голыми перед взглядами таких же чужаков, как он сам: покореженные корпуса, проржавевшие днища, кое-как закрашенные крылья – уже только этого хватало, чтобы сбить цену и выбить из колеи Мачо; внутри безнадежно воняло детьми, дешевым пойлом из супермаркета, двумя, а иногда и тремя поколениями курильщиков или просто пылью; и когда из машин выгребали мусор, то с неизбежностью обнаруживались остатки прошлой жизнедеятельности, причем никто не мог сказать, какие вещи были оставлены специально (сюда бесстрашно доезжало так мало, что большую часть вещей, полагал Мачо, должны были брать, чтобы держать при себе), а какие просто (и, возможно, трагически) потерялись; отрезанные купоны, обещавшие сэкономить пять или десять центов, талоны на скидку, розовые листочки, рекламирующие товары на рынках, окурки, расчески с выломанными зубьями, объявления о найме на работу, «желтые» страницы, вырванные из телефонной книги, обрывки нижнего белья или давно вышедшего из моды платья, которыми теперь протирают изнутри запотевшее от дыхания ветровое стекло, чтобы можно было увидеть фильм, вожделенную женщину или машину, легавого, который мог тормознуть тебя просто для тренировки, – все эти кусочки, складывающиеся в своеобразный винегрет отчаяния, имели одинаковую окраску, один и тот же серый оттенок пепла, конденсированного выхлопа, пыли, телесных выделений, и Мачо было больно смотреть на них, но смотреть приходилось. Будь это обычная свалка, он, наверное, сумел бы с ней примириться и сделать карьеру: крупные разрушения, сопровождаемые насилием и жестокостью, случаются нечасто и в таком отдалении, что кажутся чудом – как и любая смерть кажется чудом, пока не подступит к тебе самому. А вот бесконечные недели ритуального машинообмена, никогда не приводившие к насилию и крови, были для впечатлительного Мачо слишком правдоподобны, и долго выносить их он не мог. И даже если длительное общение с неизменной болезненной серостью выработало в нем некоторый иммунитет, он по-прежнему не мог принять образ действий, при котором владельцы и их тени выстраиваются в шеренгу лишь для того, чтобы обменять одну помятую и сбойную модель самого себя на другую. Словно это было самым обычным делом. Для Мачо это был ужас. Непрерывный и бесконечный инцест.
Эдипа не могла понять, почему он до сих пор так расстраивается. К тому времени, как они поженились, Мачо уже два года работал на ККРС,[22] и та площадка на мертвенно-серой рычащей магистрали осталась для него в таком же далеком прошлом, как Вторая мировая война и Корейский конфликт для мужей возрастом постарше. Возможно, – упаси Господи, конечно, – попади Мачо на войну – япошки на деревьях, фрицы на «тиграх», узкоглазые с духовыми трубками по ночам, – и он быстрее всего забыл бы о салоне подержанных автомобилей – лоте своей судьбы, который столь тревожил его вот уже пять лет. Пять лет. Да, вояк надо успокаивать, когда они просыпаются, обливаясь потом, или кричат на языке кошмаров, их надо удерживать, утешать, а потом однажды все забудется – Эдипа это знала. Но когда же забудет Мачо? Она подозревала, что место диск-жокея (которое он получил через своего старого приятеля, менеджера ККРС по рекламе, приезжавшего в салон раз в неделю, – салон был спонсором) было лишь возможностью переключаться на список двухсот лучших песен, и даже экземпляр новостей, с треском вылетающий из газетного автомата, – вечно обманывая ожидания подростков – был только буфером между Мачо и автосалоном.
Он слишком верил в автосалон и совсем не верил в радиостанцию. Глядя, как он сейчас скользит в гостиной, планируя, подобно большой птице, к запотевшему шейкеру с выпивкой, мягко улыбаясь в центр водоворота, можно было подумать, что все спокойно, ясно и безмятежно.
До тех пор пока Мачо не открывал рот.
– Сегодня меня вызвал Фанч, – сообщал он, наливая, – и завел бодягу о том, что ему не нравится мой имидж. – Фанч был режиссером программы и злейшим врагом Мачо. – Я теперь, видите ли, слишком груб. Мне следует изображать молодого отца или там старшего брата. Эти маленькие цыпочки звонят, задают вопросы, в которых, по мнению Фанча, звучит неприкрытая похоть, и трепещут от каждого моего слова. Поэтому теперь мне предложено записывать все телефонные разговоры. Фанч лично отредактирует все, что ему покажется непристойным, – то есть все мои реплики. Цензура, сказал я ему, потом добавил, что он предатель, и ушел. – Подобные рутинные перебранки происходили между ними примерно раз в неделю.
Эдипа показала ему письмо Метцгера. Мачо знал о ее отношениях с Пирсом; они кончились за год до того, как Мачо на ней женился. Он прочел письмо и, застенчиво моргая, уставился вдаль.
– Что мне делать? – спросила Эдипа.
– О нет, – ответил Мачо. – Это не ко мне. Только не я. Я даже не могу толком сосчитать наш подоходный налог. А исполнение воли покойного – тут мне вообще нечего сказать. Повидай Розмана. – Их адвокат.
– Мачо. Уэнделл. Это закончилось. До того как он вписал туда мое имя.
– Да, да. Я это и имел в виду, Эд. Я некомпетентен.
Так что на следующее утро она пошла и встретилась с Розманом. Предварительно проведя полчаса перед зеркалом, вновь и вновь рисуя тонкую линию на веках, которая искривлялась, прежде чем она успевала убрать кисточку. Большую часть ночи она не спала, поскольку в три часа утра раздался еще один телефонный звонок, и когда инструмент, секунду назад безмолвствовавший, вдруг пронзительно заверещал, сердце у нее замерло от ужаса. Они мгновенно проснулись и первые несколько звонков лежали, не размыкая объятий и даже не глядя друг на друга. Наконец Эдипа, понимая, что терять уже нечего, взяла трубку. Звонил доктор Хилэриус, ее исповедник и психотерапевт. Изъяснялся он как Пирс, изображающий гестаповского офицера.
– Надеюсь, я вас не разбудил, – сухо начал он. – У вас был очень испуганный голос. Как таблетки? Не помогают?
– Я их не принимаю, – ответила Эдипа.
– Чувствуете в них какую-то угрозу?
– Я не знаю, из чего они сделаны.
– Вы не верите, что это просто успокоительное.
– А я могу вам верить? – Она не верила, и его следующие слова объясняли причину недоверия.
– Нам нужен сто четвертый, чтобы построить мост. – Сухой смешок. Мост, die Briicke, – таким кодовым словом назывался эксперимент, который он проводил в районной больнице, исследуя влияние ЛСД-25, мескалина, псилоцибина и схожих с ними наркотиков на большую группу пригородных домохозяек. Внутренний мост. – Когда же мы сможем включить вас в наше расписание?
– Нет, – отвергла предложение Эдипа, – у вас есть полмиллиона других, выбирайте среди них. Сейчас три часа утра.
– Нам нужны вы.
И вдруг прямо в воздухе над своей кроватью Эдипа увидела хорошо знакомый портрет Дядюшки Сэма, который вывешивали на всех наших почтамтах: глаза горят нездоровым светом, желтые впалые щеки жутко нарумянены, указательный палец уставлен ей точно между глаз. Ты нужна мне. Она никогда не спрашивала доктора Хилэриуса – зачем, боясь любого ответа, который он мог дать.
– У меня и так галлюцинации, без ваших наркотиков.
– Не рассказывайте о них, – быстро сказал он. – Ладно. О чем вы еще хотели поговорить?
– Это я-то хотела?
– Я так думал, – сказал он. – Было такое ощущение. Не телепатия. Но связь с пациентом порой бывает своеобразной.
– Только не в этом случае. – И Эдипа повесила трубку. Но заснуть уже не смогла. Будь она проклята, если станет принимать его пилюли. В буквальном смысле проклята. Она ни в коем случае не желала сидеть на крючке – так ему и сказала.
– Но ведь у меня на крючке вы не сидите? – Он пожал плечами, – Тогда уходите. Лечение окончено.
Она не ушла. Не потому, что этот шаман имел над ней какую-то власть. Просто проще было остаться. Кто знает, в какой день она вылечится? Только не он, и он сам это признавал. «Не надо таблеток», – умоляла Эдипа. Хилэриус лишь корчил ей рожу, такую же, как раньше. Он весь был соткан из очаровательных неортодоксальных черт. У него была теория, что симметричное лицо может, подобно кляксе Роршаха, рассказать целую историю и вызвать нужную реакцию, словно картинка тематического апперцепционального теста[23] – вроде как подсказка, а почему бы и нет. Он утверждал, что однажды вылечил случай истерической слепоты с помощью лица номер 37, «Фу-Манчу»[24] (многие его лица, как немецкие симфонии, имели номер и название), которое создавалось путем поднятия век указательными пальцами, введения средних пальцев в ноздри, растягивания рта четвертыми пальцами и высовывания языка. На Хилэриусе это выглядело весьма пугающе. И в результате, когда развеялся призрак Дядюшки Сэма, именно лицо Фу-Манчу пришло ему на смену и оставалось с Эдипой до самого рассвета. Она с трудом взяла себя в руки перед встречей с Розманом.
Однако Розман тоже провел бессонную ночь, так как весь вечер сидел перед телевизором и смотрел сериал о Перри Мэйсоне,[25] которого обожала его жена и к которому сам Розман питал сложное, двойственное чувство, желая одновременно и стать таким же блестящим адвокатом, и – поскольку это было невозможно – уничтожить Перри Мэйсона, развенчав его. Эдипа, придя в офис, застала верного адвоката своей семьи поспешно и виновато запихивающим в ящик стола пачку разноцветных и разноформатных листов. Она знала, что это были заметки по делу «Адвокаты против Перри Мэйсона. Вполне возможное обвинение», которое тянулось с того момента, как начался показ телесериала.
– Насколько я помню, вы раньше редко чувствовали себя виноватым, – сказала Эдипа. Они часто встречались на сеансах групповой терапии, куда их возил на своей машине фотограф из Пало Альто, воображавший себя волейбольным мячом. – Это хороший знак, верно?
– Вы могли бы стать одной из шпионок Перри Мэйсона, – ответил Розман. И, секунду подумав, добавил: – Ха-ха.
– Ха-ха, – согласилась Эдипа. Они посмотрели друг на друга. – Я должна выполнить волю покойного, – сказала Эдипа.
– О, – сказал Розман, – тогда приступайте. Не смею вас удерживать.
– Да нет, – отмахнулась Эдипа и рассказала ему все.
– Зачем же ему это понадобилось? – озадачился Розман, прочитав письмо.
– Что? Умирать?
– Нет, называть вас в числе душеприказчиков.
– Он был непредсказуем.
Они пошли перекусить. Розман пытался заигрывать с ней под столом ножкой. Эдипа была в сапогах и почти ничего не почувствовала. Отбрыкалась и решила не волноваться попусту.
– Хотите – сбежим со мной, – предложил Розман, когда подали кофе.
– Куда? – спросила Эдипа. И Розман заткнулся.
Возвращаясь в офис, он обрисовал, во что она вляпалась: придется разобраться в бизнесе, изучить расходные книги, дождаться официального утверждения завещания, собрать все долги, составить опись активов, оценить имущество, решить, что ликвидировать, а что попридержать, оплатить счета, уплатить налоги, распределить наследство…
– Эй, – сказала Эдипа, – а может кто-нибудь это сделать за меня?
– Я могу, – ответил Розман, – частично, разумеется. Но разве вам не интересно?
– Что?
– То, что вы можете узнать.
Как выяснилось, ей предстояло сделать всевозможные открытия. Едва ли о Пирсе Инверэрити или о себе; скорее, о том, что раньше по тем или иным причинам оставалось вне поля зрения. Эдипу не покидало острое чувство отчуждения, сопереживания не получалось, ясность отсутствовала, все было расплывчато, как в кино, когда механик забыл навести резкость. Но она неожиданно заметила, что плавно входит в роль задумчивой и печальной девушки, которая, подобно Рапунцель,[26] каким-то волшебным образом стала пленницей сосен и соленых туманов Киннерета и теперь ждет спасителя, который крикнет: «Эй, спусти вниз свои косы». И коль окажется Пирсом спаситель, радостно вынет заколки она, шпильки отбросит и вниз беспечально обрушит лавину волос, шелестящих и спутанных, шепчущих нежно, по которым карабкаться будет спаситель до половины примерно, но тут злой колдун превратит вдруг в парик ее косы прекрасные, и обратно на землю низвергнется Пирс, звонко шлепнувшись прямо на задницу. Но неустрашимый Пирс сумел бы, наверное, отпереть замок башенной двери, использовав одну из многочисленных кредитных карточек в качестве отмычки, и, преодолев гораздо более близкое ему коварство крученой щербатой лестницы, поднялся бы наверх, что, собственно, и следовало ему сделать с самого начала. Впрочем, как бы ни развивались их отношения, пределов своей башни они с Пирсом никогда не покидали. Как-то в Мехико-Сити они забрели на выставку картин великолепной испанской изгнанницы Ремедиос Варо;[27] в центральной части триптиха «Bordando el Manto Terrestre»[28] были изображены хрупкие девушки с нежными личиками, огромными глазами и золотистыми волосами, томящиеся на верху круглой башни, в комнате, и ткавшие гобелен, который вываливался через оконный проем в пустоту, тщетно пытаясь ее заполнить; все остальные здания и животные, все волны, корабли и леса земные были вышиты на гобелене, и гобелен был целым миром. Ошарашенная Эдипа стояла перед картиной и плакала. Никто не заметил, поскольку на ней были зеленые защитные очки. В какую-то секунду она подумала, что слезы заполнят все пространство за линзами и никогда не высохнут, если очки достаточно плотно прилегают к глазным впадинам. Тогда она сможет навеки сохранить печаль этого момента и смотреть на мир в преломлении слез, этих особенных слез, открывающих еще невиданное разнообразие связей в важных промежутках от плача до плача. Она смотрела себе под ноги и понимала, что стоит на том, что соткано за пару тысяч миль отсюда в ее собственной башне и лишь по чистой случайности известно как Мехико, а значит, Пирс никуда ее не увез, ибо, согласно картине, бежать было некуда. А от чего она, собственно, так хотела сбежать? Любая узница, имеющая массу времени для размышлений, довольно быстро понимает, что башня, ее высота и конструкция, равно как и «я» пленницы, совершенно несущественны и что на самом деле в заточении ее держит магия, безликая и злобная, пришедшая извне и не поддающаяся разумному объяснению. Не имея никаких средств (кроме нутряного страха и женской хитрости) для изучения этой бесформенной магии, для понимания принципа ее действия, для измерения ее мощи и для подсчета силовых линий, узница может впасть в суеверие, подыскать себе полезное хобби (вышивку, например), сойти сума или выйти замуж за диск-жокея. А что делать, если башня везде и рыцарь-избавитель против ее магии бессилен?
Итак, Эдипа выехала из Киннерета, не подозревая, что движется навстречу новым приключениям. Накануне Мачо Маас, с загадочно-непроницаемым видом насвистывая мелодию «Я хочу целовать твои ноги» (новой песни, записанной Шальным Диком с английской группой «Фольксвагены», которой Мачо в данный момент увлекался, хотя и не верил в ее перспективность), стоял засунув руки в карманы, пока Эдипа втолковывала ему, что ей надо съездить на несколько дней в Сан-Нарцисо, чтобы разобраться с бухгалтерскими книгами и бумагами Пирса, а также обсудить дела с Метцгером, вторым душеприказчиком. Мачо был огорчен ее отъездом, но в отчаяние не впадал, и Эдипа уехала, велев ему повесить трубку, если позвонит доктор Хилэриус, и поручив присматривать в саду за орегано, которое покрылось каким-то плесенным грибком.
Сан-Нарцисо располагался южнее, ближе к Лос-Анджелесу. Как многие имеющие название поселения в Калифорнии, Сан-Нарцисо был не столько городом, сколько конгломератом различных проектов: районов стандартной застройки, кварталов, построенных по жилищному займу, торговых зон – и все они располагались вдоль дорог, ведущих к автостраде. Тем не менее Сан-Нарцисо стал местом жительства Пирса, там располагалась его штаб-квартира, именно там десять лет назад он начал заниматься перепродажей земельных участков, заложив основы своего богатства, на котором впоследствии все и строилось, устремляясь ввысь хлипкими и нелепыми сооружениями. Уже одно это, подумала Эдипа, делало Сан-Нарцисо уникальным местом, придавало ему некую ауру. Но если оно и отличалось чем-то существенным от прочих населенных пунктов в южной Калифорнии, то на первый взгляд это отличие было практически незаметным. Эдипа на взятой напрокат «импале» подъехала к Сан-Нарцисо в воскресенье. Все было спокойно. Щурясь от яркого солнца, она посмотрела вниз на склон холма, где расположились дома, дружно стоявшие на блекло-коричневой земле ровными рядами, словно заботливо выращенный урожай; и ей вспомнилось, как однажды она открыла транзисторный приемник, чтобы заменить батарейку, и впервые увидела печатную плату. Вот и сейчас упорядоченное расположение домов и улиц на склоне предстало перед ней с той же неожиданной, поразительной ясностью, как и печатная плата. Хотя Эдипа разбиралась в радио еще меньше, чем в особенностях южной Калифорнии, и в том и в другом случае внешняя упорядоченность виделась ей как своего рода иероглифическая запись, несущая в себе некий тайный смысл. Казалось, не было пределов тому, что могла поведать Эдипе печатная плата (надо было лишь попытаться проникнуть в ее тайну); и в первые минуты ее пребывания в Сан-Нарцисо где-то за границами Эдипиного понимания замаячило новое открытие. В воздухе до самого горизонта висел смог, солнце ослепительно сияло над светло-коричневой местностью; остановив свой «шевроле» на вершине холма, Эдипа оказалась как бы в преддверии какого-то необычного религиозного откровения. Словно на какой-то другой частоте, из центра какого-то вихря, слишком медленного, чтобы ее нагретая кожа ощутила его центробежную прохладу, прозвучали слова. Что-то в этом роде, подумалось Эдипе, и должно было произойти. Она вспомнила о муже, о том, как Мачо хотел уверовать в свою работу. Ощущал ли он нечто подобное, глядя сквозь звуконепроницаемое стекло на своего коллегу в наушниках, который менял пластинку жестом, отточенным, как движения служителя культа, священнодействующего с елеем, кадилом или потиром, и в то же время оставался сосредоточенным на звучащем голосе, подголосках, музыке, ее послании и пребывал в ней, чувствуя ее, как все те фанаты, для которых она звучала? Понимал ли Мачо, заглядывая через стекло в Студию А, что даже если бы он услышал эту музыку, то все равно не смог бы проникнуть в смысл ее послания?
Что-то отвлекло Эдипу от этих мыслей, словно набежавшее на солнце облако или сгустившийся смог спугнули «религиозное откровение» (или что это было?); она завела двигатель и помчалась со скоростью 70 миль в час по поющему асфальту, выскочила на шоссе, которое, по ее мнению, вело в Лос-Анджелес, и поехала через застроенный район или, скорее, вдоль чахлой придорожной полосы отчуждения с бесчисленными автосалонами, нотариальными конторами, закусочными, киношками для автомобилистов, офисами и небольшими фабриками; номера домов перевалили за 70 000, а потом и за 80 000. Такие ей никогда раньше не встречались. В них было что-то противоестественное. Слева потянулось скопление розоватых приземистых строений за многомильной оградой с колючей проволокой и сторожевыми вышками, и вскоре промелькнул главный вход – ворота с двумя шестидесятифутовыми ракетами по бокам, на носовом обтекателе каждой из них красовалась надпись аккуратными буквами: «ЙОЙОДИН». Значительная часть жителей Сан-Нарцисо работала на этом предприятии – Галактронном отделении корпорации «Йойодин», одного из гигантов аэрокосмической промышленности. Пирс, как слышала Эдипа, владел большим пакетом акций этой корпорации и в свое время вел переговоры с окружным налоговым ведомством, с тем чтобы убедить руководство «Йойодина» первым делом разместить здесь один из своих филиалов. Таковы, объяснял он, обязанности отца-основателя.
Вскоре ограда с колючей проволокой сменилась уже знакомой чередой стандартных коричневатых строений из шлакоблоков, в которых размещались фирмы-дистрибьюторы офисного оборудования, изготовители уплотнителей, газобаллонные станции, фабрики по производству застежек-молний, склады и все такое прочее. По случаю воскресенья все они пребывали в немоте и параличе – все, за исключением отдельных контор по торговле недвижимостью и стоянок грузовиков. Эдипа решила остановиться в первом же мотеле, который ей попадется по пути, каким бы занюханным он ни оказался, поскольку в какой-то момент неподвижность в четырех стенах показалась ей более желанной, чем иллюзия свободы, вызванная скоростью, ветром в волосах и сменяющимся пейзажем. Да и сама дорога напоминала ей иглу шприца, воткнутую где-то там, за горизонтом, в вену автострады, в вену заядлого наркомана Лос-Анджелеса, чтобы даровать ему ощущение счастья, необычайной ясности, избавления от боли или того, что испытывает город вместо боли. Впрочем, даже если бы Эдипа была крошечным растворенным кристалликом героина, Лос-Анджелес по-прежнему продолжал бы ловить кайф, не замечая, есть она или нет.
Увидев мотель, она тем не менее какое-то мгновение колебалась. Перед мотелем на тридцатифутовой высоте красовалась реклама из крашеного листового железа в виде нимфы с белым цветком в руке; а чуть ниже, несмотря на яркое солнце, горела неоновая надпись: «Мотель "Эхо"». Нимфа была очень похожа на Эдипу, которую, однако, поразило не столько это сходство, сколько скрытая воздуходувная система, заставлявшая трепетать газовый хитон нимфы, периодически обнажая ее длинные розовые ноги и огромные груди с киноварными сосками. На ее накрашенных губах играла зазывная улыбка, не то чтобы совсем шлюховатая, но уж никак не улыбка влюбленной нимфы. Эдипа въехала на стоянку, вышла из машины и на секунду остановилась под палящим солнцем, вдыхая неподвижный воздух и наблюдая, как искусственный вихрь регулярно вздымает газовый хитон на пять футов вверх. Ей вспомнилась мелькнувшая у нее мысль о медленном вихре и словах, которые она не расслышала.
Номер оказался достаточно сносным, чтобы провести в нем предстоящие несколько дней. Дверь выходила в длинный двор с плавательным бассейном, в котором поблескивала на солнце зеркально-гладкая вода. В дальнем конце располагался фонтан с еще одной нимфой. Ни малейшего движения. Если кто и жил за другими дверями или наблюдал за ней в окна с затычками гудящих кондиционеров, Эдипа их не видела. Администратор, которого звали Майлз, – этакий недоучка лет шестнадцати, с прической под битлз, в мохеровом пиджаке без лацканов и манжет, – нес ее сумки, напевая, вероятно, ради собственного удовольствия, а может, и для нее тоже:
ПЕСНЯ МАЙЛЗА
«С таким толстяком не станцуешь фраг», —
Ты мне начинаешь твердить,
Когда хочешь меня оскорбить.
Но я все равно крутой,
И рот свой ты лучше закрой.
– Чудесно, – похвалила Эдипа. – Только почему вы поете с английским акцентом, хотя говорите без него?
– Это стиль нашей группы, – объяснил Майлз. – Она называется «Параноики». Нас еще почти никто не знает. Менеджер говорит, что нужно петь именно так. Мы пересмотрели кучу английских фильмов, чтобы усвоить акцент.
– Мой муж – диск-жокей, – сказала Эдипа, стараясь быть полезной, – правда, на небольшой тысячеваттной радиостанции, но если у вас есть кассета, я бы могла попросить его, чтобы он сделал вам раскрутку.
Майлз закрыл за собой дверь и прошел в комнату, глазки у него забегали.
– В обмен на что? – спросил он, приближаясь к Эдипе. – Сами знаете, такие дела даром не делаются. Думаю, вы хотите того же, что и я.
Эдипа схватила первое попавшее под руку оружие – им оказалась ушастая антенна, стоявшая на телевизоре в углу.
– Ага, – произнес Майлз, останавливаясь. – Вы тоже меня ненавидите. – И сверкнул глазами из-под челки.
– Ты и впрямь параноик, – сказала Эдипа.
– У меня гладкое юное тело, – заявил Майлз, – Я думал, старым теткам это нравится. – И ушел, предварительно выклянчив два четвертака за сумки.
Вечером к Эдипе явился Метцгер. Он был так хорош собой, что поначалу она подумала, будто Они – там, наверху, – ее разыгрывают, подослав актера. Он стоял на пороге – на фоне продолговатого бассейна, в котором бесшумно трепетала вода, мерцая в рассеянном свете предзакатного неба, – и говорил «миссис Маас», будто в чем-то ее упрекая. Огромные лучистые глаза с необычайно длинными ресницами озорно смотрели на нее; она заглянула ему за спину, словно ожидала увидеть там прожекторы, микрофоны, камеры, но там была лишь бутылка французского божоле, которую Метцгер, по его словам, в прошлом году провез контрабандой в Калифорнию, запудрив мозги таможенникам, – бесшабашный правовед-нарушитель.
– Что ж, – промурлыкал он, – прорыскав весь день по мотелям и наконец разыскав вас, я имею право войти, не так ли?
На этот вечер у Эдипы не было никаких особых планов, разве что посмотреть по телевизору очередную серию «Золотого дна».[30] Она переоделась в облегающие джинсы и черный свитер из грубой шерсти, а волосы распустила. И осознавала, что выглядит очень даже неплохо.
– Входите, – сказала она, – но у меня только один стакан.
– Я буду пить из горлышка, – галантно предложил Метцгер.
Он прошел в комнату и, не снимая пиджака, уселся на пол. Откупорив бутылку, налил Эдипе вина и начал разговор. Вскоре выяснилось, что Эдипа была недалека от истины, предположив, что Метцгер был актером. Лет двадцать назад, еще ребенком, он прославился, снимаясь в роли Малыша Игоря.
– Моя мать, – с горечью произнес он, – всерьез вознамерилась выбить из меня эту дурь, отделать меня как кусок говядины для отбивной. Порой я думаю, – добавил он, приглаживая волосы на затылке, – что она преуспела. И мне становится страшно. Вам, должно быть, известно, в кого может превратить сына такая матушка.
– Вы нисколько не похожи… – начала было Эдипа.
Метцгер сверкнул двумя рядами кривоватых крупных зубов.
– Внешность нынче не имеет значения, – сказал он. – Я даже не уверен, что у меня должна быть именно такая внешность. И это меня пугает.
– А как часто, – решилась спросить Эдипа, понимая, что это всего лишь слова, – с вами такое случалось, Малыш Игорь?
– Кстати, – заметил Метцгер, – Инверэрити лишь однажды упомянул ваше имя.
– Вы были друзьями?
– Нет. Я готовил его завещание. Не хотите узнать, что он сказал?
– Нет, – ответила Эдипа и включила телевизор. На экране появился ребенок неопределенного пола, его голые ножки были как-то неловко сжаты, длинные вьющиеся локоны мешались с шерстью сенбернара, который вдруг начал лизать розовое личико ребенка, отчего малыш трогательно наморщил нос и произнес: «Ну, Мюррей, перестань, я буду весь мокрый».
– Это я, это я! – вскричал Метцгер, глядя в экран. – Бог ты мой, вот он я.
– Который из них? – спросила Эдипа.
– Фильм назывался… – Метцгер щелкнул пальцами. – «Уволенный».
– О вас и вашей маме?
– О мальчике и его отце, которого с позором выперли из британской армии за трусость, но на самом деле он пострадал вместо друга, понимаете, и, чтобы вернуть себе доброе имя, отец вместе с сыном отправляется вслед за своим полком в Гелиболу,[31] где ему каким-то образом удается соорудить крошечную подлодку, и каждую неделю они проникают через Дарданеллы в Мраморное море и подбивают торпедами турецкие торговые суда – отец, сын и сенбернар. Пес смотрит в перископ и лает, когда заметит что-то подозрительное.
Эдипа налила себе вина.
– Вы все выдумываете.
– Слушайте, слушайте, в этом месте я буду петь. – И точно, малыш, пес и невесть откуда взявшийся веселый греческий рыбак с цитрой встали на рирпроекционном фоне псевдододеканесского морского пейзажа[32] на закате, и мальчик запел.
ПЕСНЯ МАЛЫША ИГОРЯ
Мы из всех закоулков бьем фрицев и турков —
Мой папа, мой песик и я.
Победим очень скоро, как три мушкетера,
Опасности вместе пройдя.
В перископ иль в бинокль виден Константинополь.
Поплыли смелее, друзья!
Подойдя к берегам, отомстят всем врагам —
Мой папа, мой песик и я.
Затем рыбак исполнил соло на своем инструменте, после чего юный Метцгер на экране снова запел высоким голоском, а взрослый, несмотря на протесты Эдипы, принялся ему подпевать.
Либо он все выдумал, вдруг подумала Эдипа, либо подкупил инженера местной телестудии, чтобы тот запустил этот фильм, но в любом случае все это часть заговора, хитроумного заговора с целью ее обольщения. Ну, Метцгер…
– Вы мне не подпевали, – заметил Метцгер.
– Я и не знала, что тоже должна петь, – улыбнулась Эдипа.
Фильм прервался громогласным вторжением рекламы Лагун Фангосо, нового района застройки, расположенного к западу от Сан-Нарцисо.
– Инверэрити вложил средства в этот проект, – сообщил Метцгер.
Проектом предусматривалось построить сеть каналов с частными причалами для катеров, соорудить плавучий зал собраний посреди искусственного озера, на дне которого планировалось разместить отреставрированные галеоны, привезенные с Багамских островов, обломки колонн и фризов Атлантиды, найденные у Канар, подлинные человеческие скелеты из Италии, гигантские раковины моллюсков из Индонезии – все на потеху любителям подводного плавания. На экране мелькнул план застройки, и у Эдипы невольно вырвался вздох. Метцгер оглянулся – на всякий случай: авось этот вздох предназначался ему. На самом деле ей просто вспомнился вид, открывшийся с холма. У нее вновь возникло ощущение причастности к тайне, обещания иерофании: печатная плата, плавные изгибы улиц, отдельный выход к воде, Книга Мертвых…[33]
Не успела она опомниться, как опять начался «Уволенный». Маленькая субмарина, названная «Джастин» в честь умершей матери, стояла у пирса, готовая к отплытию. Проводить ее собралась небольшая толпа: там был и старый рыбак с дочкой, длинноногой курчавой нимфеткой, которая в случае счастливого конца досталась бы Метцгеру; и медсестра из английской миссии с красивой фигурой, которая досталась бы отцу Метцгера; и даже овчарка, не сводившая глаз с сенбернара Мюррея.
– Ну да, – сказал Метцгер, – сейчас у нас начнутся неприятности в проливе. Там и так было гиблое место из-за кефезских минных полей,[34] а тут еще немцы соорудили гигантскую сеть, сплетенную из тросов толщиной в два с половиной дюйма.
Эдипа снова наполнила стакан. Они теперь лежали на полу, глядя на экран и слегка соприкасаясь бедрами. В телевизоре раздался ужасный взрыв.
– Мины! – крикнул Метцгер и, обхватив руками голову, откатился от Эдипы.
«Папа, – захныкал Метцгер в фильме, – мне страшно». В подводной лодке начался кавардак: сенбернар носился взад-вперед, брызгая слюной, которая смешивалась со струйками воды из давшей течь переборки, а отец пытался заткнуть дыру своей рубашкой. «У нас есть лишь одна возможность, – объявил отец, – спуститься к самому дну и попытаться пройти под сетью».
– Смешно, – сказал Метцгер. – Немцы устроили в сети ворота для прохода своих подлодок, чтобы атаковать британский флот. Все наши лодки класса Е пользовались этими воротами.
– Откуда вы знаете?
– Я там был.
– Но… – Эдипа не договорила, заметив, что у них неожиданно кончилось вино.
– Ага, – сказал Метцгер, доставая из внутреннего кармана бутылку текилы.
– Без лимонов? – по-киношному весело спросила Эдипа. – И без соли?
– Мы же не туристы. Разве Инверэрити предлагал вам лимоны, когда вы там были?
– Откуда вы знаете, что мы там были? – Она смотрела, как он наполняет ее стакан, и вместе с уровнем жидкости росла ее неприязнь к Метцгеру.
– В тот год он списал эти расходы как деловые издержки. Я занимался его налогами.
– Исключительно денежные отношения, – задумчиво произнесла Эдипа. – Вы и Перри Мэйсон – одного поля ягоды, вас интересуют только деньги, грязные адвокатишки.
– Но наша духовная красота проявляется на уровне извилин головного мозга, – разъяснил Метцгер. – Адвокат в зале суда, выступая перед присяжными, становится актером, верно? Рэймонд Бэрр – актер, играющий адвоката, который перед присяжными превращается в актера. Я же – бывший актер, ставший адвокатом. Недавно сняли пробную серию телефильма, в основу которого, в сущности, положена история моей жизни, и главную роль сыграл мой друг Мэнни Ди Прессо. Он, кстати, бывший адвокат, бросивший практику, чтобы стать актером. В фильме он играет меня, актера, ставшего адвокатом, который периодически превращается в актера. Копия фильма хранится в оборудованном кондиционером подвале одной из голливудских студий, и ничто не может повредить фильму, его можно показывать бесконечно.
– Вы попали в передрягу, – заметила Эдипа, глядя на экран, чувствуя тепло Метцгерова бедра через его брюки и свои джинсы.
– Турки на патрульных катерах с прожекторами и пулеметами, – сказал Метцгер, подливая ей текилы и наблюдая, как маленькая субмарина наполняется водой. – Хотите поспорить, что будет дальше?
– Конечно, нет, – ответила Эдипа. – Фильм – сплошная выдумка. – Метцгер в ответ лишь улыбнулся. – Один из бесконечных показов.
– Но вы же не знаете, чем все закончится, – сказал Метцгер. – Вы его не видели.
На сей раз рекламная пауза заполнилась оглушительной похвалой сигаретам «Биконсфилд», чье основное достоинство заключалось в фильтре из костного угля наивысшего качества.
– А кости чьи? – поинтересовалась Эдипа.
– Инверэрити был в курсе. Ему принадлежал пятьдесят один процент акций табачной фабрики.
– Расскажите.
– Как-нибудь в другой раз. У нас пока еще есть возможность заключить пари. Ну так как, спасутся они или нет?
Эдипа почувствовала, что опьянела. Ей вдруг пришло в голову, что отважная троица в конечном счете не выберется. Она понятия не имела, сколько еще будет идти фильм. Посмотрела на часы, но они остановились.
– Что за чушь, – сказала она, – конечно, они спасутся.
– Откуда вы знаете?
– Все такие фильмы обычно хорошо кончаются.
– Все?
– В основном.
– Вероятность счастливого конца становится меньше, – самодовольно констатировал он.
Эдипа глянула на него через стакан.
– Тогда мне нужна пара подсказок.
– С подсказками все сразу станет ясно.
– Ладно, – крикнула она, пожалуй, несколько нервно, – спорю на бутылку чего-нибудь – текилы, идет? – что вам не удалось спастись. – И почувствовала, что попалась на удочку.
– Что мне это не удалось… – Метцгер задумался. – Еще одна бутылка за вечер окончательно усыпит вас, – решительно произнес он. – Нет.
– На что тогда будем спорить? – Она уже поняла. Казалось, они минут пять не мигая смотрели друг другу в глаза. Эдипа краем уха слышала, как из телевизора один за другим изрыгаются рекламные ролики. Она вдруг ощутила жгучую досаду – возможно, из-за того, что хмель ударил в голову, или потому, что фильм никак не начинался.
– Хорошо, – наконец сдалась она, стараясь скрыть дрожь в голосе, – спорим. На что хотите. Что вам не удастся спастись. Что вы пойдете на дно Дарданелл на корм рыбам, ваш папа, ваш песик и вы.
– Заметано, – протянул Метцгер, беря ее за руку якобы для того, чтобы заключить пари, но вместо этого поцеловал ладонь, проведя шершавым кончиком языка по линиям ее судьбы – неизменным, чуть солоноватым опознавательным знакам личности. Неужели, подумалось Эдипе – как и в первый раз в постели с ныне покойным Пирсом, – все это происходит на самом деле? Но тут вновь начался фильм.
Отец укрылся в воронке на крутом скалистом берегу, месте высадки десанта АНЗАК,[35] по которому турки осатанело лупили шрапнелью. Ни Малыша Игоря, ни его пса нигде не было видно.
– Что за черт? – возмутилась Эдипа.
– О Боже, – воскликнул Метцгер, – на студии наверняка перепутали части фильма.
– Это до или после предыдущего эпизода? – спросила она, потянувшись за бутылкой текилы, и ее левая грудь очутилась в непосредственной близости к носу Метцгера. Прежде чем ответить, он комически скосил глаза.
– Это будет подсказка.
– Ну же. – Она слегка задела его нос чашечкой бюстгальтера и наполнила стакан. – Или спор отменяется.
– Нет, – отрезал Метцгер.
– По крайней мере скажите: это тот полк, где он служил?
– Валяйте, – сказал Метцгер, – задавайте вопросы. Но за каждый ответ вы будете снимать какой-нибудь предмет одежды. Устроим стриптиз имени Боттичелли.
Эдипе пришла в голову великолепная мысль.
– Хорошо, – сказала она, – но сперва я на секундочку загляну в ванную. Закройте глаза, отвернитесь и не подглядывайте.
На экране в потусторонней тишине угольщик «Река Клайд»[36] с двумя тысячами солдат на борту пристал к берегу неподалеку от Судд-эль-Бара.[37] «Прибыли, ребята», – шепотом произнес чей-то голос с нарочито британским акцентом. Внезапно берег закишел турецкими стрелками, и началась бойня.
– Я помню этот эпизод, – сообщил Метцгер, сидя с плотно закрытыми глазами спиной к телевизору. – На пятьдесят ярдов от берега море обагрилось кровью. Правда, в фильме этого не показывают.
Эдипа шмыгнула в ванную, где был встроенный шкаф, быстро разделась и принялась напяливать на себя все, что могла: шесть разноцветных трусиков, пояс, три пары нейлоновых чулок, три бюстгальтера, две пары эластичных брюк, четыре нижних юбки, черное вечернее платье, два летних платья, полдюжины расклешенных юбок, три свитера, две блузки, стеганый халат, нежно-голубой пеньюар и гавайский балахон муу-муу из орлонского акрила. Затем надела браслеты, брошки, серьги, кулон. Все это заняло, казалось, целую вечность, и, покончив с одеванием, Эдипа едва могла передвигаться. К тому же она совершила ошибку, глянув на себя в высокое зеркало, где отразился пляжный мячик с ножками, из-за чего расхохоталась так, что повалилась на пол, задев при этом стоявший на полочке баллончик с лаком для волос. Баллончик грохнулся об пол, что-то отлетело, из него вырвалась мощная струя распыленного лака, и баллон заметался по ванной, наполняя ее липучими ароматными клубами. Метцгер бросился на помощь Эдипе, которая, катаясь по полу, пыталась встать на ноги. «Пресвятые угодники», – пропищал он голоском Малыша Игоря. Баллон, угрожающе шипя, отскочил от унитаза и просвистел буквально в четверти дюйма от уха Метцгера. Метцгер прыгнул на пол и прикрыл собой Эдипу. Баллончик продолжал как очумелый носиться по ванной; из комнаты крещендо доносился грохот морских орудий, пулеметов, гаубиц и стрелкового оружия, крики и обрывки предсмертных молитв погибающих пехотинцев. Эдипа скользнула взглядом по прикрытым глазам Метцгера и уставилась в светильник под потолком, на фоне которого то и дело мелькал летающий баллончик, мощь которого казалась неистощимой. Она сжалась от страха, но ни капельки не протрезвела. Баллончик, казалось, знал, куда и зачем летел, как будто сложная траектория его метаний была заранее просчитана быстродействующей вычислительной машиной или самим Господом Богом; Эдипа, разумеется, не обладала такими способностями и лишь боялась, что этот летящий со скоростью ста миль в час снаряд в любой момент может попасть в нее или Метцгера. «Метцгер», – простонала она и впилась зубами в его обтянутое гладкой тканью предплечье. В воздухе стоял запах лака для волос. Баллончик ударил в зеркало и отскочил. Серебристое стекло на секунду застыло филигранным цветком и со звоном рухнуло в раковину, а баллончик понесся к душевой кабине, долбанул в панель из матового стекла и разнес ее вдребезги, затем срикошетил по трем кафельным стенам, взмыл к потолку, пролетел мимо светильника над двумя распростертыми телами – и все это в сопровождении жуткого шипения под невнятное громыхание, доносившееся от телевизора. Казалось, этому не будет конца, однако внезапно баллончик иссяк на лету и упал на пол примерно в футе от Эдипиного носа. Она с опаской покосилась на него.
– Ни фига себе, – заметил чей-то голос – Круто. Эдипа разжала зубы, выпустив руку Метцгера, оглянулась и увидела в дверном проеме Майлза, паренька с челкой и в мохеровом пиджаке, правда почему-то учетверенного. Похоже, это и были «Параноики» – группа, о которой он говорил. На взгляд Эдипы, они все были одинаковые, трое с гитарами, и у всех открыты рты. Она заметила и несколько девичьих мордашек, выглядывавших из-под мышек и коленок «Параноиков».
– Тут у них какая-то извращёнка, – сказала одна из девушек.
– Вы из Лондона? – поинтересовалась другая. – В Лондоне все так делают?
Лак для волос клубился, как туман, на полу сверкали осколки стекла.
– Господи помилуй, – подытожил парень с ключом от двери в руке, и Эдипа решила, что это и есть Майлз. Затем он принялся увлеченно рассказывать о том, как на прошлой неделе побывал на оргии серфингистов, для проведения которой потребовался пятигаллонный бочонок почечного сала, маленький автомобиль с откидным верхом и дрессированный тюлень.
– Мы явно проигрываем в сравнении, – сказала Эдипа, которой наконец удалось вернуться в нормальное положение. – Так что почему бы вам всем не выйти на улицу и не спеть. Без хорошей музыки такие дела идут туго. Спойте нам серенаду.
– Может, – робко предложил один из «Параноиков», – попозже вы присоединитесь к нам у бассейна?
– Если нам станет действительно жарко, ребятки, – весело подмигнула им Эдипа.
Детки гуськом вышли из номера, предварительно понатыкав удлинители во все имеющиеся розетки во второй комнате и вытянув провода в окно.
Метцгер помог Эдипе встать на ноги.
– Так как насчет стриптиза имени Боттичелли? – В другой комнате по телевизору вовсю шла реклама турецких бань «Сераль Хогана», расположенных в центре Сан-Нарцисо, если там вообще имелся центр. – Тоже собственность Инверэрити, – заметил Метцгер. – Вы не знали?
– Садист, – заорала Эдипа, – еще раз заикнетесь, и я вам этот ящик на голову надену.
– Вы совсем спятили, – улыбнулся он. Не совсем.
– А что здесь, черт побери, не его собственность? – спросила она.
Метцгер многозначительно посмотрел на нее.
– Вам лучше знать.
Если бы она и захотела, то все равно не смогла бы, так как снаружи мощно грянули гитарные аккорды и «Параноики» запели. Ударник рискованно взгромоздился на трамплин для прыжков в воду, остальных не было видно. Метцгер подошел сзади к Эдипе, намереваясь сжать ладонями ее груди, но не сразу обнаружил их под ворохом одежды. Они встали у окна, слушая пение «Параноиков».
СЕРЕНАДА
Я лежу на песке и смотрю на луну
Над одиноким морем.
Луна манит к себе одинокий прилив,
Утешая меня только светом своим.
Луна, неподвижная и безликая,
Тщетно пляж украшает
Жалким подобием дня,
Мешая серость теней с белизной луча.
Ты тоже лежишь сегодня одна,
Как и я,
В одинокой квартирке своей ты одна, и поэтому лучше
Сдержи одинокий свой крик.
Могу ли прийти я к тебе и луну загасить, вспять прилив повернуть?
Ночь стала еще темней, и я сбился с пути, и в душе моей мрак.
Нет, я останусь один,
Пока он не придет за мной,
Пока не захватит он небо, и песок, и луну, и пустынное море,
И пустынное море… и т. д. [Затухание звука]
– Что теперь? – Эдипа слегка вздрогнула.
– Первый вопрос, – напомнил Метцгер.
В телевизоре лаял сенбернар. Эдипа бросила взгляд на экран и увидела, как Малыш Игорь, одетый как нищий турецкий паренек, крадется со своей собакой по бутафорскому городу, который она приняла за Константинополь.
– Еще одна предыдущая часть? – с надеждой спросила она.
– Вопрос не принимается, – сказал Метцгер.
На пороге «Параноики» оставили бутылку «Джека Дэниелса», как некоторые оставляют молоко, дабы умилостивить лепреконов.
– Ого, – обрадовалась Эдипа. И налила себе выпить, – Малыш Игорь добрался до Константинополя на славной субмарине «Джастин»?
– Нет, – ответил Метцгер. Эдипа сняла серьгу.
– Он добрался туда на этой – как вы там ее назвали? – подводной лодке класса Е?
– Нет.
Эдипа сняла вторую серьгу.
– Он добрался туда по суше, возможно, через Малую Азию?
– Возможно, – сказал Метцгер.
Эдипа сняла еще одну серьгу.
– Третья серьга? – спросил Метцгер.
– Если я вам отвечу, вы что-нибудь снимете?
– Сниму, даже если не ответите, – загоготал Метцгер, сбрасывая пиджак.
Эдипа еще раз наполнила свой стакан, а Метцгер приложился к бутылке. Затем Эдипа минут пять не отрываясь смотрела фильм, забыв о том, что должна задавать вопросы. Метцгер с серьезным видом снял брюки. На экране отец, судя по всему, предстал перед военно-полевым судом.
– Ага, – обрадовалась она, – опять перестановка частей. Здесь его с позором увольняют со службы, ха-ха.
– Может, он просто вспоминает прошлое, – сказал Метцгер. – А может, его судили дважды.
Эдипа сняла браслет. И пошло-поехало: на экране сменялись эпизоды, Эдипа одну за другой снимала с себя надетые вещи, что, казалось, нисколько не приближало ее к наготе, и все это перемежалось выпивкой и сопровождалось непрерывным шивари,[38] доносившимся под аккомпанемент гитар со стороны бассейна. Периодически фильм прерывался рекламой, и тогда Метцгер изрекал: «Собственность Инверэрити» или «Контрольный пакет акций», а потом просто стал молча кивать и улыбаться. При этом Эдипа бросала на него злобные взгляды, все больше проникаясь мыслью – несмотря на боль, начинавшую пульсировать в висках, – что из всех возможных способов стать любовниками они избрали тот, который позволяет максимально замедлить ход времени. В голове у нее все туманилось и мутилось. В какой-то момент она зашла в ванную, попыталась взглянуть на себя в зеркало и не обнаружила своего отражения. На мгновение ее охватил безмерный ужас. Но она быстро вспомнила, что зеркало разбилось, рухнув в раковину. «Раз в семь лет бывает большое невезенье, – громко сказала она. – Мне вот-вот будет тридцать пять». Закрыв за собой дверь, она воспользовалась случаем и почти машинально напялила на себя еще пару юбок, пояс и две пары длинных носков. Ей вдруг пришло в голову, что с восходом солнца (если оно вообще взойдет), Метцгер испарится. Она толком не знала, хочется ли ей, чтобы он исчез. Вернувшись в комнату, она обнаружила, что Метцгер, на котором были только боксерские трусы, спит, лежа на полу, с восставшим членом под трусами и головой под диваном. Эдипа также заметила его довольно толстое брюшко, прежде скрытое костюмом. На экране новозеландцы и турки кололи друг друга штыками. Эдипа вскрикнула и бросилась к Метцгеру, повалилась на него и принялась целовать, пытаясь разбудить. Он открыл лучистые глаза, пронзил ее взглядом, и она словно почувствовала укол где-то между грудями. Она опустилась на пол рядом с ним, вздохнув с огромным облегчением, и вся ее ригидность испарилась, словно волшебная жидкость. Эдипа вдруг так ослабела, что ничем не могла помочь Метцгеру, которому пришлось самому раздевать ее; минут двадцать он крутил и поворачивал ее туда-сюда, будто был неким увеличенным, коротко остриженным, широкоскулым подобием девочки, играющей с куклой Барби. В процессе раздевания Эдипа пару раз засыпала. Проснувшись в очередной раз, она обнаружила, что Метцгер уже приступил к половому акту; она легко присоединилась к сексуальному крещендо – словно в монтажном переходе к сцене, снятой движущейся камерой. Снаружи возобновилась гитарная фуга; Эдипа попыталась сосчитать количество доносящихся электронных голосов: получалось не меньше пяти, хотя она точно помнила, что только трое «Параноиков» были с гитарами; должно быть, к ним присоединились другие.
Так оно и было. Эдипа и Метцгер кончили одновременно, и в момент оргазма во всем номере внезапно отключилось электричество: погас свет, телевизор заглох, экран потух и почернел. Странное было ощущение. По-видимому, «Параноики» перестарались, и в номере вышибло пробки. Когда вскоре зажегся свет, Эдипа и Метцгер все еще лежали обнявшись посреди разбросанной по всей комнате одежды, вдыхая запах пролитого бурбона, а на экране телевизора вновь возникли Малыш Игорь, его отец и собака – на сей раз в полутемной рубке «Джастин», где неумолимо поднимался уровень воды. Первым утонул пес, выпустив облако пузырей. Затем камера крупным планом показала плачущего Малыша Игоря, его руку на пульте управления. Тут где-то в цепи произошло короткое замыкание, и электрический разряд поразил малыша, который успел лишь судорожно дернуться и испустить пронзительный вопль. В силу известного голливудского пренебрежения правдоподобием отец был избавлен от убиения электрическим током, дабы произнести прощальную речь, попросить прощения у Малыша Игоря и сенбернара за то, что вовлек их в эту гибельную авантюру, и выразить сожаление по поводу того, что им не суждено встретиться на небесах: «Последний раз ты видел своего папочку, малыш. Тебе предстоит отправиться в рай, а мне суждено гореть в аду». В финале крупным планом возникло его искаженное страданием лицо на фоне оглушительного рева хлеставшей в пробоину воды, который затем сменился странной киномузыкой 30-х годов с ведущей партией саксофона, и на экране появилась надпись: «Конец».
Эдипа вскочила на ноги, отбежала к противоположной стене и, повернувшись, злорадно посмотрела на Метцгера.
– Они погибли! – выкрикнула она. – Так-то, паршивец, я выиграла.
– Ты выиграла меня, – улыбнулся Метцгер.
– Так что тебе про меня сказал Инверэрити? – спустя какое-то время спросила она.
– Что с тобой будет не просто. Эдипа заплакала.
– Иди ко мне, – позвал Метцгер. – Ну, иди же.
Выдержав паузу, она сказала:
– Иду. – И вернулась к нему.
И вскоре события стали развиваться весьма любопытно. Если за открытием системы Тристеро (или просто Тристеро, как она ее обозначила в качестве кодового наименования) скрывалось то, что должно было положить конец ее заточению в магической башне, тогда, рассуждая логически, началом этого процесса должна была стать измена мужу с Метцгером. Логически. Возможно, это Эдипу больше всего и тревожило: все увязывалось логически. И чувствовалось (она уловила это с первой минуты пребывания в Сан-Нарцисо), что ее всюду ждут новые откровения.
Больше всего открытий обещала оставшаяся от Пирса коллекция марок, которая нередко заменяла Пирсу саму Эдипу, – тысячи маленьких разноцветных окон, уводящих в глубины пространства и времени: саванны, кишащие антилопами и газелями, галеоны, плывущие на запад и уходящие в никуда, портреты Гитлера, закаты, кедры Ливана, никогда не существовавшие лица-аллегории – Пирс мог рассматривать их часами, напрочь забыв об Эдипе. А Эдипу марки нисколько не увлекли. Мысль о том, что теперь все это придется разобрать и оценить, вызывала головную боль. Не могли они ничего рассказать, у нее даже и подозрения такого не возникло. И потом, если нет соответствующего настроя или обостренного чутья, вызванного каким-нибудь специфическим соблазном и закрепленного затем всякими случайностями, то что вообще могут рассказать безмолвные марки, напоминавшие лишь о прошлом соперничестве, обманутые, как и она, смертью и готовые разойтись по разным лотам, начав путь к новым владельцам, несть им числа?
Впрочем, чутье у Эдипы обострялось все больше – обнаружилось это, то ли когда пришло письмо от Мачо, то ли когда они с Метцгером забрели в странный бар под названием «Предел всему». Эдипа не могла вспомнить, что было вначале. В самом письме ничего особенного не было, оно пришло в ответ на одну из более или менее бессвязных писулек, которые она добросовестно посылала ему два раза в неделю, но об оказии с Метцгером умалчивала, поскольку чуяла, что Мачо и так узнает. И отправится на танцевальный вечер, устроенный его радиостанцией в спортивном зале, и там на одной из гигантских замочных скважин, начерченных на блестящем полу баскетбольной площадки, высмотрит смазливую девчонку, неуклюже размахивающую руками в попытке сохранить равновесие на каблуках, которые делают ее на дюйм выше любого парня, и будет пялиться на какую-нибудь Шэрон, Линду или Мишель, семнадцатилетнюю спелую ягодку, чьи бархатные глазки в конце концов неизбежно встретят взгляд Мачо, и далее все будет развиваться банальнее некуда, поскольку обнаружится, что мысль об уголовно наказуемом изнасиловании никак не желает покинуть закоулки законопослушного разума. Такое уже случалось, и схема была известна, хотя Эдипа была весьма щепетильна и упомянула об этом, по сути, только раз – остальные три пропали в темном предрассветном небе, – спросив, боится ли Мачо статьи уголовного кодекса. «Конечно», – только и ответил Мачо после короткой паузы, но в его тоне она услышала нечто среднее между раздражением и агонией. Ей было интересно, не отражается ли эта боязнь на его выступлениях. Будучи когда-то семнадцатилетней и готовой посмеяться практически над чем угодно, она затем оказалась побежденной, скажем так, нежностью, которой не позволила себя обуять, дабы не засосало безвозвратно. От дальнейших расспросов она воздержалась. Это был удобный предлог, как и прочие объяснения их неспособности найти общий язык.
Видимо, интуитивно почувствовав, что внутри конверта ничего нового не обнаружится, Эдипа обратила более пристальное внимание на его внешний вид. Поначалу не заметила. Обычный конверт, почтовый штемпель, обычная почтовая марка, слева объявление почтового ведомства: «Обо всех непристойных посланиях сообщайте вашему путчмейстеру». Прочитав это, она принялась лениво просматривать письмо Мачо, отыскивая в нем непристойные слова.
– Метцгер, – вдруг дошло до нее. – Кто такой путчмейстер?
– Парень при кухне, – авторитетно ответил Метцгер из ванной. – Ведает всем горячим и тяжелым: жестяными чайниками, канонерками, голландскими печами…
Эдипа швырнула в него лифчиком.
– Мне предлагают, – сказала она, – сообщать обо всех непристойных посланиях своему путчмейстеру.
– А, ну это они опечатались, – догадался Метцгер. – Бывает. Отвлеклись и нажали не ту клавишу, понимаешь?
Наверное, это было в тот же вечер, когда они заглянули в «Предел всему» – бар на дороге в Лос-Анджелес, неподалеку от завода «Йойодина». Дело в том, что в мотеле «Эхо» культурно уединиться вечерком зачастую просто не представлялось возможным – то ли из-за тишины у бассейна и прозрачности окон, которые на него выходили, то ли из-за обилия юных соглядатаев-вуайеров, вооруженных такими же ключами, как у Майлза, позволявшими им беспрепятственно подглядывать за любым экзотическим сексуальным действом. Дошло до того, что у Эдипы и Метцгера выработалась привычка затаскивать матрац в стенной шкаф, откуда Метцгер сначала вынимал верхний ящик и ставил у двери, затем вынимал нижний и водружал сверху, а в освободившееся пространство просовывал ноги – только так он мог вытянуться в шкафу во весь рост, но к этому моменту, как правило, утрачивал интерес к главному делу.
«Предел всему» оказался заполнен йойодиновскими рабочими из электромонтажного цеха. Зеленая неоновая вывеска весьма остроумно изображала экран осциллографа, на котором беспрерывно плясали фигуры Лесажа.[39] Вероятно, в тот день была получка, поскольку в баре все были уже пьяны. Провожаемые недобрыми взглядами, Эдипа и Метцгер нашли столик в углу. Материализовался морщинистый бармен в защитных очках, и Метцгер заказал бурбон. Эдипа, оглядывая бар, нервничала все больше. Что-то было не так в этой пьяной толпе: все были в очках, и все молча глазели на нее. За исключением двух-трех человек у двери; у тех проходил матч по сморканию – состязались, кто дальше стрельнет соплей через комнату.
Из некоего подобия музыкального автомата в дальнем углу комнаты вырвался хор визгов и гиканий. Все разговоры смолкли. На цыпочках вернулся бармен, неся выпивку.
– Что случилось? – прошептала Эдипа.
– Это Штокхаузен,[40] – объяснил ей унылый седобородый хиппи. – Ранние пташки все больше хавают «Радио Кёльна». Позже оттопыримся по-настоящему. Мы единственный бар в округе, который жестко проводит политику электронной музыки, сечете? Приходите в субботу, в полночь начнется Синусоидальный сейшн, все вживую, народ на джем съезжается со всего штата – из Сан-Хосе, Санта-Барбары, Сан-Диего…
– Вживую? – удивился Метцгер. – Электронная музыка – вживую?
– Они пишут ее прямо здесь, старик, живьем. У нас целый чулан аудиоусилителей, дальнобойных колонок, контактных микрофонов – все есть, старик. Так что если у тебя нет своей бумкалки, но ты рубишь в этих вещах и хочешь лабать с прочими чуваками – там есть все, что нужно.
– Спасибо, не надо, – сказал Метцгер с победительной ухмылкой Малыша Игоря.
Хрупкий юноша в прорезиненном костюме скользнул на соседнее место, представился Майком Фаллопяном и принялся агитировать за какое-то Общество Жирного Питера.
– Ты служишь компании этих ультраправых параноиков? – спросил дипломатичный Метцгер.
Фаллопян моргнул.
– Они обвиняют нас в том, что мы параноики.
– Они? – спросил Метцгер, моргая в ответ.
– Нас? – не поняла Эдипа.
Общество было названо в честь офицера, командующего «Рассерженным» – военным кораблем конфедератов; в начале 1863 года Жирный Питер вышел в море, лелея дерзкий план обогнуть мыс Горн и, высадив десант, штурмом взять Сан-Франциско с целью открыть второй фронт в войне за независимость Юга. Штормы и цинга повредили и обескуражили все суда эскадры, кроме маленького и задорного «Рассерженного», который объявился у берегов Калифорнии примерно год спустя. Однако коммодор Жирный Питер не знал, что русский царь Николай II отправил Дальневосточный флот – четыре корвета и два клипера под командованием контр-адмирала Попова – в залив Сан-Франциско, рассчитывая (помимо прочего) помешать Британии и Франции выступить на стороне конфедератов. Худшего времени для штурма Сан-Франциско Жирный Питер выбрать не мог. Той зимой ходили слухи, что конфедератские крейсеры «Алабама» и «Самтер»[41] действительно готовятся атаковать город, и русский адмирал под свою ответственность привел Тихоокеанскую эскадру в полную боевую готовность на случай, если таковая попытка будет предпринята. Но крейсеры, похоже, предпочитали лишь крейсировать. Попов тем не менее периодически выходил на разведку. До сих пор неясно, что же произошло 9 марта 1864 года, в день, ставший священным для всех членов Общества Жирного Питера. Попов выслал то ли корвет «Богатырь», то ли клипер «Гайдамак» посмотреть, что там видно на море. То ли возле города, известного нынче как Кармел-у-моря, то ли на берегу, где сейчас Пизмо-Бич,[42] ближе к вечеру, а может, в сумерки, корабли заметили друг друга. Возможно, один из них выстрелил, в этом случае другой ответил; оба промахнулись, поскольку ни на том ни на другом впоследствии не обнаружилось ни царапины. Наступила ночь. Утром русский корабль исчез. Точнее, исчезновение было взаимным. Если верить выдержкам из вахтенного журнала «Богатыря» или «Гайдамака», отправленным в апреле генерал-адъютанту в Петербург и затерявшимся ныне где-то в Красном архиве, то в ту ночь пропал как раз «Рассерженный».
– Это нас не колышет, – пожал плечами Фаллопян. – Мы не пытаемся извлечь из этого Евангелие. Хотя мы могли бы получить основательную поддержку в Библейском поясе,[43] где могли бы добиться большего успеха. В старой доброй Конфедерации. Ведь это было самое первое военное противостояние России и Америки. Удар, ответ, оба снаряда пролетают мимо, а Тихий океан тихо катит свои волны. Но круги от двух всплесков расходились все шире – и сегодня волна захлестывает нас. Жирный Питер – вот кто был нашей первой настоящей потерей. А не тот фанатик, которого наши друзья из самого левого крыла Общества Джона Берна[44] выбрали в мученики.
– Значит, коммодор погиб? – спросила Эдипа. Много хуже, по мнению Фаллопяна. После этой конфронтации, ужаснувшись возможности военного союза между аболиционистской Россией (в 1861 году Николай отменил крепостное право) и Северо-Американскими Штатами, которые лизали задницы аболиционистам, удерживая в то же время своих индустриальных рабочих в цепях рабства финансового, Жирный Питер неделями сидел в своей каюте и размышлял.
– Это выглядит так, – запротестовал Метцгер, – будто он был против индустриального капитализма. А это сразу и напрочь выводит его из рядов антикоммунистов, верно?
– Вы рассуждаете как берчианец, – сказал Фаллопян. – Хорошие дяди и плохие дяди. Истинная правда вам недоступна. Конечно, он был против индустриального капитализма. Как и мы. А капитализм неизбежно ведет к марксизму, правильно? В основе кошмар тот же, разные только ипостаси.
– Индустриализация всего, – рискнул предположить Метцгер.
– Вот именно, – кивнул Фаллопян.
– Что случилось с Жирным Питером? – настаивала Эдипа.
– В конце концов он вышел в отставку. Вопреки своему воспитанию и кодексу чести. Линкольн и царь принудили его. Вот что я имел в виду, говоря о потерях. И он, и большая часть команды осели вблизи Лос-Анджелеса; практически весь остаток жизни он провел в попытках нажить состояние.
– Как грустно, – сказала Эдипа. – И чем занимался?
– Спекулировал недвижимостью в Калифорнии, – ответил Фаллопян.
Эдипа поперхнулась выпивкой, брызнула сверкающими бисерными капельками на добрых десять футов и зашлась хохотом.
– Ха, – сказал Фаллопян. – В том году была такая засуха, что участки в деловых кварталах Лос-Анджелеса можно было купить по шестьдесят три цента за штуку.
У двери раздался мощный рев, и к возникшему на пороге пухлому юноше с почтовой сумкой через плечо хлынула масса тел. «Почта», – ревела толпа. Это было прямо как в армии. Пухлый паренек со смущенным видом вскарабкался на стойку бара и, выкрикивая имена, принялся бросать в толпу почтовые конверты. Фаллопян извинился и присоединился к остальным.
Метцгер выудил очки и, прищурившись, рассмотрел парня на стойке.
– У него значок «Йойодина», – сообщил он. – Что ты на это скажешь?
– Какая-нибудь корпоративная почта, – предположила Эдипа.
– В такое время?
– Наверное, вечерняя смена. – Но Метцгер лишь нахмурился. Эдипа пожала плечами. – Я скоро, – сказала она и направилась в туалет.
На стене уборной среди губнопомадной похабщины она заметила карандашное послание, написанное аккуратным чертежным шрифтом:
Интересуют утонченные забавы? Ты, муженек, девочки. Чем больше, тем веселее. Спроси Кирби; связь только через ПОТЕРИ, отделение 7391, Л. А.[45]
ПОТЕРИ? Эдипа заинтересовалась. Под надписью был едва заметно начертан символ, какого она прежде никогда не видела, – крут, треугольник и трапеция, вот такой:

Скорее всего, что-то сексуальное, но уверенности у Эдипы не было. Она достала из сумочки ручку, переписала адрес в записную книжку и срисовала символ, подумав при этом: мать честная, иероглифы. Когда она вышла, Фаллопян уже вернулся и сидел со странным выражением лица.
– Вообще-то вы не должны были это увидеть, – сказал он. В руках у него был конверт. На месте для почтовой марки Эдипа увидела напечатанные на машинке литеры ЧПС.[46]
– Понятно, – сказал Метцгер. – Доставка почты – монополия государства. А вы против этого.
Фаллопян криво ухмыльнулся.
– Не такой уж это большой мятеж, как кажется. Мы используем внутриведомственную почту «Йойодина». Тишком. Но почтальонов найти трудно, а объемы у нас солидные. У ребят плотное расписание, и они нервничают. Служба безопасности фабрики чует, что крутятся какие-то дела. Секут во все глаза. Де Витт, – он указал на пухлого паренька, которого теребили, стаскивали с прилавка и предлагали выпивку, не слушая отказов, – самый нервный из всех в этом году.
– И большой у вас радиус действия? – поинтересовался Метцгер.
– Только в пределах нашего отделения в Сан-Нарцисо. Вообще-то уже создано несколько отделений по примеру тех, что действуют в Вашингтоне и, кажется, в Далласе. Но в Калифорнии мы пока одни на весь штат. Некоторые из наших многословных корреспондентов оборачивают своими письмами кирпичи, пакуют все это в оберточную бумагу и посылают экспрессом по железной дороге, но я думаю…
– Что они вроде как отмазываются, – посочувствовал Метцгер.
– Это дело принципа, – сказал Фаллопян, словно оправдываясь, – Чтобы обеспечить приемлемый объем почтовых отправлений, каждый должен посылать по крайней мере одно письмо в неделю через ведомство «Йойодин», иначе взимается штраф, – Он развернул письмо и показал Эдипе с Метцгером.
«Дорогой Майк, – гласило послание, – как ты? Подумать только, я отправляю тебе письмо. Как продвигается книга? Пожалуй, на сегодня все. Увидимся в "Пределе"».
– По большей части, – горько признался Фаллопян, – вот так все и обстоит.
– А что там насчет книги? – спросила Эдипа.
Выяснилось, что Фаллопян пишет историю частных почтовых компаний Соединенных Штатов, пытаясь увязать Гражданскую войну с реформой почты, которая началась где-то в 1845 году. Он считал, что федеральное правительство вплоть до 1861 года отнюдь не случайно ставило серьезные препоны на пути независимых почтовых компаний, уцелевших после всех постановлений 45-го, 47-го, 51-го и 55-го годов, которые принимались с целью привести любых конкурентов в этой области к финансовому краху. Фаллопян видел в этом путь всякой власти: становление, развитие и систематическое злоупотребление, – но в тот вечер не стал углубляться в детали. Собственно, в первую встречу Эдипе запомнились только его хрупкое сложение, аккуратный армянский нос и некоторое сходство его зеленых глаз с неоновой рекламой.
Вот так впервые проявила себя перед Эдипой темная, расплывчатая и зловещая система Тристеро. Точнее, так Эдипа попала на уникальный спектакль, где разыгрывался дополнительный акт для тех, кто решил остаться, если пьеса затянется до утра. Словно обнажались формы истории, скрытые выходными платьями, набедренными повязками, сетчатыми бюстгальтерами и украшенными драгоценными камнями подвязками, облегавшими ее фигуру так же плотно, как ворох одежды облегал Эдипу во время сближения с Метцгером, когда они смотрели фильм про Малыша Игоря; словно и впрямь требовалось погружение в долгие мутные, непроглядные предрассветные часы, чтобы система Тристеро смогла предстать во всей своей ужасающей наготе. Может, она улыбнется, потом застесняется, перейдет к безобидному закулисному флирту, затем пожелает спокойной ночи, галантно поклонится и оставит Эдипу в покое? Или, напротив, после окончания танца вернется на старт, горящий взгляд остановится на Эдипе, улыбка, ставшая злобной и безжалостной, пригвоздит ее к месту в зале, одну среди рядов пустых кресел, – и польются слова, которых Эдипа никогда не желала слышать.
Начало представления Эдипа помнила вполне отчетливо. Это было, когда они с Метцгером дожидались оформления документов на официальное представительство в Аризоне, Техасе, Нью-Йорке и Флориде, где Инверэрити торговал недвижимостью, а также в Делавэре, где он ею владел. Эдипа и Метцгер решили провести выходной в Лагунах Фангосо, на одном из последних крупных строительных проектов Инверэрити; за ними увязались «Параноики» Майлз, Дин, Серж и Леонард с подружками, которые набились кучей в машину с открытым верхом. Поездка прошла без приключений, если не считать двух или трех эксцессов, связанных с Сержем, который вел машину, занавесив себе обзор собственными волосами. Его долго уговаривали передать руль одной из девушек. Где-то за сплошной чередой деревянных чистеньких трехспаленных домиков, тысячами проплывавших мимо, пока они неслись через темно-бежевые холмы, скрытое едким смогом, отсутствовавшим в дремотном и удаленном от побережья Сан-Нарцисо, пряталось море; тот самый невообразимый Тихий океан, где не было места всяким серфингистам, пляжным постройкам, канализационным системам, нашествиям туристов, загорающим гомосексуалистам и чартерной рыбной ловле, – огромная яма и памятник уходу оторвавшейся Луны; не слышалось шума, не чуялось запаха, но океан был там; отдельные участки мозга, минуя глаза и барабанные перепонки, вдруг начинали регистрировать какой-то приливно-отливный процесс, который не мог уловить даже самый тонкий микроэлектрод. Еще задолго до выезда из Киннерета Эдипа уверовала в некий принцип, согласно которому океан нес искупление грехов южной Калифорнии (разумеется, не той части, где жила она сама, поскольку там, похоже, все было в порядке); в ней билась подспудная мысль о том, что, как бы мы ни резвились у его берегов, истинный океан остался неоскверненным, целостным и способным даже у берега обратить любое безобразие в более общую истину. Но возможно, это было лишь впечатление, бесплодная надежда, возникшая в тот день, когда они предприняли свой стремительный бросок, который любое море могло бы резко прервать.
Миновав землеройные машины, они въехали в абсолютно безлесную местность – обычный священный рельеф – и постепенно, виляя по песчаной дороге, спустились по спирали к скульптурным очертаниям водного пространства, именуемого озером Инверэрити. Посреди него, на круглом острове, омываемом легкими голубыми волнами, чужеродно торчало здание зала собраний – коренастая сводчатая и бледно-зеленая реконструкция европейского казино в стиле «ар нуво».[47] Эдипа тут же в нее влюбилась. «Параноики» выгрузились из машины, волоча за собой музыкальные инструменты и дико озираясь, словно надеясь найти в белой песчаной колее розетки, куда их включить. Эдипа вынула из багажника «импалы» корзинку холодных сэндвичей с баклажанами и пармезанским сыром из итальянской забегаловки, а Метцгер выволок чудовищных размеров термос с текилой. Беспорядочной толпой двинулись они по берегу к маленькой бухточке, где стояли суденышки тех владельцев, которым не досталось места у причала.
– Чуваки, – завопил Дин, а может, Серж, – давайте сопрем катер.
– Верно, верно, – завизжали девчонки. Метцгер закрыл глаза и упал, споткнувшись о старый якорь.
– Зачем бродить с закрытыми глазами, Метцгер? – спросила Эдипа.
– Воровство, – ответил Метцгер. – Возможно, им понадобится адвокат.
Среди прогулочных катеров, привязанных вдоль пирса, как выводок поросят, раздалось хрюканье мотора и появился дымок, указывающий, что «Параноики» действительно завели чью-то лодку.
– Валите сюда, – звали они.
Внезапно – дюжиной катеров дальше – поднялось нечто, закутанное в голубую полиэтиленовую штормовку.
– Малыш Игорь, – произнесло оно, – помоги мне.
– Знакомый голос, – сказал Метцгер.
– Скорей, – поторопила штормовка, – пусти меня прокатиться с твоими парнями.
– Быстро, быстро, – кричали «Параноики».
– Мэнни Ди Прессо, – кисло представил фигуру Метцгер.
– Твой приятель, актер-юрист, – вспомнила Эдипа.
– Не так громко, – попросил Ди Прессо, тут же прикидываясь полиэтиленовым конусом и крадучись пробираясь к ним. – Они следят. С биноклями.
Метцгер помог Эдипе взойти на борт готового к угону катера – 17-футового алюминиевого тримарана, носившего имя «Годзилла-II», – и протянул руку, намереваясь втащить в лодку и Ди Прессо, но ухватил лишь пустой пластик, который от рывка слетел, и под ним оказался сам Ди Прессо в водолазном костюме и в защитных очках.
– Я все объясню, – сказал он.
– Эй, – слабо донеслись с берега два крика, прозвучавшие почти в унисон. На открытое место выбежал стриженный ежиком приземистый и сильно загоревший человек, державший руку за пазухой, словно сложенное крыло.
– Это съемка? – сухо осведомился Метцгер.
– Все в натуре, – стуча зубами, ответил Ди Прессо. – Поехали.
«Параноики» отдали швартовы, оттолкнули «Годзиллу-II» от пирса, развернулись и отчалили с мощным концертным гиком, едва не опрокинувшим Ди Прессо за борт. Эдипа, оглянувшись, увидела, что к их преследователю присоединился второй человек, примерно такого же сложения. Оба были в серых костюмах. Есть ли у них оружие, Эдипе рассмотреть не удалось.
– На том берегу озера у меня машина, – сказал Ди Прессо, – но я уверен, что он оставил возле нее засаду.
– Кто «он»? – спросил Метцгер.
– Энтони Гингеррас, – ответил Ди Прессо зловещим шепотом. – Он же Тони Ягуар.
– Кто?
– Эх, sfacim,[48] – поежился Ди Прессо и сплюнул в кильватер.
«Параноики» затянули песню на мотив «Adeste Fideles»:[49]
Эй, примерный гражданин, мы твой катер сперли,
Эй, примерный гражданин, мы твой катер сперли…
При этом они скакали и пытались спихнуть друг друга за борт. Эдипа испуганно отодвинулась и посмотрела на Ди Прессо. Если он действительно заменил Метцгера в телесериале, как тот утверждал, то подбор актеров был типично голливудский: между ними не было ни малейшего сходства.
– Итак, – сказал Ди Прессо, – кто такой Тони Ягуар? Большая шишка в «Коза Ностра», вот кто.
– Ты же актер, – удивился Метцгер. – Как ты в это вляпался?
– Я теперь снова адвокат, – сказал Ди Прессо – Тот пилот никогда не купят, Метц; разве что ты вернешься и выдашь что-нибудь сногсшибательное, в духе Дарроу.[50] Привлечешь внимание публики сенсационной защитой.
– Какой, например?
– Например, выиграешь процесс, который я затеял по поводу долгов Пирса Инверэрити. – Метцгер, при всей его невозмутимости, удивился до крайности и выпучил глаза. Ди Прессо захохотал и хлопнул его по плечу. – Нормально, старик.
– Кому это нужно? Впрочем, тебе лучше поговорить и с другим распорядителем. – Он представил Эдипу; Ди Прессо вежливо приподнял очки.
Внезапно налетел холодный ветер, солнце скрылось. Все трое тревожно подняли головы, высматривая угрозу, и уперлись взглядом в поджидавшее их бледно-зеленое здание, в его высокие башенные окна, металлический декоративно-цветочный орнамент и суровое молчание. Дин – «параноик» за штурвалом – аккуратно подвел катер к небольшому деревянному причалу, и все сошли на берег; Ди Прессо нервно направился к пожарной лестнице.
– Хочу проверить, как там машина, – объяснил он.
Эдипа и Метцгер, взяв все для пикника, поднялись по ступенькам, через балкон вышли на светлую сторону здания и по металлической лестнице взобрались на крышу. Они словно бродили по большому барабану; внизу вибрировала пустота и слышались радостные вопли «Параноиков». Ди Прессо, блестя водолазным костюмом, вскарабкался на купол. Эдипа расстелила одеяло и налила текилу в белые пластмассовые чашки.
– Пока там, – сказал Ди Прессо, спускаясь. – Надо будет потом сбегать.
– Кто твой клиент? – спросил Метцгер, протягивая ему текилу.
– Парень, который за мной гонится, – ответил Ди Прессо, зажал чашку в зубах, так что она закрыла ему нос, и игриво покосился на них.
– Ты бегаешь от клиентов? – спросила Эдипа. – От собственной скорой помощи?
– Он хочет призанять деньжат, – объяснил Ди Прессо, – но я сказал, что в любом случае за этот процесс аванса не получу.
– Значит, ты не рассчитываешь на победу, – поняла Эдипа.
– Не лежит у меня к этому душа, – признался Ди Прессе – И потом, как я могу одалживать деньги, если не способен даже вовремя платить взносы за тачку, которую купил, будучи во временном умопомрачении?
– Ничего себе временное, – фыркнул Метцгер. – Длится больше тридцати лет.
– Я не настолько безумен, – сказал Ди Прессо, – чтобы лишний раз нарываться на неприятности. В этом замешан Тони Ягуар, друзья. Ходят слухи, что он здорово приструнил местных законников и теперь вполне может начать наводить свои порядки здесь. А мне такого горя не надо.
Эдипа свирепо уставилась на него.
– Ты вонючий эгоист.
– За всем постоянно присматривает «Коза Ностра», – успокоил ее Метцгер. – Следит. И если организация не хочет, чтобы помогали тем или иным людям, значит, помощи они не получат, – и в помине такого не было.
– У меня есть родственники на Сицилии, – сказал Метцгер на ломаном английском.
«Параноики» и их подружки, вышедшие из-за башенок, фронтонов и вентиляционных труб, возникли на фоне светлого неба и потянулись к корзине с баклажанными сэндвичами. Метцгер сел на термос с текилой, так что выпивки им не досталось. Ветер крепчал.
– Расскажи о процессе, – попросил Метцгер, обеими руками стараясь удержать прическу.
– Ты смотрел бухгалтерию Инверэрити, – сказал Ди Прессе – И знаешь о фильтре для «Биконсфилд». – Метцгер брезгливо поморщился.
– Уголь из костей, – вспомнила Эдипа.
– Ну так вот, мой клиент Тони Ягуар, по его словам, доставил партию костей. Инверэрити ему так и не заплатил. Из-за этого весь сыр-бор.
– Чепуха, – сказал Метцгер. – Не похоже на Инверэрити. В таких расчетах он был крайне щепетилен. Если только это не был подкуп или взятка. Но я занимался только законными налоговыми выплатами, так что все равно ничего бы не заметил. На какую строительную фирму работал твой клиент?
– Строительную фирму? – Ди Прессо покосился по сторонам.
Метцгер оглянулся. «Параноики» с подружками, похоже, были вне зоны слышимости.
– Что, человеческие кости? – Ди Прессо кивнул. – Тогда ясно, как он их получил. Через разные дорожно-строительные предприятия, в которые вкладывал деньги и с которыми заключал контракты. Все делалось самым что ни на есть кошерным способом, Манфред. Если кого и подмазывали, сомневаюсь, что это записывалось.
– Ради всего святого, объясните, – потребовала Эдипа, – каким образом дорожные строители могут торговать костями?
– Раскапываются старые кладбища, – объяснил Метцгер. – Как то, что обнаружилось на пути Восточной автострады Сан-Нарцисо; оно не должно было там оказаться, и потому мы его просто пропахали – ничего страшного.
Ди Прессо покачал головой:
– Никаких взяток, никаких автострад. Эти кости приехали из Италии. Прямая продажа. Некоторые из них там, – он махнул рукой в сторону озера. – Донный орнамент для придурковатых любителей подводного плавания. Собственно, этим я сегодня и занимался – изучал товар. Пока Тони не пустился вдогонку, разумеется. Остальные кости еще в начале пятидесятых использовались на этапе предварительных исследований для разработки фильтра, снижающего вероятность заболевания раком. Тони Ягуар говорит, что собрал все кости со дна Lago di Pieta.[51]
– Силы небесные, – поразился Метцгер, услышав это название. – Солдаты?
– Около роты, – подтвердил Ди Прессо. Озеро Оплакивания, находившееся неподалеку от побережья Тирренского моря, где-то между Неаполем и Римом, стало местом ныне забытой (а в 1943 году – трагической) изнурительной битвы, развернувшейся на второстепенном участке боевых действий во время похода на Рим. Несколько недель горстка американских солдат, попавших в окружение и оставшихся без связи, бестолково суетилась на узком берегу чистого и спокойного озера, в то время как с утесов, вертикально нависавших над берегом, денно и нощно, настильно и продольно лупили немцы. Вода в озере была слишком холодной: пловец умирал от переохлаждения, не успев достичь безопасного берега. Не было деревьев, чтобы построить плоты. В воздухе появлялись только одиночные «штукеры»[52] на бреющем полете. Удивительно, что так мало бойцов так долго продержались. Они окопались, насколько это позволял скалистый берег, и посылали на утесы небольшие группы, которые почти никогда не возвращались, хотя однажды сумели захватить пулемет. Разведчики искали обходные пути, но большей частью гибли или приходили ни с чем. Солдаты изо всех сил пытались прорваться. Потерпев неудачу, они, сколько могли, цеплялись за жизнь. Но погибли все до единого – глупо, бессловесно и бесследно. А потом в один прекрасный день немцы спустились со скал и побросали в озеро все трупы, которые валялись на берегу, все оружие и всю боевую технику, непригодную к дальнейшему использованию. Трупы спокойно утонули и оставались в озере до начала пятидесятых, пока не появился Тони Ягуар, служивший капралом в итальянской части, прикомандированной к немцам, которые стояли у озера Оплакивания; он знал, что именно лежит на дне, и решил – вместе с несколькими, так сказать, коллегами – выяснить, чем еще можно поживиться. Поднять им удалось только кости. В силу целого ряда туманных причин, которые могли включать в себя известный факт, что американские туристы, каковых тогда развелось в изобилии, готовы платить полновесные доллары практически за что угодно, ввиду рассказов о «Лесной поляне»[53] и американского культа мертвых; возможно, в смутной надежде, что сенатор МакКарти и его клика, которые приобрели в те дни определенное влияние на богатых заокеанских кретинов, сумеют каким-то образом вновь привлечь внимание к павшим во Второй мировой – в особенности к тем, чьи тела не были найдены, – в общем, в силу целого лабиринта предполагаемых мотивов Тони Ягуар решил, что благодаря своим связям с «организацией», известной нынче как «Коза Ностра», он наверняка сумеет сбыть Урожай костей где-нибудь в Америке. И оказался прав. Импортно-эскпортная фирма закупила кости, толкнула их предприятию по производству удобрений, которое взяло пару бедренных суставов для лабораторных исследований, но в конце концов решило вместо человечины использовать американскую сельдь и переправило оставшиеся несколько тонн холдинговой компании, продержавшей их почти год на складе возле Форта Уэйн в штате Индиана, прежде чем костями заинтересовался «Биконсфилд».
– Ага, – подскочил Метцгер. – Значит, их купил «Биконсфилд». Не Инверэрити. У него были акции только «Остеолизис Инкорпорейтед»,[54] компании, которая разрабатывала фильтр. А не самого «Биконсфилда».
– Кстати, мальчики, – вдруг заметила одна из девчонок, милашка в черных колготках и теннисных туфлях, с тонкой талией и каштановыми волосами, – все это потрясно смахивает на ту препоганейшую якобитскую пьесу о мести, которую мы смотрели на прошлой неделе.
– «Трагедия курьера», – сказал Майлз, – Точно. Так же кучеряво закручено. Кости батальона жмуриков в озере, их выуживают, пускают в дело…
– Они подслушивают, – возопил Ди Прессо. – Ну и детишки пошли. Вечно подслушивают, вынюхивают, ставят жучки в квартире, подключаются к телефону…
– Зато не болтаем направо и налево о том, что услышим, – сказала другая девушка. – И мы вообще не курим «Биконсфилд». Курим марихуану. – Смех. Но не шутка.
Барабанщик Леонард полез в карман своего пляжного халата, вытащил пригоршню сигарет с марихуаной и раздал приятелям. Метцгер закрыл глаза и отвернулся, бормоча: «Употребление наркотиков».
– Караул, – сказал Ди Прессо, обернувшись и дико глядя с открытым ртом на озеро. Там появился еще один катер, который направлялся прямо к ним. За ветровым стеклом скрючились две фигуры в серых костюмах. – Я выйду к нему, Метц. Если он остановится здесь, не лезь в бутылку, это мой клиент. – И Ди Прессо исчез, скатившись вниз по лестнице.
Эдипа со вздохом откинулась на спину и, щурясь от ветра, уставилась в пустоту голубого неба. Вскоре она услышала, как от берега отошла «Годзилла-II».
– Метцгер, – вдруг дошло до нее, – Ди Прессо увел катер. Бросил нас на острове.
Там они и оставались вплоть до полного захода солнца, и лишь потом Майлз, Дин, Серж, Леонард и девчонки, чертя в воздухе рдеющими сигаретами буквы «С» и «О», словно группа поддержки на футбольном матче, привлекли внимание спасательной службы Лагун Фангосо – команды, набранной из бывших актеров-ковбоев и мотоциклистов-полицейских. Этот солидный промежуток времени был заполнен песнями «Параноиков», выпивкой, бросанием кусочков баклажанных сэндвичей стае не слишком умных чаек, перепутавших Лагуны Фангосо с Тихим океаном, и пересказом сюжета пьесы Ричарда Уорфингера «Трагедия курьера» – путаным и практически бессвязным, поскольку различные воспоминания восьмерых человек раскручивались постепенно и заводили в пределы столь же расплывчатые, как кольца и облака сигаретного дыма. Получалось настолько невнятно, что на следующий день Эдипа решила посмотреть пьесу сама и даже уговорила Метцгера пойти с ней.
«Трагедию курьера» поставила труппа из Сан-Нарцисо, известная как «Актеры Танка»; «Танком» назывался маленький театрик, расположенный между дорожно-аудиторской фирмой и подпольным цехом по производству транзисторов, которого еще не было в прошлом году и уже не будет в следующем, но который тем не менее греб деньги лопатой – если не ковшом парового экскаватора, – хотя торговал по ценам даже ниже японских. Эдипа и надутый, капризничающий Метцгер вошли в полупустой зал.
К началу представления он так и не заполнился. Но костюмы были пышными, свет – впечатляющим, и хотя все реплики произносились на сценическом языке среднего запада Британии, Эдипа уже через пять минут чрезвычайно увлеклась атмосферой зла, которую создал для аудитории XVII века чародей Ричард Уорфингер, – атмосферой предапокалиптической, насыщенной жаждой смерти и выдохшейся чувственностью, атмосферой хаотической, немного едкой, полной предчувствия холодной бездны гражданской войны, ожидаемой через каких-нибудь пару годков.
Действие пьесы начинается примерно через десять лет после того, как Анжело, зловещий герцог Сквамулья, убил своего соседа, доброго герцога Фаджио, отравив ступни изваяния Святого Нарциса, епископа Иерусалимского, стоявшего в дворцовой часовне, каковые ступни герцог привык целовать каждое воскресенье, приходя к мессе. Это дает возможность Паскуале, злому побочному сыну Фаджио, стать регентом при своем сводном брате Никколо, законном наследнике и протагонисте пьесы, пока тот не достигнет совершеннолетия. Разумеется, Паскуале не собирается позволить ему так долго прожить. Сговорившись с герцогом Сквамулья, Паскуале замышляет избавиться от юного Никколо, предложив мальчику поиграть в прятки, дабы затем хитроумно навести его на мысль заползти в жерло чудовищной пушки, из которой приспешник негодяя бабахнет ребенком прямо в небеса, о чем Паскуале с сожалением вспоминает несколько позже, в третьем акте:
Дождем кровавым напитал бы он поля,
В кругу Менад, рычащих песнь селитры
И сере воспевающих хвалу.
С сожалением, так как упомянутый приспешник, обаятельный интриган по имени Эрколе, тайно поддерживает связь с инакомыслящими при дворе Фаджио, которые желают сохранить жизнь Никколо; и Эрколе, ухитрившись запихнуть в пушку козленка, скрытно выводит малыша, переодетого старой сводней, из герцогского дворца.
Все это выясняется в первой сцене, когда Никколо излагает предысторию своему другу Доменико. К этому времени Никколо уже подрос и теперь крутится при дворе убийцы своего отца, герцога Анжело, притворяясь специальным курьером семейства Торн и Таксис, которое в те дни являлось монополистом почтовых перевозок на территории всей Священной Римской Империи. Никколо делает вид, что пытается завоевать новый рынок, поскольку порочный герцог Сквамулья упорно отказывается от услуг системы «Торн и Таксис», несмотря на пониженные расценки и ускоренное обслуживание, и предпочитает нанимать специальных гонцов для сношений с Паскуале, своим ставленником в соседствующем Фаджио. На самом же деле Никколо выжидает удобного момента, чтобы расправиться с герцогом.
Тем временем подлый герцог Анжело задумывает объединить владения Сквамулья и Фаджио, выдав свою сестру Франческу – последнюю представительницу королевской фамилии – за Паскуале, узурпатора Фаджио. Единственным препятствием на пути этого союза является то, что Франческа – мать Паскуале; именно ее незаконное сожительство с покойным герцогом Фаджио и послужило одной из причин, подвигнувших Анжело на отравление последнего. Следует забавная сцена, в которой Франческа деликатно напоминает брату о социальном табу на инцест. Анжело отвечает, что Франческа, похоже, упустила из виду их десятилетнюю любовную связь. Инцест не инцест – брак будет, и точка; он жизненно необходим для далеко идущих планов герцога. Церковь никогда не даст разрешения на это, говорит Франческа. Значит, отвечает герцог Анжело, я подкуплю кардинала. В нем просыпается похоть, он вожделеет сестру и впивается ей в шею; диалог переходит в пароксизмы бурной страсти, и сцена завершается падением сластолюбивой пары на тахту.
Акт заканчивается тем, что Доменико, которому наивный Никколо в начале выбалтывает свою тайну, пытается пройти к герцогу Анжело и предать друга. Герцог у себя в апартаментах, но он, разумеется, занят до предела, и Доменико не находит ничего лучшего, как обратиться к его ближайшему помощнику, а им оказывается тот самый Эрколе, который когда-то спас жизнь юному Никколо и помог ему бежать из Фаджио. В чем Эрколе и признается Доменико, предварительно соблазнив неосмотрительного доносчика наклониться и сунуть голову в заманчивый черный ящик под предлогом показа порнографической диорамы. Стальные тиски мгновенно схватывают голову вероломного Доменико, а ящик заглушает крики о помощи. Эрколе связывает ему руки и ноги алым шелковым шнуром, рассказывает о своей роли в событиях, просовывает в ящик щипцы, вырывает Доменико язык, дает пару раз по шее, выливает в ящик кубок царской водки, перечисляет ряд других удовольствий – включая кастрацию, – которые предстоит испытать подлецу перед смертью, – и все это под аккомпанемент воплей, безъязыких попыток мольбы о пощаде и судорожных извиваний жертвы. Затем Эрколе зажигает факел на стене, насаживает вырванный язык на рапиру, поджаривает его и завершает акт безумной пляской и криком:
Шут Эрколе сейчас из подлеца
Одним ударом сделает скопца.
Нечистый дух отправим на погост,
Начнем ужасный праздник Пентекост.[55]
Свет погас, и в наступившей тишине кто-то неподалеку от Эдипы отчетливо икнул.
– Ну что, пойдем? – спросил Метцгер.
– Я хочу посмотреть про кости, – ответила Эдипа. Ей пришлось ждать до четвертого акта. Второй большей частью был посвящен затяжным пыткам и бесконечным страданиям князя Церкви, который предпочитает принять мученический венец, но не позволить Франческе выйти замуж за собственного сына. Картины истязаний прерываются лишь раз, когда Эрколе, наблюдающий за агонией, посылает гонцов в Фаджио, к порядочным людям, имеющим зуб на Паскуале, и, рассчитывая несколько всколыхнуть общественное мнение, велит курьерам пустить слух, что Паскуале задумал жениться на своей матери; после чего следует сцена, в которой Никколо, убивая время с одним из гонцов герцога Анжело, выслушивает рассказ о Потерянном Патруле, отряде из пятидесяти отборных рыцарей, золотой молодежи Фаджио, посланных защищать доброго герцога. В один прекрасный день они выехали в район патрулирования возле границы Сквамулья и бесследно пропали, а вскоре после этого добрый герцог был отравлен. Честный Никколо, которому всегда было трудно в нужный момент скрыть свои эмоции, высказывается в том духе, что между этими двумя событиями может вдруг обнаружиться связь, и если выяснится, что тут замешан герцог Анжело, то, право слово, приятель, несладко ему придется, вот увидишь. Собеседник Никколо, некий Витторио, обижается и клянется в сторону при первой же возможности донести Анжело об этих изменнических речах. Далее действие вновь переносится в комнату – пыток, где кровью кардинала наполняют потир и принуждают священника посвятить свою кровь не Богу, но Сатане. Ему также отрубают большой палец на ноге, заставляют поднять его наподобие гостии и сказать при этом «Вот тело мое», а язвительный Анжело замечает, что кардинал после пятидесяти лет беспрерывного вранья впервые сказал хоть что-то похожее на правду. По всей видимости, эта вполне антиклерикальная сцена была вставлена с намерением потрафить пуританам того времени (бесполезный жест, поскольку они вообще в театр не ходили, по каким-то причинам считая безнравственными все пьесы сплошь).
Действие третьего акта разворачивается при дворе Фаджио и приводит к убийству Паскуале, которое становится кульминацией интриги, начатой агентами Эрколе. Пока за стенами дворца на улицах бушует битва, Паскуале запирается в изысканной оранжерее и устраивает оргию. Главным номером развеселого представления становится черная дрессированная обезьяна свирепого вида, якобы недавно привезенная из Индии. Естественно, под обезьяньей шкурой скрывается человек, который по условному сигналу прыгает с люстры на Паскуале, и одновременно полдюжины девиц, до этого слонявшихся туда-сюда под видом танцовщиц, бросаются на узурпатора с разных концов сцены. Около десяти минут мстительные фурии увечат, душат, травят, жгут, топчут, ослепляют и прочими способами терзают Паскуале, в то время как он доверительно описывает испытываемые им разнообразные ощущения, к вящему удовольствию публики. После крайне мучительной агонии он наконец умирает, и тут входит некий Дженнаро – полное ничтожество, – дабы провозгласить себя временным правителем страны, пока не будет найден законный герцог – Никколо.
Вслед за этим объявили антракт. Метцгер, пошатываясь, удалился в крохотную курилку, Эдипа направилась в туалет. Там она лениво поискала символ, обнаруженный в «Пределе всему», но стены уборной были на удивление чисты. Эдипа, сама не зная почему, вдруг почувствовала неясную угрозу в отсутствии тех надписей, которыми славились общественные сортиры.
Четвертый акт «Трагедии курьера» открылся сценой с герцогом Анжело в состоянии нервного исступления. Он уже знает о событиях в Фаджио, и ему доносят, что Никколо, возможно, все-таки остался жив. Ходят также слухи, что Дженнаро собирает войско для нападения на Сквамулья, а Папа Римский готов поддержать вторжение в отместку за убийство кардинала. Понимая, что своим людям он больше доверять не может, и отовсюду ожидая предательства, герцог в конце концов решается и велит Эрколе, о чьей истинной роли он и не подозревает, вызвать курьера компании «Торн и Таксис». Эрколе вводит Никколо и оставляет его ждать распоряжений герцога. Анжело достает перо, пергамент и чернила, объясняя публике – но не благородным мстителям, которые понятия не имеют о недавних событиях, – что он срочно должен уверить Дженнаро в своем добром к нему отношении, дабы предотвратить войну с Фаджио. Наспех корябая послание, он роняет несколько бессвязных и загадочных фраз о чернилах, которыми пользуется, намекая, что это некая особая жидкость. Например:
Француз чернила якорем назвал,
В Сквамулья был бы понят дикий галл,
Ведь бездны варево черно, как ночь.
Или:
Горюет лебедь, потеряв перо,
Овца печалится о шерсти пышной,
Но то, что стало жидкостью чернильной,
Не щипано, не стрижено.
Оно Изъято у совсем других зверей.
Все это приводит его в необычайно веселое расположение духа. Письмо к Дженнаро закончено и запечатано, Никколо засовывает его за отворот камзола и отбывает в Фаджио, по-прежнему, как и Эрколе, пребывая в неведении о перевороте и предстоящем ему законном восстановлении в правах на герцогский трон. Следующая картина показывает Дженнаро во главе небольшой армии, готовой войти в пределы Сквамулья. По пути все пространно разглагольствуют о том, что Анжело – если бы он действительно хотел мира – прислал бы парламентера, прежде чем войско пересечет границу, поскольку в противном случае придется – пусть и с великой неохотой – надрать ему задницу. Действие вновь переносится в Сквамулья, где Витторио, курьер герцога, доносит о нелояльности Никколо. Вбегает стражник и сообщает, что обнаружено изувеченное тело Доменико, вероломного друга Никколо, а в сапоге у него найдена кое-как начертанная кровью записка, раскрывающая истинное положение вещей. Анжело, которого от ярости чуть не хватил апоплексический удар, приказывает догнать Никколо и разорвать на куски. Но приказ этот он отдает вовсе не своим приближенным.
Собственно, где-то с этого момента в пьесе начинают происходить действительно странные вещи, и в словах появляется некая неуловимая зыбкость и вкрадчивая двойственность. До этого все – либо буквально, либо метафорически – называлось своими именами. Но после того как герцог отдает роковой приказ, манера повествования резко меняется. Пожалуй, точнее всего ее можно определить как своего рода ритуальное умолчание. Зрителю дается понять, что о некоторых известных обстоятельствах не будет говориться вслух; некоторые события не будут показаны на сцене, хотя, учитывая избыточные подробности предыдущих актов, трудно представить, что могли произойти еще более ужасные события. Герцог информировать нас либо не хочет, либо не может. Бешено крича на Витторио, он достаточно ясно указывает, кто не должен преследовать Никколо; свою собственную охрану он прямо называет сбродом, подонками, шутами, трусами. Но кто же тогда отправится в погоню? Витторио это знает, как знают и все придворные лакеи, слоняющиеся в конюшне Сквамулья и обменивающиеся Многозначительными Взглядами. За всем этим скрыта какая-то грандиозная шутка. Публика того времени это понимала. Анжело знает, но умалчивает. Он едва не проговаривается, но так и не проливает свет на загадку.
Пусть мчит к своей могиле самозванец,
Что тщетно имя гордое присвоил;
Мы просто примем маску за лицо
И призовем кинжалы скорой мести;
Малейший шепоток о том, что имя
Никколо доброго присвоено другим,
Их пробудит – и самозванца нет,
Настигнут роком, и судьба его Невыразима…
Действие возвращается в стан Дженнаро. Прибывает разведчик из Сквамулья и сообщает, что Никколо уже в пути. Общее ликование, во время которого Дженнаро, не столько разговаривающий, сколько ораторствующий, умоляет всех не забывать, что Никколо по-прежнему выступает под эгидой «Торн и Таксис». Веселье прекращается. И вновь, как во дворце Анжело, начинает веять странным холодом. На сцене все прекрасно осведомлены о возможных последствиях (и режиссура это четко подчеркивает). Дженнаро, еще более загадочный, чем Анжело, возносит молитву Господу и Святому Нарцису с просьбой защитить Никколо, и войско выступает в поход. Дженнаро спрашивает помощника, где они находятся; выясняется, что примерно в лиге от того озера, где в последний раз видели Потерянный Патруль Фаджио перед его таинственным исчезновением.
Тем временем во дворце Анжело хитросплетения Эрколе выплывают наружу. Витторио и полдюжины других придворных наседают на него и обвиняют в убийстве Доменико. Парадом проходят свидетели, и после быстрой пародии на суд Эрколе просто забивают до смерти – весьма свежее решение.
В следующей сцене мы в последний раз видим Никколо. Он решает сделать привал на берегу озера, где, как он помнит, пропал отряд рыцарей из Фаджио. Сидя под деревом, он вскрывает письмо Анжело и узнает наконец о перевороте и смерти Паскуале. Никколо становится ясно, что он едет навстречу воцарению, любви всего герцогства и осуществлению своих самых заветных мечтаний. Скорчившись под деревом, он читает отрывки из письма вслух и саркастически комментирует очевидное нагромождение лжи, призванной успокоить Дженнаро, пока Анжело будет собирать войско в Сквамулья, чтобы напасть на Фаджио. За сценой раздается разбойничий клич. Никколо вскакивает на ноги, вперяет взгляд в один из проходов полукруглого зала и застывает, опершись на эфес меча. Он трясется, теряет дар речи и заикаясь произносит, наверное, самую короткую реплику, написанную белым стихом: «Т-т-т-т-т…» Словно выходя из тяжкого дремотного оцепенения и прилагая неимоверные усилия на каждом шагу, он начинает отступать. Повисает жуткая тишина, и внезапно на сцену с грацией балетных танцоров выпрыгивают три женоподобные, длиннорукие и длинноногие фигуры в черном обтягивающем трико, на головах у них черные чулки, на руках – перчатки; они резко останавливаются и пристально наблюдают за Никколо. Лица под чулками искажены и неузнаваемы. Они ждут. Сцена погружается во мрак.
И вновь действие переносится в Сквамулья, где Анжело безуспешно пытается собрать армию. Отчаявшись, он зовет всех оставшихся прихвостней и шлюх, велит принести вино, традиционно запирает все выходы и устраивает оргию.
В конце акта силы Дженнаро подходят к берегам озера. Появляется один из воинов и сообщает, что тело Никколо, опознанное по амулету, который он еще ребенком носил на шее, найдено в состоянии столь плачевном, что лучше об этом и не говорить. Снова наступает тишина, и все смотрят друг на друга. Воин протягивает Дженнаро запятнанный кровью свиток пергамента, обнаруженный на теле. Печать указывает на то, что это письмо Анжело, которое вез Никколо. Дженнаро бросает на него взгляд, ловко подменяет и читает вслух. Это уже совсем не то лживое послание, отрывки из которого Никколо нам зачитывал; чудесным образом оно превратилось в длинное и многословное признание Анжело во всех своих преступлениях, завершающееся раскрытием тайны Потерянного Патруля из Фаджио. Они все – кто бы мог подумать – были убиты Анжело и брошены в озеро. Позже их кости были старательно собраны со дна, превращены в уголь, а уголь пошел в чернила, которыми Анжело, обладающий мрачным и непритязательным чувством юмора, писал все последующие послания в Фаджио, включая оглашаемый документ:
Но безупречных рыцарей останки
Теперь окроплены Никколо кровью;
Невинность повстречалась с благородством,
Наградой их союзу стал ребенок,
Преобразивший ложь в святую правду,
И эта правда стала завещаньем
Отряда павших Фаджио сынов.
Все падают на колени пред свершившимся чудом, возносят хвалу Господу, оплакивают Никколо и клянутся разорить гнездо Сквамулья. Но Дженнаро заканчивает на ноте еще более высокого накала, которая, вероятно, повергала публику того времени в настоящий шок, так как здесь открывалось наконец имя, которое не назвал Анжело и которое пытался узнать Никколо:
Они служили раньше Торн и Таксис,
Теперь у них хозяин – шип стилета
И рог безмолвный общего секрета.
Отступят звезды, не спасет и вера
От той химеры, что зовут Тристеро.
Тристеро. Слово повисло в воздухе, акт закончился, и свет ненадолго погас; слово продолжало висеть в темноте над сбитой с толку, но все же не поддавшейся его власти Эдипой Маас.
Пятый акт, развязка пьесы, представлял собой кровавую баню, которую учинил Дженнаро во дворце Сквамулья. Были задействованы все способы мучительной казни, известные человеку эпохи Возрождения, включая яму со щелочью, закапывание живьем в землю и дрессированных соколов с отравленными когтями. Позже Метцгер заметил, что это выглядело как мультфильм о Бегунке,[56] переложенный белым стихом. В конце на сцене, густо заваленной трупами, в живых оставался лишь один персонаж – бесцветный управляющий Дженнаро.
Согласно программке, режиссером «Трагедии курьера» был некий Рэндолф Дриблетт. Он же исполнял роль Дженнаро-победителя.
– Слушай, Метцгер, – сказала Эдипа, – пойдем со мной за кулисы.
– Ты там кого-нибудь знаешь? – удивился Метцгер, порывавшийся скорее уйти.
– Я хочу кое-что выяснить. Мне надо поговорить с Дриблеттом.
– А, о костях, – понимающе посмотрел на нее Метцгер.
– Не знаю. Просто мне как-то не по себе. Между этими двумя историями слишком большое сходство.
– Отлично, – сказал Метцгер. – И что дальше?
Пикет перед Обществом Ветеранов войны? Марш на Вашингтон? Создатель, – обратился он к потолку маленького театра, и головы нескольких человек, идущих к выходу, повернулись как на шарнирах, – спаси меня от этих либералок, от этих чересчур образованных баб с размягчившимися мозгами и кровоточащими сердцами. Мне тридцать пять лет, и я заслуживаю лучшей доли.
– Метцгер, – прошептала смешавшаяся Эдипа, – я принадлежу к Молодым Республиканкам.
– Комиксы про Хэпа Хэрригана,[57] которые она с трудом прочитывает, – заявил Метцгер еще громче, – и Джон Уэйн,[58] воскресным вечером загрызающий зубами десять тысяч япошек, – вот что такое Вторая мировая война для Эдипы Маас, старик. Нормальные люди сегодня ездят на «фольксвагенах» и носят радиоприемники «Сони» в кармане рубашки. Но это не для нее, друзья мои, она хочет исправить то, что кончилось двадцать лет назад. Вызвать призраков. И все из-за пьяного базара с Мэнни Ди Прессо. Она забыла, что ее первостепенной задачей и нравственным долгом является законная защита собственности, которую она представляет. А не наши славные парни в униформе, остающиеся равно галантными, когда бы они ни отдали концы.
– Это не так, – запротестовала Эдипа. – Мне плевать, что там использовал «Биконсфилд» для своего фильтра. Плевать, что покупал Пирс у «Коза Ностры». Не желаю даже думать об этом. И о том, что было возле озера Оплакивания, и о раке… – Она беспомощно умолкла, не в силах подыскать слова.
– А что же тогда? – грозно вопросил Метцгер, поднимаясь на ноги и нависая над ней. – Что?
– Не знаю, – призналась Эдипа в отчаянии. – Метцгер, не нападай на меня. Будь на моей стороне.
– Против кого? – поинтересовался Метцгер, надевая очки.
– Я хочу понять, есть тут связь или нет. Мне любопытно.
– Ей любопытно, – сказал Метцгер. – Я подожду в машине, ладно?
Эдипа проводила его взглядом и пошла искать артистические уборные; она дважды прошла по кольцевому коридору, прежде чем остановилась перед дверью в темном промежутке между двумя лампами. Она вступила в мягкий изящный хаос излучавших энергию призрачных образов, переплетенных между собой обнаженными нервными окончаниями.
Девушка, смывавшая с лица потеки кровавой краски, направила Эдипу в сторону ярко сверкающих зеркал. Эдипа, лавируя, проскользнула мимо потных бицепсов и шелестящего занавеса длинных волнистых волос, после чего оказалась перед Дриблеттом, все еще одетым в серый костюм Дженнаро.
– Это было великолепно, – заявила Эдипа.
– Потрогайте, – сказал Дриблетт, протягивая руку. Эдипа потрогала. Костюм Дженнаро был сделан из серой фланели. – Я истекаю потом, но ведь иначе его не сыграть, верно?
Эдипа кивнула. Она не могла отвести взгляда от его глаз. Черные и блестящие, они были окружены невероятно густой сеткой мелких морщин, похожих на лабораторный лабиринт для определения интеллекта блуждающих по ним слез. И они, казалось, знали, что нужно Эдипе, даже если она сама этого не понимала.
– Вы пришли поговорить о пьесе, – сказал Дриблетт. – Вынужден вас разочаровать. Она была создана для развлечения толпы. Как фильмы ужасов. Это не литература, ничего в ней нет. Уорфингер не был Шекспиром.
– А кем он был? – спросила Эдипа.
– Тем же, кем и Шекспир. Это было очень давно.
– Могу я посмотреть сценарий? – Эдипа сама толком не знала, что надеется найти. Дриблетт показал на картотеку рядом с душевой.
– А я, пожалуй, приму душ, – сказал он, – пока туда не ворвалась толпа с криками «Эй, бросьте мыло». Все сценарии в верхнем ящике.
Но там оказались лишь смазанные копии – мятые, рваные, с печатями кофейных пятен.
– Эй, – обратилась Эдипа к душевой, – А где оригинал? С чего делались эти копии?
– С книжки в бумажной обложке, – крикнул в ответ Дриблетт. – И не спрашивайте меня об издателе. Я нашел ее в букинистической лавке Цапфа у автострады. Антология «Якобитские пьесы о мести». На обложке изображен череп.
– Можно ее взять?
– Ее уже кто-то взял. На вечерние посиделки. После каждого нового представления пропадает не меньше полудюжины сценариев. – Он высунул голову из душевой. Тело его было скрыто облаками пара, придававшими голове жутковатое сходство с плавучим буем. – В лавке был еще один экземпляр, – сказал он, с огромным любопытством уставясь на Эдипу. – Может, и до сих пор есть. Сумеете найти, где это?
Внутренности Эдипы исполнили короткий танец и успокоились.
– Хотите, чтобы я туда съездила? Некоторое время глаза в глубоких морщинах неотрывно глядели на нее.
– Почему, – сказал наконец Дриблетт, – всех так интересует текст?
– Кого еще? – Слишком поспешно. Возможно, он говорил просто так, в общем смысле.
Голова Дриблетта качнулась из стороны в сторону.
– Не впутывайте меня в ваши ученые диспуты, – сказал он и добавил с фамильярной усмешкой: – Кто бы вы там ни были.
И Эдипа вдруг поняла, с ужасом ощутив на своей коже холодные пальцы мертвецов, что это в точности тот самый взгляд, которым по его указанию обменивались актеры, едва возникала тема убийц из Тристеро. Понимающий взгляд, которым смотрят неприятные люди, являющиеся нам в сновидениях. Эдипа решила расспросить о книге.
– А там были сценические указания? Были все эти люди, которые прозрачно намекают, что они в курсе? Или это ваше дополнение?
– Мое собственное, – ответил Дриблетт. – И это, и трое убийц, выпрыгивающих на сцену в четвертом акте. Уорфингер их вообще не показывает, понимаете ли.
– А вы зачем показали? Слышали о них где-нибудь еще?
– Вы не понимаете. – Дриблетт начал заводиться. – Относитесь к этому, как пуритане к Библии. Цепляетесь к словам, словам… Поймите, что эта пьеса существует не в сценарии и не в той книжке, которую вы разыскиваете, а здесь. – Из горячего облака высунулась рука и ткнула в окутанную паром, отдельно висящую голову. – Вот для чего нужен я. Облечь дух плотью. Плевать, какие там слова. Это лишь механически заученные шумы, которые показывают линию главного удара путем проникновения через барьеры костей черепа в память актеров, верно? А подлинная сущность находится в этой голове. В моей. Я как проектор в планетарии, вся эта маленькая замкнутая вселенная, ограниченная сценической площадкой, выходит из моих уст, из моих глаз, а иногда и из других отверстий.
Но Эдипа не собиралась так просто сдаваться.
– Но почему вы изменили то, что сделал Уорфингер с этим… этим Тристеро.
И тут голова Дриблетта внезапно исчезла, нырнула в пар. Словно выключилась. Эдипа не хотела произносить это слово. Он и здесь, как на сцене, ухитрился создать ту же ауру ритуального умолчания.
– Если бы я полностью растворился в материале, – рассуждал голос за клубами пара, – так сказать, просочился бы через канализацию в Тихий океан, то все, что вы сегодня увидели, исчезло бы вместе со мной. А с этим маленьким миром пропала бы – Бог его знает как – и та ваша ипостась, которая так всем этим интересуется. Собственно говоря, осталось бы только то, в чем Уорфингер не соврал. Возможно, остались бы Сквамулья и Фаджио, если они существовали. Почтовая система «Торн и Таксис». Филателисты говорят, что и впрямь была такая. Может, еще что-нибудь. Образ врага, например. Но это были бы лишь ископаемые останки. Мертвые, окаменелые, не имеющие ни ценности, ни потенциала. Вы можете влюбиться в меня, побеседовать с моим психоаналитиком, можете спрятать магнитофон в моей спальне и подслушивать, что я болтаю во сне, где бы я ни спал. Вам этого хочется? Можете собрать улики, выдвинуть один или несколько тезисов о том, почему персонажи реагируют на упоминание о Тристеро так, а не иначе, почему появляются убийцы и почему они в черном. Можете потратить на это всю жизнь и даже не приблизиться к истине. Уорфингер дал слова и общую канву. Я вдохнул в них жизнь. Вот так.
Наступило молчание. В душевой плескала вода.
– Дриблетт, – немного подождав, окликнула Эдипа.
Голова тут же вынырнула.
– Можно и развлечься, – сказал он серьезно. Глаза в паутине морщин смотрели выжидательно.
– Я позвоню, – сказала Эдипа. Она вышла и, только оказавшись на улице, подумала: «Я пришла спросить его о костях, а вместо этого мы говорили о системе Тристеро. Она стояла возле опустевшей автостоянки, смотрела, как к ней приближаются фары автомобиля Метцгера и гадала, случайной ли была эта встреча.
Метцгер в машине слушал радио. Эдипа села и проехала около двух миль, прежде чем осознала, что ночная музыкальная передача идет из Киннерета и что ведет программу ее муж Мачо.
Эдипа еще раз встретилась с Майком Фаллопяном, попутно кое-что выяснила о тексте «Трагедии курьера», но полученные сведения встревожили ее не больше, чем прочие откровения, которые множились в геометрической прогрессии, словно чем больше информации она получала, тем больше ей предстояло узнать, пока все, что она видела и осязала, о чем грезила и что вспоминала, не будет так или иначе вплетено в Тристеро.
Для начала Эдипа еще раз внимательно прочла завещание Пирса. Если он действительно хотел, чтобы после его смерти осталось нечто организованное и упорядоченное, то ее долг состоял, видимо, в том, чтобы вдохнуть жизнь в то, что еще сохранилось, попытаться, подобно Дриблетту, стать темным проектором в центре планетария, способным превратить полученное наследство в звездородный Смысл, пульсирующий вокруг нее на искусственном небосводе? Если бы только перед ней не стояло столько препятствий: слабое знание законодательства, инвестиций, недвижимости и главное – самого покойного. Долги, с которыми предстояло рассчитаться в соответствии с решением суда по делам о наследствах, были как бы долларовым выражением того, что стояло у нее на пути. Под символом, который Эдипа срисовала себе в записную книжку со стены в туалете в «Пределе», она написала: «Должна ли я проецировать Вселенную?» Если не проецировать, то по крайней мере скользить светящейся стрелочкой по небесному своду, выискивая среди созвездий своего Дракона, Кита, свой Южный Крест. Все может пригодиться.
Примерно с таким чувством Эдипа проснулась однажды ранним утром и решила пойти на собрание акционеров компании «Йойодин». Делать там было в общем-то нечего, однако она чувствовала, что ей необходима небольшая встряска. У ворот ей выдали круглый гостевой значок, автомобиль она оставила на огромной стоянке возле длинного – не меньше ста ярдов – здания из гофрированного железа, выкрашенного розовой краской. Это была столовая «Йойодин», где и должно было проходить собрание. В течение двух часов Эдипа сидела на скамье между двумя старичками, похожими как близнецы, чьи руки поочередно то и дело падали на ее бедра (будто пока их владельцы спали, руки в старческих пятнышках и веснушках бродили по ландшафтам сна). Рядом сновали негры с громадными, как корабли, блюдами с картофельным пюре, шпинатом, креветками, цуккини, тушеным мясом и ставили их на длинные прилавки с подогревом, готовясь к полуденному вторжению сотрудников «Йойодина». Обсуждение рутинных вопросов заняло около часа, а еще один час акционеры, доверенные лица и чиновники компании посвятили празднику песни. На мелодию гимна Корнеллского университета они исполнили свой гимн:
ГИМН
Над дорогой быстрой, ровной
Он стоит один —
Филиал наш Галактронный
Фирмы «Йойодин».
До конца трудиться будем
В розовых цехах,
Ветви пальм мы не забудем
В синих небесах.
Запевал сам президент компании мистер Клэйтон Чиклиц по прозвищу Кровавый. Затем на мотив «Ауры Ли» хор запел:
ХВАЛЕБНАЯ ПЕСНЯ
«Авко» делает заряды,
«Бендикс» – к ним прицел.
«Грумман», «Дуглас» помогают —
Будет каждый цел.
«Локхид» с моря, «Мартин» с суши —
Это пуск ракет.
Нам на «Пайпер Каб» заказа
Не доверят, нет.
Спутник мчится по орбите
С маркою «Конвэйр»;
«Боинг» строит «Минитмсны» —
Нам земля милей.
«Йойодин», «Йойодкн»,
Без контрактов ты.
Министерство обороны – Жадные скоты.
Далее спели еще дюжину добрых старых песен, слов которых Эдипа не запомнила. Затем певцы образовали небольшие группы, каждая размером примерно с пехотный взвод, и отправились в короткую экскурсию по заводу.
Эдипа умудрилась нечаянно заблудиться. Только что она стояла среди сонных старичков, разглядывая макет кабины космического корабля, а в следующее мгновение оказалась одна в огромном помещении, где под треск флуоресцентных ламп кипела бурная деятельность. В зале преобладал белый цвет и пастельные тона: мужские сорочки, бумага, чертежные Доски. Ослепленная Эдипа надела темные очки, надеясь, что кто-нибудь придет к ней на помощь. Однако никто не обращал на нее внимания. Она пошла по проходам между голубыми столами, время от времени сворачивая направо или налево. Инженеры поднимали головы на стук каблучков и провожали ее взглядом, но заговаривать с ней даже не пытались. Так она бродила минут десять, все больше отчаиваясь выбраться из этого зала. И наконец совершенно случайно (хотя доктор Хилэриус наверняка заявил бы, что она вышла на определенного человека, ориентируясь по намекам, воспринимаемым на подсознательном уровне) Эдипа натолкнулась на некоего Стэнли Котекса, юношу в бифокальных очках в тонкой металлической оправе, в сандалиях и в носках с аргайллским узором.[59] На первый взгляд он казался совсем мальчишкой, и даже не верилось, что такой юнец может здесь работать. Впрочем, в данный момент он и не работал, а лишь задумчиво рисовал толстым фломастером вот этот символ:

– Здравствуйте, – сказала Эдипа, пораженная таким совпадением. И, повинуясь внезапному импульсу, добавила: – Меня прислал Кирби. – Это имя было написано на стене в туалете, и она надеялась, что оно прозвучит заговорщицки, но вышло довольно глупо.
– Привет, – отозвался Стэнли Котекс, быстро спрятав в стол большой конверт, на котором рисовал. Закрыл ящик и, заметив гостевой значок, спросил: – Вы заблудились?
Эдипа понимала, что ничего не добьется, если напрямую спросит про символ. И поэтому ответила:
– Вообще-то я тут на экскурсии. Участвовала в собрании акционеров.
– У вас есть акции? – Он окинул ее беглым взглядом, подцепил ногой вращающийся стул у соседнего стола и подкатил к ней. – Садитесь. Вы можете влиять на политику компании, вносить предложения, от которых нельзя будет так просто отмахнуться?
– Да, – солгала Эдипа на всякий случай, чтобы посмотреть, что будет дальше.
– А не могли бы вы, – сказал Котекс, – заставить их отменить положение о патентах? Лично меня оно больше всего беспокоит.
– О патентах? – удивилась Эдипа.
Котекс объяснил, что каждый инженер, подписывая контракт с «Йойодином», отказывается от патентных прав на любое изобретение, сделанное им во время работы в компании.
– Это душит творческое начало в каждом настоящем инженере, – с горечью произнес Котекс, – где бы он ни работал.
– А мне казалось, что сейчас уже нет изобретателей, – сказала Эдипа, чувствуя, что это подстегнет его на дальнейшие откровения. – Таких, как Томас Эдисон, например. Сейчас ведь все основано на коллективном труде, верно? – Утром Кровавый Чиклитц в своей приветственной речи особо подчеркнул значение коллективной работы.
– Коллективный труд, – проворчал Котекс, – так это теперь называется, да. На самом деле это способ избежать ответственности. Симптом вырождения современного общества.
– Боже мой, – воскликнула Эдипа, – вам, наверное, запрещено вести такие разговоры.
Оглядевшись по сторонам, Котекс придвинул свой стул ближе к Эдипе.
– Вы слышали о машине Нефастиса? – Эдипа округлила глаза. – Ее изобрел Джон Нефастис, он сейчас работает в Беркли.[60] Джон – самый настоящий изобретатель. Вот. У меня есть ксерокопия патента. – Он вытащил из стола несколько листов: на одном из них был изображен ящичек с портретом бородатого викторианца на стенке, а внутри ящичка располагались два поршня, соединенные с коленчатым валом и маховым колесом.
– Кто этот бородач? – поинтересовалась Эдипа.
Джеймс Кларк Максвелл,[61] пояснил Котекс, знаменитый шотландский ученый, который постулировал существование крошечного разумного существа, известного как демон Максвелла. Демон, сидящий в ящике среди молекул воздуха, которые движутся с различной скоростью, способен отделять быстрые молекулы от медленных. Быстрые молекулы обладают большей энергией, чем медленные. Сконцентрировав достаточное количество быстрых молекул водном месте, вы получите область с высокой температурой. И тогда перепад температур между этой горячей и холодной областью в ящике можно использовать, чтобы привести в движение тепловой двигатель. Поскольку демон ничего не делает, а только сортирует молекулы, то вы не производите никакой реальной работы в этой системе. Тем самым нарушаете Второе начало термодинамики,[62] получая нечто из ничего, и создаете вечный двигатель.
– Разве сортировка не работа? – удивилась Эдипа. – Скажите это кому-нибудь на почте, и вас тут же сунут в посылочный ящик, отправят в Фэрбенкс, штат Аляска, и забудут прилепить этикетку «Не кантовать».
– Сортировка – это умственная работа, – возразил Котекс, – а я имею в виду работу в термодинамическом смысле. – И продолжил рассказ о машине Нефастиса. В ней используется самый что ни на есть настоящий демон Максвелла, и надо лишь, пристально глядя на фото Джеймса Максвелла, сконцентрировать мысль на одном из цилиндров – правом или левом, и тогда демон именно в этом цилиндре поднимет температуру. При нагревании воздух расширится и надавит на поршень. Судя по всему, лучше всего действует известная фотография Максвелла, на которой он изображен в профиль и которая часто встречается в изданиях Общества по распространению христианского учения.[63]
Стараясь не поворачивать голову, Эдипа за темными очками осторожно повела взглядом по сторонам. Никто не обращал на них внимания: мерно гудели кондиционеры, стрекотали принтеры компании IBM, поскрипывали вращающиеся стулья, захлопывались толстые справочники, шуршали светокопии чертежей, а высоко под самым потолком ярко светили длинные флуоресцентные лампы – в «Йойодине» все было в норме. И только в том месте, где сейчас сидела Эдипа Маас, любой из тысячи сотрудников мог соприкоснуться с безумием.
– Разумеется, далеко не каждый способен заставить работать эту машину, – продолжал вещать Котекс, увлекшись любимой темой. – Только люди, обладающие даром. «Чувствительные», как их называет Джон.
Эдипа опустила очки на кончик носа и захлопала ресницами, надеясь кокетством замаскировать свое любопытство:
– Как по-вашему, я достаточно чувствительная?
– Хотите попробовать? Можете написать Джону. Он знает лишь пару человек, обладающих особым чутьем. И возможно, даст вам шанс испытать себя.
Эдипа вынула записную книжку и открыла ее на странице, где был скопирован символ и сделана приписка: «Должна ли я проецировать Вселенную?»
– Ящик номер пятьсот семьдесят три, – сказал Стэнли.
– В Беркли?
– Нет. – Голос прозвучал неожиданно резко, и Эдипа недоуменно взглянула на Котекса, который, словно по инерции, успел добавить: – В Сан-Франциско, там нет… – И только тут поняв, что совершил ошибку, пробормотал: – Он живет где-то возле Телеграф-стрит. Я перепутал адрес.
Эдипа решила воспользоваться его оплошностью:
– Значит, адрес ПОТЕРИ не действует. – Она произнесла ПОТЕРИ как слово «потери». Лицо Котекса застыло, словно маска недоверия.
– Надо говорить П. О. Т. Е. Р. И., – поправил он. – Это сокращение, а не «потери», и вообще лучше не будем об этом.
– Я видела это слово в женском туалете, – призналась Эдипа. Но Стэнли Котекс больше не желал откровенничать.
– Забудьте о нем, – посоветовал он и, открыв книгу, сделал вид, что не замечает Эдипу.
Однако Эдипа вовсе не собиралась ни о чем забывать. Она могла поспорить, что в конверте, на котором Котекс машинально рисовал рожок, постепенно становившийся для Эдипы символом ПОТЕРИ, было послание от Джона Нефастиса. Или от такого же таинственного корреспондента. Стать такой подозрительной ее заставил не кто-нибудь, а Майк Фаллопян, член Общества Жирного Питера.
– Этот Котекс наверняка член какой-то подпольной группировки, – сказал Фаллопян, когда они встретились несколько дней спустя, – группы людей, которые, судя по всему, имеют психические отклонения. Но, с другой стороны, стоит ли их обвинять в том, что они несколько ожесточились? Ведь как все происходит. В школе им, как и нам, пудрили мозги Мифом о Великом американском изобретателе: Морзе изобрел телеграф, Белл изобрел телефон, Эдисон изобрел электрическую лампочку, Том Свифт[64] изобрел то да се. У каждого изобретения один автор. Ребята подрастают, находят работу, и тут им приходится письменно отказаться от всех своих прав в пользу такого монстра, как «Йойодин»; их подключают к какому-нибудь «проекту», включают в «группу по решению задачи» или в «команду» и тем самым низводят до уровня полной анонимности. Никто и не требует от них изобретений – только выполнения скромной роли в конструкторском ритуале, подробно расписанном в каком-нибудь руководстве проектировщика. Как, по-вашему, можно чувствовать себя в этом кошмаре? Разумеется, они стараются как-то общаться, поддерживать друг с другом связь. Себе подобных они узнают сразу, при первой же встрече. Может, такая встреча случается раз в пять лет, но они все равно мгновенно чувствуют друг друга.
Метцгер, который в тот вечер тоже пришел в «Предел», был не прочь поспорить.
– Вы все настолько правые, что ничем не лучше левых, – возразил он. – Как вы можете выступать против корпорации, которая вынуждает сотрудника отказаться от патентных прав? На мой взгляд, приятель, это сильно смахивает на теорию прибавочной стоимости, да и говорите вы как марксист.
Чем пьянее они становились, тем бессвязнее делался их типично южнокалифорнийский треп. Эдипа пребывала в мрачном расположении духа и в спор не ввязывалась. В «Предел» она пришла не столько из-за встречи со Стэнли Котексом, сколько из-за прочих откровений: ей чудилось, будто уже начинает прорисовываться некая структура, связанная с доставкой почты.
На дальнем берегу озера в районе Лагун Фангосо была установлена бронзовая мемориальная табличка, надпись на которой гласила: «5 этом месте в 1853 году десяток служащих компании «Уэллс, Фарго»[65] отважно сражались с бандой мародеров в масках и в таинственной черной форме. Об этом стало известно со слов почтового курьера, который был единственным свидетелем бойни и умер вскоре после этого события. Подтверждением его слов был лишь крест, начертанный на земле одним из погибших. И по сей день личности жестоких убийц окутаны тайной».
Крест? Или заглавная буква «Т»? Что-то в этом Роде пробормотал Никколо в «Трагедии курьера».
Эдипа задумалась. Потом из телефона-автомата позвонила Рэндолфу Дриблетту, чтобы выяснить, известно ли ему об этом сражении служащих «Уэллс, Фарго» и не потому ли он решил одеть своих головорезов во все черное. Никто не подходил, гудки падали в пустоту. Эдипа повесила трубку и направилась в книжную лавку Цапфа. Цапф лично вышел из тусклого конуса света от 15-ваттовой лампочки, чтобы помочь Эдипе найти упомянутый Дриблеттом сборник в бумажной обложке «Якобитские пьесы о мести».
– Последнее время эта книга пользуется большим спросом, – сообщил Цапф. В тусклом свете с обложки зловеще скалился череп.
Цапф имел в виду только Дриблетта? Эдипа уже было открыла рот, чтобы задать этот вопрос, но промолчала. Это был первый, но отнюдь не последний момент нерешительности.
Метцгер на день уехал в Лос-Анджелес по делам, и Эдипа, вернувшись в мотель «Эхо», первым делом отыскала в пьесе единственное упоминание слова Тристеро. На полях напротив этой строки была карандашная пометка: «Ср. вариант в изд. 1687 г.». Наверное, какой-нибудь студент сделал. Эдипа воодушевилась. Возможно, другой вариант прольет свет на темный смысл этого слова. В кратком предисловии сообщалось, что текст перепечатан с недатированного издания ин-фолио. Автор предисловия, как ни странно, указан не был. Эдипа посмотрела на титульную страницу и обнаружила, что первоначально эта книга как учебное пособие под заглавием «Пьесы Форда, Уэбстера, Торнера и Уорфингера»[66] была выпущена в 1957 году в твердом переплете издательством «Аналой» в Беркли, Калифорния. Она налила себе полстакана «Джека Дэниэлса» («Параноики» накануне оставили очередную бутылку) и позвонила в центральную библиотеку Лос-Анджелеса. Издания в твердом переплете там не оказалось, и ей предложили заказать книгу по межбиблиотечному абонементу. «Погодите, – вдруг сообразила Эдипа, – издательство находится в Беркли, так что я, пожалуй, попробую обратиться прямо туда». Заодно можно будет познакомиться с Джоном Нефастисом.
Мемориальную табличку она заметила только потому, что однажды специально вернулась на озеро Инверэрити, повинуясь, если можно так выразиться, зову или растущему желанию «посвятить часть себя» – пусть даже эта часть была лишь ее присутствием – разнообразным делам, оставшимся после Инверэрити. Ей хотелось привести их в порядок, создать созвездия смыслов. И поэтому на следующий день Эдипа поехала в «Вечернюю звезду», дом престарелых, который Инверэрити основал примерно в то же время, когда «Йойодин» перебазировался в Сан-Нарцисо. Она вошла в комнату отдыха, освещенную ярким солнечным светом, который лился, казалось, из каждого окна; перед мутным экраном телевизора, по которому шел мультфильм Леона Шлезингера,[67] клевал носом старик; по его розоватому перхотному пробору, похожему на высохшее русло реки, ползала черная муха. В комнату вбежала толстая медсестра с баллончиком мушиного яда и заорала, требуя, чтобы муха слетела, дабы ее можно было убить. Хитрое насекомое осталось на месте. «Ты мешаешь мистеру Тоту», – рявкнула на муху медсестра. Мистер Тот, просыпаясь, дернулся и стряхнул муху, которая отчаянно метнулась к двери. Медсестра бросилась за ней, пшикая ядом.
– Здравствуйте, – сказала Эдипа.
– Мне приснился мой дед, – поведал ей мистер Тот. – Я запомнил его глубоким стариком, таким же, как я теперь. А мне уже девяносто один. В детстве мне казалось, что ему всю жизнь был девяносто один год. А теперь, – он засмеялся, – мне кажется, будто я сам всю жизнь был девяностолетним стариком. А какие истории он рассказывал, вспоминая, как служил почтальоном «Пони Экспресс»[68] во времена золотой лихорадки. Помнится, его лошадку звали Адольф.
Эдипа, сразу вспомнившая о бронзовой табличке, навострила уши, изобразила на лице самую что ни на есть ласковую улыбку любящей внучки и спросила:
– А ему доводилось сражаться с бандитами?
– Старик был суровым малым, – сказал мистер Тот, – грозой индейцев. Бог ты мой, да у него слюнки текли, когда он рассказывал о том, как убивал индейцев. Видно, ему очень нравилось это занятие.
– И каким вы видели его в вашем сне?
– А, вот вы о чем, – как-то смущенно произнес старик. – Сон был вперемежку с мультиком о Хрюше. – И махнул в сторону телевизора. – Так и лезет в каждый сон. Поганый ящик. А вы видели серию о Хрюше и анархисте?
– Нет, – сказала Эдипа, хотя на самом деле видела.
– Анархист одет во все черное. В темноте видны только его глаза. Дело происходит в тридцатые годы. Хрюша был еще совсем маленьким. А теперь, как мне сказали детки, у него есть племянник Цицерон. Помните, как во время войны Хрюша работал на оборонном заводе? Вместе с Кроликом Багсом?[69] Славный был мультик.
– Одет во все черное, – подсказала Эдипа.
– Там еще были индейцы, – с трудом вспомнил старик, – в этом самом сне. Индейцы с черными перьями, но не настоящие индейцы. Дед мне рассказывал. Перья были черными, потому что эти лжеиндейцы жгли кости и потом этим углем красили перья в черный цвет. Белые перья были бы заметны в темноте. Они нападали по ночам. Поэтому-то мой дед – благослови его Бог – и догадался, что они не были настоящими индейцами. Индейцы никогда не нападали в темноте – они верили, что душа человека, погибшего ночью, будет вечно бродить во мраке. Язычники.
– Но если те люди не были индейцами, – спросила Эдипа, – тогда кем они были?
– Какое-то испанское название, – сказал мистер Тот, морща лоб, – или мексиканское. Не помню. Может, оно написано на кольце? – Он наклонился к мешочку с вязальными принадлежностями, стоявшему возле стула, извлек оттуда моток синей пряжи, иголки, узоры и наконец тускловатое золотое кольцо-печатку. – Дед отрезал палец с этим кольцом у одного из убитых. Представляете, каким жестоким был этот девяностолетний старик?
Эдипа обомлела: на кольце был изображен символ ПОТЕРИ.
Внезапно испугавшись солнечного света, лившегося во все окна, она огляделась по сторонам, ощущая себя как бы в центре многогранного кристалла, и произнесла:
– Боже мой.
– В определенные дни, при определенной температуре и атмосферном давлении я ощущаю его присутствие, – сказал мистер Тот. – Понимаете? Чувствую, что он рядом.
– Ваш дедушка?
– Нет, мой Бог.
И Эдипа отправилась к Фаллопяну, который наверняка мог многое рассказать о «Пони Экспресс» и «Уэллс, Фарго и K°», раз уж пишет о них книгу. Об этих компаниях он, разумеется, знал, но ничего не слышал об их таинственных противниках.
– Конечно, – сказал он, – до меня дошли кое-какие намеки. Я послал запрос в Сакраменто об этой мемориальной табличке, и они уже несколько месяцев мурыжат его в своем бюрократическом болоте. Может, однажды пришлют ответ с указанием источника, в котором можно об этом прочитать. А там, как всегда, будет написано: «Старожилы помнят рассказы об этом событии» – и весь сказ. Старожилы. Подлинные свидетели истории Калифорнии.
Правда, автор, скорее всего, давно умер. Невозможно проследить истинный ход событий, разве что попробовать сопоставить случайные сведения – вроде тех, что вы выудили из старика.
– Думаете, здесь действительно есть какая-то связь? – Эдипа подумала о том, насколько тонка и непрочна эта связь, словно длинный седой волос между столетиями. Два дряхлых старика. И на пути к истине – изношенные клетки мозга.
– Бандиты, ни имен, ни лиц, одеты в черное. Вероятно, их наняло федеральное правительство. Любые попытки противодействия жестоко подавлялись.
– А не могла это быть конкурирующая почтовая компания?
Фаллопян пожал плечами. Эдипа показала ему символ ПОТЕРИ, но он снова пожал плечами.
– Майк, это было нарисовано в женском туалете в «Пределе».
– Женщины, – изрек он. – Кто разберет, что у них на уме.
Если бы Эдипа догадалась сверить пару строк в пьесе Уорфишера, то могла бы сама сделать следующий вывод. А так ей пришлось прибегнуть к помощи некоего Чингиза Коэна, самого известного филателиста Лос-Анджелеса и всей округи. За процент от причитающейся ему суммы Метцгер, действуя в соответствии с завещанием, нанял этого добродушного и немного гнусавого эксперта для составления описи и оценки коллекции марок Инверэрити.
Как-то дождливым утром, когда над бассейном висела дымка, Метцгер опять уехал по делам, а «Параноики» записывали свой альбом, Эдипе позвонил Чингиз Коэн, который был явно чем-то обеспокоен, что чувствовалось даже по телефону.
– Возникли некоторые сложности, миссис Маас, – сказал он. – Не могли бы вы ко мне заехать?
Ведя машину по скользкому шоссе, Эдипа почему-то нисколько не сомневалась, что эти «сложности» так или иначе связаны со словом Тристеро. Неделю назад Метцгер забрал альбомы с марками из банковской ячейки и отвез их Коэну на Эдипиной «импале», и тогда Эдипа даже не подумала, что было бы интересно в них заглянуть. Но теперь ей вдруг пришло в голову – словно дождь нашептал, – что Коэн мог знать о частных почтовых компаниях то, чего не знал Фаллопян.
Войдя в квартиру – офис Коэна, она увидела его в обрамлении череды дверных проемов, уходящих в глубь анфилады комнат, направленной приблизительно в сторону Санта-Моники и освещенной лишь тусклым светом дождливого дня. У Чингиза Коэна, одетого в свитер в стиле Барри Голдуотера,[70] был легкий летний грипп, а ширинка наполовину расстегнута. Эдипа тут же прониклась к нему материнским чувством. Приблизительно в третьей по счету комнате анфилады он усадил ее в кресло-качалку и принес в изящных рюмочках настоящее домашнее вино из одуванчиков.
– Я собирал одуванчики на кладбище два года назад. Теперь этого кладбища нет. Его сровняли с землей и построили Восточную автостраду Сан-Нарцисо.
На данном этапе развития ситуации Эдипа улавливала сигналы вроде тех, которые, как говорят, ощущает эпилептик – какой-то запах, оттенок цвета, – пронзительно ясное, милостивое предупреждение о том, что сейчас с ним случится припадок. И после удара он помнит только этот сигнал, сухой знак мирского провозвестия, а все, что было явлено во время падучей, стирается из памяти. Возможно, подумала Эдипа, после всего этого (если это вообще когда-нибудь закончится) у нее останутся лишь скудные воспоминания о намеках, смутные указания, нашептывания, но не сама истина, которая, видимо, всякий раз оказывается слишком яркой, чтобы сохраниться в памяти, всегда сияет столь ослепительно, что уничтожает безвозвратно свое собственное послание, и по возвращении к обыденному существованию от нее остается сплошная чернота, как на засвеченном негативе. Эдипа сделала глоток вина, и в этот момент поняла, что никогда не узнает, сколько раз с ней уже случалось нечто вроде апоплексического удара, и не сможет удержать его в памяти, если он случится вновь. Может, он был секунду назад – как знать? Эдипа бросила взгляд на сумрачную анфиладу коэновских комнат и впервые осознала, как легко можно в них затеряться.
– Я взял на себя смелость, – говорил Чингиз Коэн, – и предварительно связался с Экспертной комиссией. Я еще не отправил им эти марки, поскольку сначала хотел бы получить разрешение от вас и, конечно, от мистера Метцгера. Гонорары экспертов, я уверен, можно будет выплатить после получения наследства.
– Боюсь, я не совсем понимаю, о чем идет речь, – сказала Эдипа.
– Позвольте… – Он подкатил маленький столик и аккуратно, с помощью пинцета, извлек из пластикового кармашка памятную марку США, выпущенную «Пони Экспресс» в 1940 году, стоимостью три цента, коричневатого цвета. Погашенную. – Взгляните, – предложил Коэн, включив яркую лампу, и протянул Эдипе продолговатую лупу.
– Это обратная сторона, – заметила она, когда он, слегка промокнув марку тампоном, смоченным бензином, положил ее на черный поднос.
– Водяной знак.
Эдипа всмотрелась в марку. И вновь увидела просвечивающий на черном фоне символ ПОТЕРИ, чуть смещенный вправо от центра.
– Что это? – наконец спросила она. Ей показалось, что прошло уже много времени.
– Не могу ничего утверждать с уверенностью, – сказал Коэн. – Поэтому я и обратился в комиссию с запросом относительно этой и других марок. Я показывал их нескольким друзьям, но все они высказываются очень осторожно. А что вы думаете вот об этом экземпляре? – Из того же пластикового кармашка он выудил пинцетом еще одну старинную марку – судя по всему немецкую – с цифрами 1/4 в центре, словом Freimarke[71] сверху и надписью «Thurn und Taxis» вдоль правого края.
– Это что-то вроде частной курьерской компании. – Эдипа вспомнила содержание пьесы Уорфингера. – Верно?
– Приблизительно с 1300 года и вплоть до 1867-го, когда Бисмарк выкупил эту компанию, миссис Маас, она обеспечивала почтовую связь в Европе. Это одна из немногих выпущенных ею клеящихся марок. Но взгляните на уголки. – Всмотревшись, Эдипа увидела в каждом из четырех углов марки рожок с одной петлей, почти такой же, как символ ПОТЕРИ. – Почтовый рожок, – сказал Коэн, – символ «Торн и Таксис». Он был изображен на их гербе.
«И рог безмолвный общего секрета», – вспомнила Эдипа. Точно. – А водяной знак, который вы обнаружили, изображает такой же рожок, только с какой-то затычкой на раструбе.
– Может, это смешно, – сказал Коэн, – но мне кажется, что это сурдинка.
Эдипа кивнула. Черные одеяния, молчание, таинственность. Кто бы ни были те злодеи, они хотели заглушить почтовый рожок «Торн и Таксис».
– Как правило, этот выпуск, да и остальные тоже, не имеют водяных знаков, – заметил Коэн, – а если посмотреть на другие детали – гравировку, количество зубчиков, старение бумаги, – то становится очевидным, что перед нами подделка. А не просто ошибка.
– Значит, эта марка ничего не стоит? Коэн улыбнулся и прочистил нос.
– Вы удивитесь, узнав, как дорого можно продать хорошую подделку. Некоторые коллекционеры специализируются на фальшивках. Вопрос в другом: кто подделал марки? Да еще с такими грубыми ошибками. – Он перевернул марку и, подцепив пинцетом, показал Эдипе. На марке был изображен всадник «Пони Экспресс», выезжающий из форта. Из кустов с правой стороны, в сторону которых, по всей видимости, и направлялся всадник, торчало тщательно выгравированное черное перо. – Зачем делать такой явный ляп? – спросил Коэн, не обращая внимания на выражение Эдипиного лица, если он вообще его заметил. – Я обнаружил уже восемь таких марок. В каждой та же самая ошибка, старательно вставленная в рисунок, словно насмешка. Да еще ко всему прочему опечатка – «Путча США».
– Какого она года? – выпалила Эдипа взволнованнее и громче, чем следовало.
– Что-то не так, миссис Маас?
Она рассказала ему о письме Мачо и о штемпеле с просьбой сообщать «путчмейстеру» обо всех непристойных посланиях.
– Действительно, странно, – согласился Коэн. – Такая перестановка букв, – он заглянул в записную книжку, – встречается только на четырехцентовом Линкольне. Очередной выпуск 1954 года. Остальные подделки датируются 1893 годом.
– Больше семидесяти лет, – сказала Эдипа. – Фальсификатор должен быть очень старым.
– Если это та же самая подделка, – возразил Коэн. – А что если эта традиция возникла вместе с «Торн и Таксис»? Изгнанный из Милана Омедио Тассис организовал первую курьерскую службу в окрестностях Бергамо примерно в 1290 году.
Пораженные внезапно открывшейся возможностью, они умолкли, слушая, как дождь стучит в окна и барабанит по стеклянной крыше.
– Вы знаете подобные случаи? – на всякий случай спросила Эдипа.
– Случаи восьмисотлетней традиции подделки почтовых марок? Никогда не слышал.
Эдипа рассказала о кольце с печаткой мистера Тота, о рожке с сурдинкой, который машинально рисовал Стэнли Котекс, и о таком же рисунке в женском туалете в «Пределе».
– Кто бы за этим ни стоял, – констатировал очевидное Коэн, – они, судя по всему, весьма активны.
– Стоит сообщить о них властям или нет?
– Уверен, власти знают больше, чем мы. – Голос Коэна нервно дрогнул, будто филателиста что-то вдруг смутило. – Нет, я бы не стал этого делать. Да и не наша это забота, верно?
Эдипа спросила его о сокращении П. О. Т. Е. Р. И., но было уже слишком поздно. Она упустила момент. Коэн сказал, что ничего не знает, но как-то слишком поспешно, словно упреждая дальнейшие расспросы, – вполне возможно, солгал. И подлил ей вина из одуванчиков.
– Сейчас вино стало прозрачнее, – произнес он довольно холодным тоном. – Несколько месяцев назад он помутнело. Дело в том, что весной, когда зацветают одуванчики, вино вновь начинает бродить. Будто цветы, из которых оно сделано, вспоминают былое.
Нет, печально подумала Эдипа. Им кажется, будто кладбище, где они выросли, все еще существует и по нему можно бродить, и нет нужды в Восточной автостраде, и кости умерших покоятся в мире, питая призраки одуванчиков, которым ничто не угрожает. Будто мертвые действительно продолжают существовать хотя бы в бутылке вина.
Несмотря на то что следующим шагом должна была стать повторная встреча с Дриблеттом, Эдипа вместо этого решила съездить в Беркли. Ей хотелось выяснить, откуда Ричард Уорфингер почерпнул информацию о Тристеро. Ну и, возможно, взглянуть, как изобретатель Джон Нефастис получает почту.
Метцгер, как и Мачо в момент ее отъезда из Киннерета, в отчаяние не впадал. Двигаясь на север, в Беркли, она размышляла о том, что лучше: заехать домой по дороге или на обратном пути. Но потом оказалось, что она пропустила поворот на Киннерет, и все решилось само собой. Ровно урча мотором, она прокатилась по восточному берегу залива, в скором времени въехала на холмы Беркли и около полуночи добралась до раскидистого многоэтажного отеля в барочно-немецком стиле – с темно-зелеными коврами, плавно поворачивающими коридорами и узорчатыми канделябрами. «Добро пожаловать на съезд Калифорнийского отделения Американского общества глухонемых», – гласила вывеска в холле. Отель был пугающе ярко освещен, и во всем здании висела тяжелая, давящая тишина. Дремавший за конторкой портье выкатил на нее глаза и принялся подавать знаки на языке глухонемых. Эдипу подмывало показать ему средний палец и посмотреть, что получится. Однако она прошла прямо вперед, и тут же на нее навалилась глубокая усталость. Портье провел ее в комнату, украшенную репродукцией картины Ремедиос Варо, – плавные извивы абсолютно безмолвных коридоров напоминали улицы Сан-Нарцисо. Заснула она почти мгновенно, но тут же пробудилась, так как в зеркале напротив кровати ей почудился какой-то кошмар. Нет, ничего особенного, просто показалось, ничего она там не увидела. Когда Эдипа наконец крепко заснула, то во сне увидела своего мужа Мачо; они занимались любовью на теплом и тихом пляже, каких она в Калифорнии никогда не встречала. Проснувшись утром, она обнаружила, что сидит на кровати, прямая как стрела, и тупо рассматривает в зеркале свое изможденное лицо.
Издательство «Аналой» она отыскала в маленьком офисе на Шеггак-авеню. Книги «Пьесы Форда, Уэбстера, Турнера и Уорфингера» в наличии не оказалось, но, выдав чек на 12 долларов 50 центов, Эдипа получила адрес склада в Окленде и квитанцию об оплате, чтобы показать тамошним сотрудникам. Книгу она приобрела только в середине дня. Быстро пролистав фолиант, нашла строки, которые мучили ее все это время. И застыла под пробивающимся сквозь листву солнцем.
Отступят звезды, не спасет и вера, – гласил текст. – От Анжело безжалостных курьеров.
– Нет, – запротестовала Эдипа вслух. – От той химеры, что зовут Тристеро. – В карандашной пометке на экземпляре Дриблетта упоминалось о каких-то вариантах. Но предполагалось, что его экземпляр – точная перепечатка из книги, которую она Держала в руках. Заинтригованная Эдипа обнаружила, что в ее томе имеется примечание:
Эта строка есть только в издании ин-кварто (1687 г.). В издании ин-фолио, вышедшем ранее, заключительная строка опущена. Д'Амико считает, что Уорфингер, вероятно, дерзко намекнул на некоего высокопоставленного придворного и что последующая «реконструкция» на самом деле была работой печатника Иниго Барфстэйбла. Сомнительная Уайтчепеловская[72] версия (ок. 1670 г.) дает вариант «Задиру победят три старых изувера», который, помимо того что вводит тяжеловесный александрийский стих, синтаксически едва ли имеет смысл, если не принимать во внимание весьма неортодоксальный, но убедительный аргумент Дж.-К. Сэйла, рассматривающего эту строку как каламбур или анаграмму, скрывающую слова «тристеро dies irae[73]». Тем не менее следует отметить, что даже при таком толковании достоверность строки остается под большим вопросом, поскольку мы не знаем точного значения слова тристеро и можем лишь предполагать, что это псевдоитальянское производное от triste («негодный», «испорченный»). Кроме того, Уайтчепеловское издание – это лишь фрагмент, который – как мы уже неоднократно указывали – содержит столько грубых ошибок и искажений, что вряд ли ему можно доверять.
Откуда же взялась строка о Тристеро в экземпляре Цапфа, недоумевала Эдипа. Может, было еще одно издание помимо ин-кварто, ин-фолио и Уайтчепеловского фрагмента? В предисловии, которое, как на сей раз было указано, написал профессор английской литературы Калифорнийского университета Эмори Бортц, об этом не упоминалось. Эдипа потратила целый час, просматривая все сноски, и ничего не нашла.
– Черт бы его побрал, – крикнула она, завела машину и поехала в Беркли искать профессора Бортца.
Она забыла взглянуть на дату выхода книги – 1957 год. Иной мир. На кафедре английской литературы ассистентка сообщила Эдипе, что профессор Бортц у них больше не работает. Он преподает в колледже Сан-Нарцисо, штат Калифорния.
Ну, разумеется, криво усмехнулась Эдипа, где же еще. Она записала адрес и уехала, пытаясь вспомнить фирму, переиздавшую пьесу. Не смогла.
Была середина летнего буднего дня. Во всех знакомых Эдипе университетах в такое время было пусто – но только не в этом. Она съехала вниз по склону от Уилер-Холл и через Сатер Гейт въехала на площадь, заполненную бриджами, джинсами, голыми ногами, светлыми волосами, очками в роговой оправе, блестящими на солнце велосипедными спицами, сумками с книгами, хлипкими столиками, свисающими до земли подписными листами, плавающим в фонтане мусором, плакатами с не поддающимися расшифровке аббревиатурами ФСМ, ЯАФ, ВДС и болтающими нос к носу студентами. Она двигалась между ними со своей инкунабулой, загадочная, пугливая и отчужденная; она желала стать к ним ближе, но понимала, что поиски в альтернативных вселенных могут занять слишком много времени. Учеба Эдипы пришлась на те годы, когда равнодушие, подозрительность и национальная склонность к определенного вида патологии, которую можно было излечить только смертью, распространились не только на студентов, но и на те сферы деятельности, в которых им предстояло работать, и Беркли в этом отношении совсем не походил на тихий и сонный колледж из ее прошлого; скорее, он был сродни тем восточным или латиноамериканским университетам, о которых ей доводилось читать, – об этих очагах особой и автономной культуры, где сомневаются даже в самых обожаемых кумирах, приветствуются самые резкие разногласия, а из многих возможностей предпочтение отдается смертельно опасным доктринам – вот где кроется угроза для правительства. Впрочем, пересекая шоссе Бэнкрофт вместе со светловолосыми подростками на урчащих «хондах» и «судзуки», она слышала только английский язык – американский английский. Но где были секретарь Джеймс,[74] секретарь Фостер и сенатор Джозеф, эти милые слабоумные боги-покровители, опекавшие умеренную молодость Эдипы? В ином мире. На параллельных рельсах иных жизненных путей, повернувших по иной цепочке принятых решений в глухие, тупиковые ветки, куда завели их всех безликие стрелочники, вместе с одинокими и забытыми, с каторжниками и беглецами от сыщиков, с психопатами, наркоманами, алкоголиками и фанатиками, среди вымышленных имен и мертвецов, которых уже никому не найти. Именно эта среда превратила юную Эдипу в поистине редкое создание, равнодушное к маршам протеста и сидячим забастовкам, но весьма искусное в изучении странных слов якобитских текстов.
Где-то на серой полосе Телеграф-авеню она остановилась заправить «импалу» и нашла в телефонной книге адрес Джона Нефастиса. Затем добралась до многоквартирного дома в псевдомексиканском стиле, отыскала его имя на почтовом ящике, поднялась по ступенькам, прошла по коридору с занавешенными окнами и оказалась перед дверью его квартиры. Стрижка ежиком, на вид такой же юнец, как Котекс, только рубашка времен администрации Трумэна[75] и расцвечена разнообразными полинезийскими сюжетами.
Представившись, Эдипа сослалась на Стэнли Котекса.
– Он говорил, что вы можете определить, есть у меня «особое чутье» или нет.
Нефастис смотрел телевизор, где группа детей плясала что-то вроде ватуси.
– Люблю смотреть на молодежь, – объяснил он. – В малышках этого возраста что-то есть.
– Мой муж тоже так считает, – сказала Эдипа. – Я понимаю.
Джон Нефастис зыркнул на нее с симпатией и выволок из рабочей комнаты свою Машину. Вид ее примерно соответствовал описанию.
– Знаете, как она работает?
– Стэнли рассказывал – в общих чертах.
После этого Нефастис пустился в путаные рассуждения о понятии, именуемом «энтропия». Это слово волновало его так же, как Эдипу тревожило слово тристеро. Но его рассуждения оказались для нее слишком сложными. Ей удалось уловить, что существует два различных вида энтропии. Один имеет отношение к тепловым двигателям, другой относится к коммуникации. Еще в 30-х годах выяснилось, что уравнения для одного вида очень похожи на уравнения для другого. Но это было лишь совпадение. Оба вида связывало только одно: демон Максвелла. Когда демон сортирует молекулы на горячие и холодные, то говорят, что система утрачивает энтропию. Но потери каким-то образом компенсируются информацией о размещении молекул, которую накапливает демон.
– Коммуникация – вот ключ ко всему, – кричал Нефастис – Демон передает данные человеку с «особым чутьем», который должен реагировать соответствующим образом. В этом ящике бессчетные миллиарды молекул. Демон собирает данные о них всех. И передает информацию о них на каком-то глубинном психическом уровне. Реципиент должен получить ошеломляющее количество энергии и выдать в ответ примерно такое же количество информации. И этот процесс – циклический. Внешне все сводится к тому, что поршень приходит в движение.
И каждое движение, каждый квант энергии потихоньку разрушает огромный массив накопленной информации.
– На помощь, – взмолилась Эдипа. – Мне за вами не угнаться.
– Энтропия – это всего лишь фигура речи, – вздохнул Нефастис – Метафора. Она связывает мир термодинамики с миром информационных потоков. В Машине задействованы оба. Демон переводит метафору из разряда изящной словесности в разряд объективной истины.
– А что, если, – начала Эдипа, чувствуя себя в некотором роде еретичкой, – что, если демон существует только потому, что уравнения похожи? Из-за метафоры.
Нефастис улыбнулся – непробиваемый, спокойный, глубоко убежденный.
– Он был открыт Кларком Максвеллом задолго до возникновения метафоры.
Неужели Кларк Максвелл столь же фанатично веровал в реальность своего демона? Эдипа приглядывалась к портрету на стенке ящика. Кларк Максвелл был изображен в профиль и на взгляды Эдипы не отвечал. Лоб у него был высокий и гладкий, а на затылке имелась забавная шишка, прикрытая курчавыми волосами. Единственный видимый на картине глаз смотрел снисходительно и лукаво, но Эдипа сразу почувствовала, какие мучительные полуночные сомнения и творческие кризисы могли таиться в глубоких складках около тонкого рта, скрытого под окладистой бородой.
– Смотрите на портрет, – велел Нефастис, – и сосредоточьтесь на цилиндре. Не волнуйтесь. Если вы обладаете особым чутьем, то сами поймете, на каком именно. Откройте свой разум и будьте готовы принять послание демона. Я скоро приду.
И вернулся к телевизору, где теперь показывали мультики. Эдипа терпеливо просидела две серии про Медвежонка Йога, серию про Магиллу Гориллу и мультик про Питера Потамуса,[76] глядя на загадочный профиль Кларка Максвелла и ожидая сеанса связи с демоном.
Ты здесь, малыш, спрашивала Эдипа, или Нефастис просто ломает комедию? Ответ она могла получить не раньше чем шевельнется поршень. Руки Кларка Максвелла целиком на фотографии не поместились. Возможно, он держал книгу. Он вглядывался вдаль, в туманную перспективу викторианской Англии, чей свет уже навсегда погас. Сомнения Эдипы росли. Ей почудилось, что Максвелл едва-едва, вот сейчас, совсем чуть-чуть улыбнулся себе в бороду. Выражение глаза определенно изменилось…
Вот, вот. Что там такое на самом верху? Показалось, или поршень с правой стороны самую малость сдвинулся? Прямо взглянуть она не решалась: инструкции обязывали не отводить глаз от Кларка Максвелла. Минуты текли, поршни застыли на местах, как примерзли. Из телевизора неслись пронзительные визгливые голоса. Эдипа чувствовала только подергивание сетчатки – протест нервных клеток. Неужто люди с «особым чутьем» видят больше? Где-то в глубине души возник страх, который возрастал уже просто потому, что ничего не происходило. Нечего волноваться, заволновалась Эдипа; Нефастис – псих, плюнь на него, обычный псих. И «особое чутье» есть у тех, кто галлюцинирует вместе с ним, вот и все.
А здорово было бы приобщиться. Она мучилась еще минут пятнадцать, повторяя: кто бы ты ни был, если ты здесь, явись мне, ты мне нужен, явись. Но ничего не случилось.
– Простите, – крикнула она, с изумлением отметив, что ее голос срывается от разочарования. – Это бесполезно.
Нефастис подошел и положил руки ей на плечи.
– Все в порядке, – сказал он. – Не надо плакать. Ложитесь на кушетку. Сейчас начнутся новости. А это мы сумеем сделать и там.
– Это? – не поняла Эдипа. – Сделать это? Что?
– Совершить половой акт, – ответил Нефастис – Может, сегодня расскажут что-нибудь про Китай. Мне нравится заниматься этим, когда говорят про Вьетнам, но под Китай дело идет лучше всего. Мы думаем обо всех этих китайцах. Кишащих, размножающихся. Вот оно, изобилие жизни. Так ведь сексуальнее, правда?
Эдипа вскрикнула и бросилась бежать. Нефастис топотал за ней через темные комнаты, прищелкивая пальцами «догоню-догоню, цыпочка» – манера рехнувшегося хиппи, которую он, без сомнения, перенял из какой-нибудь телепередачи.
– Передай привет старине Стэнли, – кричал он, когда Эдипа семенила по ступенькам к выходу на улицу, прикрывала платком регистрационный номер и, визжа тормозами, выезжала на Телеграф-авеню. Она бездумно неслась куда глаза глядят, пока какой-то лихач на «мустанге» – возможно, преисполненный ощущения половой зрелости, которое давала ему новая машина, – едва не угробил беглянку, и тогда Эдипа вдруг осознала, что катит по автостраде, неотвратимо приближаясь к мосту через залив. Был час пик. Эдипа, полагавшая, что движение такой интенсивности может быть только в Лос-Анджелесе, пришла в ужас. Через несколько минут с верхней арки моста открылся вид на Сан-Франциско, и она увидела смог. Туман, поправила она себя, вот что это такое – туман. Откуда смог в Сан-Франциско? Смог, согласно народным поверьям, начинался дальше к югу. Должно быть, просто солнце светило под таким углом.
И вот на унылой, потной, сварливой и сияющей огнями американской автостраде Эдипа Маас задумалась над проблемой Тристеро. И все спокойствие Сан-Нарцисо с тихой водной гладью бассейна в мотеле и задумчивой созерцательностью жилых улочек, похожих на выровненные песочные дорожки в японском садике, менее располагало ее к размышлению, чем это бешеное шоссе.
Джон Нефастис (если взять последнее событие) считал, что сходство двух типов энтропии – термодинамического и информационного, – выраженных в виде математических уравнений, является чистой случайностью. Но с помощью демона Максвелла он сделал случай! roe совпадение представительным и значащим.
Теперь возьмем Эдипу, столкнувшуюся с метафорой, в которой Бог знает сколько значащих частей, – больше двух, по крайней мере. Для всех совпадений, которые в эти дни цвели пышным цветом всюду, куда ни глянь, у нее была лишь система Тристеро – слово, набор звуков, – чтобы связать их воедино.
Кое-что о ней Эдипа уже знала: система Тристеро противостояла почтовой монополии «Торн и Таксис» в Европе; засурдиненный почтовый рожок был ее символом; где-то к 1853 году она появилась в Америке, и ее адепты – либо под видом разбойников в черном, либо прикидываясь индейцами – боролись с компаниями «Пони Экспресс» и «Уэллс, Фарго»; кроме того, система Тристеро и сейчас существует в Калифорнии, служа каналом связи для людей с неортодоксальными сексуальными наклонностями, для изобретателей, верящих в реальность демона Максвелла, а также, возможно, для ее мужа Мачо Мааса (впрочем, она давно выбросила его письмо, и у Чингиза Коэна не было возможности изучить марку, так что, если она захочет узнать об этом наверняка, ей придется спросить Мачо прямо в лоб).
Может быть, система Тристеро существовала на самом деле, а может, была лишь фикцией – фантазией самой Эдипы, которая слишком зациклилась на имуществе недавно усопшего Пирса, и у нее от этого переклинило мозги. Здесь, в Сан-Франциско, вдалеке от активов Инверэрити, у Эдипы появился шанс пустить дело на самотек и тихо самоустраниться. Ей нужно было только побродить туда-сюда без всякой цели и убедиться, что ничего не происходит, что у нее просто расшатались нервы и психоаналитику не придется с ней долго возиться. Она свернула с автострады на Норт-Бич, сделала круг и в конце концов припарковалась на какой-то крутой улочке между складами. Затем вышла на Бродвей и затесалась в вечерний людской поток.
Однако не прошло и часа, как в глаза ей бросился засурдиненный почтовый рожок. Она неторопливо шла по улице, заполненной великовозрастными мальчиками в костюмах от Рус Эткинс, и набрела на группу туристов, шумно вывалившихся вместе с гидом из экскурсионного автобуса марки «фольксваген», чтобы осмотреть ночные заведения Сан-Франциско.
– Позвольте передать это вам, – шепнул голос ей в ухо, – поскольку я уже ушел. – И Эдипа обнаружила, что к ее груди ловко приколота большая светло-вишневая идентификационная бирка с надписью: «Привет! Меня зовут Арнольд Снарб! И я хочу провести время хорошо!» Эдипа оглянулась, увидела ангелоподобное личико, которое, подмигнув, скрылось за широкими плечами в полосатых рубашках, – и навсегда сгинул Арнольд Снарб, желающий провести время получше. Кто-то тренькнул в судейский свисток, и Эдипа осознала, что бредет в стаде обирченных граждан к бару с названием «Греческий путь». О нет, запаниковала Эдипа, не хочу на сходку пидоров, только этого не хватало, нет; около минуты она пыталась выбраться из людского моря, но потом вспомнила, что собиралась дрейфовать по воле волн.
– Итак, – произнес гид, темные струйки пота оставляли на его воротничке осьминожьи разводы, – сегодня вы увидите представителей третьего пола, голубое общество города, которым так славится прибрежный район. Для некоторых это будет впервые, и переживания могут оказаться несколько необычными, но тем не менее помните: не надо вести себя как полчище туристов. Будут приставать – не принимайте близко к сердцу, постарайтесь развлечься; это просто часть гомосексуальной ночной жизни, бурлящей здесь, на Норт-Бич. Можете выпить порцию-другую, но когда услышите свисток – значит, пора сматываться; сбор здесь. Будете вести себя хорошо – успеем сходить в «Финоккио».
Он дважды свистнул, и туристы с диким воплем атаковали бар, потащив с собой Эдипу. Когда все стихло, Эдипа оказалась внутри бара, недалеко от двери; в руке у нее был стакан с непонятной жидкостью, а сама она была прижата к высокому человеку в замшевом пиджаке. На лацкане у него она увидела не опознавательную бирку, а сделанную из какого-то бледно светящегося сплава изящную булавку в виде почтового рожка Тристеро. Сурдинка и все такое.
Ладно, сказала она себе. Ты проиграла. Это была смелая попытка, продлившаяся целый час. Теперь она должна была уйти и вернуться в Беркли, в отель. Но не смогла.
– А если я скажу, – обратилась она к владельцу булавки, – что я агент «Торн и Таксис»?
– А что это? – ответил он. – Театральное агентство? – У него были большие уши, остриженные по самый скальп волосы, прыщи и на удивление пустые глаза, коротко покосившиеся на Эдипину грудь. – Откуда вы выкопали такое имечко, Арнольд Снарб?
– Скажу, если вы ответите, откуда взяли эту булавку, – сказала Эдипа.
– Простите.
Эдипа попыталась его дожать.
– Если это некий гомосексуальный знак или что-то в таком роде, то меня это не волнует.
Глаза оставались пустыми.
– Я не гомик, – сказал он, – Но и к таким, как вы, не отношусь. – Повернулся к ней спиной и заказал выпивку.
Эдипа сняла бирку и бросила ее в пепельницу.
– Слушайте, – произнесла она как можно спокойнее, чтобы не сорваться в истерику, – вы должны мне помочь. Мне кажется, что я и в самом деле теряю голову.
– Тут я вам не компания, Арнольд. Поговорите со своим духовником.
– Я пользуюсь государственной почтой, потому что меня так учили, – объяснила Эдипа умоляющим тоном. – Но я вам не враг. И не хочу им становиться.
– А другом стать хотите? – Крутнувшись на стуле, он повернулся к ней лицом. – Хотите, Арнольд?
– Не знаю, – на всякий случай сказала Эдипа. Пустые глаза глядели на нее.
– А что вы вообще знаете?
И Эдипа рассказала ему все. Ничего не утаила. А что такого? К концу рассказа туристы усвистали, а собеседник докупил еще две порции выпивки к трем, купленным Эдипой.
– О Кирби я слышал, – сказал он. – Это кодовое имя, реального лица за ним нет. Но об остальном не знал – ни о вашем любителе китайцев, ни об этой тошнотной пьесе. Я и не думал, что тут целая история.
– А я только об этом и думаю, – пожаловалась Эдипа и слегка приуныла.
Собеседник поскреб щетину на голове.
– И вам больше некому все это рассказать. Нет никого, кроме незнакомого человека в баре.
Эдипа потупилась и отвела взгляд.
– Наверное, нет.
– Ни мужа, ни психоаналитика?
– Есть и тот и другой, – призналась Эдипа. – Но они не знают.
– Вы не решились им рассказать?
Эдипа на мгновение заглянула в пустоту его глаз и пожала плечами.
– Тогда я расскажу то, что знаю я, – решил он. – Эта булавка означает, что я состою в АА. То есть в обществе «Анонимные амурчики». Амурчиками мы называем влюбленных. Наихудшая из пагубных привычек.
– Значит, если кто-то влюбляется, – уточнила Эдипа, – вы приходите и сидите с ним, так, что ли?
– Именно. Смысл в том, чтобы клиент понял, что без влюбленности можно обойтись. Мне повезло. Я избавился от этого еще в молодости. Но – хотите верьте, хотите нет – есть мужчины и женщины лет шестидесяти и даже старше, которые просыпаются по ночам от собственных криков.
– Вы устраиваете собрания, как «Анонимные алкоголики»?
– Нет, разумеется, нет. Вы получаете номер контактного телефона. Никто не знает никаких имен – только номер, по которому можно позвонить, если дело пойдет настолько плохо, что вам не справиться в одиночку. Полная обособленность, Арнольд. Собрания сведут на нет все наши усилия.
– А как же те, кто приходит к вам? Что, если вы вдруг в кого-то влюбитесь?
– Они уходят, – ответил он, – и больше мы с ними никогда не встречаемся. Клиентов распределяет наша диспетчерская служба, и там очень тщательно следят, чтобы не было никаких повторов.
Откуда взялся почтовый рожок? Для этого надо вернуться к основанию общества. В начале шестидесятых некий чиновник йойодиновской компании, живший неподалеку от Лос-Анджелеса и занимавший в иерархии корпорации место выше инспектора, но ниже вице-президента, в возрасте тридцати девяти лет вдруг обнаружил, что в результате автоматизации остался без работы. Чиновник, получавший с семи лет жесткие эсхатологические инструкции о том, что он должен дослужиться до поста президента и умереть, и не умевший делать абсолютно ничего, кроме как ставить свою подпись на служебных записках, понять случившееся не мог, вину возлагал на ошибки в специализированных программах, возникшие по узко специальным причинам, которые ему должны были объяснить, и потому, естественно, первым делом подумал о самоубийстве. Но опыт работы сослужил ему добрую службу: он не умел принимать решения, не выслушав мнения комиссии. Он поместил в разделе частных объявлений «Лос-Анджелес Тайме» письмо, где спрашивал, могут ли те, кто попал в подобную ситуацию, привести веские причины не совершать самоубийства. Он трезво предположил, что самоубийцы не откликнутся и к нему автоматически попадет только ценная информация. Предположение оказалось ложным. Целую неделю он тревожно наблюдал за почтовым ящиком в маленький японский бинокль, который стал прощальным подарком жены (она бросила его на следующий день после того, как он получил уведомление об увольнении), но видел только обычные действия по регулярной доставке почты, приходившей ровно в полдень, а потом однажды настойчивый стук в дверь пробудил его от пьяного черно-белого сна, в котором он собирался прыгнуть с дымовой трубы в гущу уличного движения. Был поздний воскресный вечер. Чиновник открыл дверь и обнаружил за ней пожилого бродягу в вязаной кепчонке и с крючком вместо руки, который вручил ему пачку писем и ускакал, не сказав ни слова. Почти все письма были от самоубийц, либо потерпевших неудачу из-за собственной неловкости, либо в последнюю минуту струсивших. Однако ни один из них не сумел привести неопровержимых доводов в пользу продолжения жизни. Но чиновник все еще колебался; всю следующую неделю он выписывал в две колонки аргументы за и против того, чтобы свести счеты с жизнью. Выяснил, что без мощного импульса окончательное решение принять невозможно. Наконец в один прекрасный день он увидел на первой полосе «Тайме» аэрофотоснимок, переданный из Вьетнама, и статью о буддийском монахе, который сжег себя в знак протеста против политики американского правительства. «Круто!» – воскликнул чиновник. Он вышел в гараж, слил в канистру весь бензин из бензобака своего «бьюика», надел зеленый костюм-тройку от Захари, сунул все письма неудачливых самоубийц в карман пиджака, пошел на кухню, сел на пол и щедро полил себя бензином. Он уже было собрался в последний раз крутнуть колесико верной зажигалки Зиппо, которая прошла с ним через укрепления Нормандии, Арденны, Германию и вернулась в послевоенную Америку, но тут щелкнул замок входной двери, и он услышал голоса. Это была его жена с мужчиной, в котором он вскоре опознал влиятельного йойодиновского эксперта по научной организации труда, предложившего заменить бедолагу компьютером IBM 7094. Заинтригованный злой иронией судьбы, чиновник сидел на кухне и прислушивался, опустив галстук в бензиновую лужу наподобие фитиля. Из обрывков разговора он уловил, что эксперт желает заняться с его женой любовью на марокканском ковре в гостиной. Жена была не против. Чиновник слышал похотливые смешки, звук расстегиваемой молнии, стук падающих туфель, тяжелое сопение, стоны. Он вынул галстук из бензина и захихикал. Закрыл крышку зажигалки Зиппо. «Я вроде слышу какой-то смех», – сказала жена. «И бензином пахнет», – заметил эксперт. Держась за руки, они голышом проследовали на кухню. «Я тут думал состроить из себя буддийского монаха», – объяснил им уволенный чиновник. «И тебе потребовалось почти три недели, чтобы на это решиться? – изумился эксперт. – Знаешь, сколько бы это заняло у IBM 7094? Двенадцать микросекунд. Неудивительно, что тебя заменили машиной». Чиновник откинул голову и хохотал добрых десять минут, в течение которых жена с любовником испуганно ретировались, оделись и помчались вызывать полицию. Чиновник разделся, принял душ и повесил костюм на плечики сушиться. И вдруг заметил странную вещь. Марки на некоторых письмах, лежавших в кармане пиджака, стали практически совсем белыми. Он предположил, что бензин, видимо, растворяет типографскую краску. Лениво отдирая какую-то марку, чиновник неожиданно увидел изображение засурдиненного почтового рожка, ясно видимое на коже руки через водяной знак. «Знамение, – прошептал он, – вот что это такое». Если бы он был верующим, то упал бы на колени. Но в тот момент он лишь объявил с великой торжественностью: «Моей главной ошибкой была любовь. С этого дня я клянусь не поддаваться никакому виду любви: ни гетеро-, ни гомо-, ни бисексуальному, ни любви к животному, ни любви к машине – никакому. Я стану основателем общества противников любви и посвящу этому жизнь, а символ сей, появившийся благодаря тому же бензину, который чуть меня не уничтожил, станет нашей эмблемой». Так он и сделал.
– И где он сейчас? – спросила Эдипа, к тому времени уже довольно пьяная.
– Он анонимен, – ответил анонимный амурчик. – Напишите ему через свою систему. Скажем, так: «Основателю АА».
– Но я не знаю, как ее найти.
– Подумать только, – сказал он, тоже изрядно окосевший, – есть целое подполье неудачливых самоубийц. Все пользуются этой тайной почтовой системой. О чем же это они болтают между собой? – Он покачал головой, улыбнулся, сполз со стула и, спотыкаясь, двинулся через густую толпу в сортир – отлить. Назад не вернулся.
Эдипа сидела, чувствуя себя не только привычно одинокой, но и единственной женщиной в баре, заполненном пьяными педерастами. Вот история моей жизни, думала она. Мачо со мной не говорит, Хилэриус меня не слушает, Кларк Максвелл на меня даже не глянул, а эта компания вообще Бог знает что такое. И Эдипу охватило отчаяние, как всегда бывает, когда никто вокруг не подходит вам в сексуальном плане. Она улавливала направленный на нее целый спектр эмоций – от самой лютой ненависти (паренек лет двадцати, похожий на индейца, с заложенными за уши прилизанными волосами до плеч и в ковбойских сапогах с острыми носами) до холодного любопытства (тип в роговых очках, смахивающий на эсэсовца, который таращился на ее ноги, пытаясь понять, под кайфом она или нет), – и все эти эмоции не были ей приятны. Немного выждав, она поднялась, покинула «Греческий путь» и вновь оказалась в зараженном городе.
И весь остаток ночи натыкалась на изображение почтового рожка Тристеро. В китайском квартале ей показалось, что в темном окне лавки лечебных трав среди прочих идеограмм есть и этот знак. Но уличный фонарь светил слишком тускло. Позже на тротуаре она увидела два рожка Тристеро, начертанных мелом на расстоянии двадцати футов друг от друга. Между ними располагалась сложно выстроенная диаграмма из прямоугольников – частью с письмами, частью с номерами. Детская игра? Указатели мест? Тайные исторические даты? Эдипа срисовала диаграмму в записную книжку. Подняв голову, она увидела за полквартала от себя человека в черном костюме – скорее всего, мужчину, – который стоял в дверях дома и наблюдал за ней. Ей показалось, что она разглядела отложной воротник, но решила не искушать судьбу и вернулась назад тем же путем, каким пришла, с бешено стучащим сердцем. На углу остановился автобус, и Эдипа бросилась к нему.
Дальше она каталась в автобусах, время от времени выходя размяться и стряхнуть дремоту. Почтовый рожок, несомненно, появлялся в каких-то фрагментах сновидений. Позже она, наверное, озаботится тем, чтобы рассортировать события этой ночи на реальные и приснившиеся.
В один из таких выходов в богато оркестрованную партитуру ночи ей вдруг пришло в голову, что она находится в безопасности, – возможно, ее защищает постепенно проходящее опьянение. Она чувствовала – чего раньше не было, – что город, прилизанный и подкрашенный привычными словами и образами (космополитизм, культура, канатная дорога), принадлежал ей: этой ночью она могла спокойно гулять по его отдаленным кровеносным сосудам, добираясь до таких мелких капилляров, в которые можно было только заглянуть, или плыть, пробивая бесстыдные муниципальные тромбы, которые видны на коже города всем, кроме туристов. Ничто в этой ночи не могло ее затронуть, и ничто не затрагивало. Повторение символов тоже должно было безболезненно прекратиться – либо просто иссякнуть, либо совместиться и, столкнувшись, с дребезгом вылететь у нее из памяти. Но ей было предопределено вспомнить. Эдипа залюбовалась этой перспективой, как могла бы любоваться игрушечной улицей с высокого балкона, американскими горками, кормлением зверей в зоопарке или заветной мечтой, которая может исполниться с приложением минимума усилий. Она словно тронула край сладостного поля открывшейся возможности, понимая, что простое подчинение ей после выхода за пределы сна будет очень приятным, и никакое земное притяжение, законы баллистики или жадное насыщение хищника не могли доставить Эдипе большего удовольствия. Вся трепеща, она будто пробовала эту мысль на вкус: мне предопределено вспомнить. Каждое новое доказательство предполагало собственное заранее определенное значение и имело хорошие шансы на существование. Но вскоре ей подумалось, что все эти прелестные «улики» могли быть лишь своего рода компенсацией. Для сбившейся с пути Эдипы они складывались в одно судорожное Слово, крик, отменяющий и уничтожающий эту ночь.
В парке «Золотые Ворота» Эдипа набрела на группу детишек в ночнушках, которые сообщили ей, что это собрание им снится. Но для них между сном и бодрствованием, в сущности, нет никакой разницы, так как, проснувшись утром, они будут усталыми и измотанными, как если бы бодрствовали чуть ли не всю ночь. Когда матери думали, что их чада пошли на улицу поиграть, детишки на самом деле забирались в шкафы в соседних домах, на платформы, устроенные в кронах деревьев, в тайные убежища внутри живых изгородей и отсыпались, готовясь к этим часам. Все ужасы ночи были им нипочем; в центре круга у них горел воображаемый костер, и они не нуждались ни в чем, кроме чувства собственной замкнутой общности. Про почтовый рожок они знали, но о рисунках мелом и игре на асфальте, которую видела Эдипа, слышали впервые. Когда мы прыгаем через веревочку, объяснила Эдипе хорошенькая малышка, то чертим только один рисунок: надо попасть либо в колечко, либо в трубочку, либо в сурдинку, а подружка тем временем поет:
Тристо, Тристо, раз, два, три,
Через море тронь такси…
– «Торн и Таксис» то есть?
О таком они не слыхали. И продолжали греть ручонки над невидимым огнем. Эдипа в отместку перестала в них верить.
В полумраке засаленной и скользкой мексиканской забегаловки за 24-й улицей она натолкнулась на кусочек своего прошлого, принявший форму некоего Хесуса Аррабаля, сидевшего в углу под телевизором и лениво болтающего куриной ножкой в чашке мутного супа.
– Эй, – приветствовал он Эдипу. – Вы та леди из Масатлана, – И кивком головы предложил ей сесть.
– Вы помните все, Хесус, – сказала Эдипа. – Даже туристов. Как там ЦРУ? – Под этой аббревиатурой скрывалось вовсе не то агентство, о котором вы подумали, а подпольный мексиканский Центр Революционеров Ультра-анархистов, возникший еще во времена братьев Флорес Магон[77] и позднее недолгий срок союзничавший с Сапатой.[78]
– Как видите. В изгнании. – И он обвел помещение рукой. Аррабаль владел им на пару с юкатеко,[79] который до сих пор верил в Революцию. В их Революцию. – А вы? Вы до сих пор с тем гринго, который потратил на вас такую кучу денег? С магом и волшебником олигархом?
– Он умер.
– Бедняжка.
Они встретились с Хесусом Аррабалем на пляже, где он предварительно объявил о проведении антиправительственного митинга. Никто не пришел. Поэтому он обращался к Инверэрити, врагу, которого он, согласно своей вере, должен был вразумить. Пирс, избиравший в присутствии недоброжелателей нейтральную манеру поведения, ничего Аррабалю не ответил; он столь искусно разыгрывал несносного богатого американца, что Эдипа видела, как запястья анархиста покрылись гусиной кожей – и отнюдь не из-за тихоокеанского бриза. Вскоре, когда Пирс ушел позаниматься серфингом, Аррабаль начал спрашивать Эдипу, не дурачат ли его, настоящий ли Пирс, не шпион ли он. Эдипа ничего не понимала.
– Знаете, что такое чудо? Это не то, о чем говорил Бакунин. Это проникновение иного мира в нашу реальность. Большую часть времени миры мирно сосуществуют, но иногда сталкиваются, и тогда происходит катаклизм. Анархисты, как и ненавидимая ими Церковь, верят в иной мир. Мир, где революции совершаются спонтанно, самими массами, без вождей. А присущая душам способность взаимопонимания позволяет массам выполнять совместную работу без усилий, автоматически, как бы подчиняясь врожденному рефлексу. Так вот, сеньора, если бы все это полностью осуществилось, я бы закричал, что это чудо. Анархистское чудо. Подобное вашему другу. Он безукоризненный, просто идеальный образец того, с чем мы боремся. В Мексике привилегированный человек – это всегда, в ста процентах случаев, лишь один из многих. Ничего сверхъестественного. Но ваш друг – если, конечно, он не шутит – пугает меня, как ужасает новообращенного индейца явление Девы Марии.
В последующие годы Эдипа нередко вспоминала Хесуса, потому что он увидел в Пирсе то, чего не замечала она. Эдипа чуяла в нем соперника – не в плане секса, разумеется. И теперь, потягивая густой тепловатый кофе, снятый с плиты юкатеко, и слушая рассказы о заговорах, она думала, что Хесус, несмотря на убедительное воплощение Пирсом образа врага, наверное, в конце концов ушел из ЦРУ и присоединился, как и прочие, к молчаливому большинству, так что отправляться в изгнание необходимости не было.
Покойник, как и демон Максвелла, был связующим звеном в цепи совпадений. Без него ни она, ни Хесус не оказались бы именно здесь и именно сейчас. Это был знак, закодированное предупреждение. Что вообще было случайно этой ночью? Через некоторое время ее взгляд упал на ветхую анархо-синдикалистскую газету «Возрождение». Она была датирована 1904 годом, а на месте марки или штампа красовался нарисованный от руки почтовый рожок.
– Вот, получил, – сказал Аррабаль. – Неужели так долго шло по почте? Может, прежний получатель умер и вместо его имени поставили мое? Неужели прошло уже шестьдесят лет? Или это репринтное издание? Глупо спрашивать, ведь я простой солдат. А на высших уровнях свои резоны. – И эту последнюю мысль Эдипа унесла с собой, снова выйдя в ночь.
На городском пляже, где уже давно закрылись ларьки с пиццей и пункты проката, она беспрепятственно прошла через дремотное облако малолетних правонарушителей в легких летних кожаных куртках, на которых сверкающей в лунном свете чистым серебром нитью был вышит почтовый рожок. Все юнцы нанюхались, накурились, наширялись дурью и Эдипу, вероятно, даже не заметили.
В автобусе, набитом усталыми и изможденными неграми, едущими на ночную смену, почтовый рожок был нацарапан на задней спинке сиденья и сиял перед Эдипой в дымном салоне, а рядом было написано СМЕРТЬ. Но в отличие от сообщения про ПОТЕРИ кто-то озаботился сделать пояснительную приписку карандашом: «Сгинуть Можешь, Ежели Рог Тронешь».
Где-то неподалеку от Филлмора символ почтового рожка обнаружился возле прачечной самообслуживания на доске объявлений среди других клочков бумаги с предложениями дешево выгладить одежду или посидеть с ребенком. Если вам известно, что это значит, гласила надпись, то вы знаете, куда обращаться дальше. Густой аромат хлорки клубился вокруг Эдипы и возносился к небесам, словно ладан. Стиральные машины пыхтели и отчаянно плевались грязной водой. Кроме Эдипы, в прачечной никого не было, и мерцающие мыльные пузыри, казалось, вскрикивали, прикасаясь к белью, которому предназначалось стать белым. Здесь был негритянский квартал. Может, и Рог имеет сходное предназначение? Может, это предложение Тронуть Рог? У кого бы спросить об этом?
Из транзисторных приемников в автобусах всю ночь неслись песни, занимавшие последние места в списке двухсот лучших шлягеров; песни, которым не суждено было стать популярными; песни, чьи слова и музыка сгинут, словно никогда и не были пропеты. Мексиканочка, пытавшаяся расслышать очередную песенку, которая прорывалась через статические помехи от урчащего мотора, подпевала так, будто знала ее давным-давно, и ногтем рисовала на стекле, запотевшем от ее дыхания, почтовые рожки и сердечки.
Сойдя в аэропорту, Эдипа, чувствуя себя невидимой, присмотрелась к игре в покер, где настырный неудачник аккуратно и добросовестно заносил каждый проигрыш в маленькую расчетную книжицу, изукрашенную внутри небрежно накорябанными почтовыми рожками. «В среднем я отыгрываю 99,375 процента, ребята, – услышала она его голос. Остальные – кто равнодушно, кто раздраженно – глядели на проигравшего. – Эту цифру я вывел за двадцать три года наблюдений, – продолжал он, выдавливая улыбку. – Вечно недостает какой-то доли процента, и все рушится. Двадцать три года. Никогда не удавалось выйти в плюс. И почему я не брошу играть?» – Никто не ответил.
В одном из туалетов рядом с почтовым рожком и номером абонентского ящика была реклама AC-DC,[80] обозначающая в данном случае Alameda County Death Cult. Члены этой секты ежемесячно выбирали себе жертву из числа добропорядочных, законопослушных, социально интегрированных и хорошо устроенных граждан, подвергали ее сексуальным надругательствам, а затем и в самом деле приносили в жертву. Эдипа не стала списывать номер.
У стойки регистрации рейса на Майами находился расхлябанный юнец, замышлявший прошмыгнуть ночью в дельфинарий и вступить в переговоры с дельфинами, которые придут на смену людям. Юнец страстно целовал на прощание свою мамочку, вовсю шевеля языком. «Я напишу, ма», – повторял он. «Пиши через ПОТЕРИ, – наставляла мамочка. – Помни: всю другую почту перлюстрирует правительство. Дельфины сойдут с ума». «Я люблю тебя, ма», – заверял он. «Люби дельфинов, – советовала мамаша. – Пиши через ПОТЕРИ».
И так тянулось всю ночь. Эдипа подсматривала и подслушивала. Среди прочих ей повстречались: сварщик с изуродованным лицом, пестующий свое безобразие; ребенок, скитавшийся в ночи и, подобно париям, жалевший, что появился на свет исключительно для пробуждения общественного сочувствия; негритянка с извилистым мраморно-белым шрамом на младенчески пухлой щечке, для которой происходившие по разным причинам регулярные преднамеренные выкидыши стали своеобразным ритуалом, как для других таким же ритуалом стали роды, посвященные не столько сохранению вида, сколько перерыву в работе; жующий кусок мыла пожилой вахтер, который заставлял свой желудок лихо принимать лосьоны и освежители воздуха, закусывая их тканями, табаком и воском, а потом мучился в безнадежных попытках все это переварить – все обещанное, произведенное, предавшее, язвящее, – пока не стало слишком поздно; встретился даже еще один соглядатай, торчавший перед освещенным окном городского дома и высматривавший Бог знает какой специфический образ. И каждый психоз, каждое отклонение от нормы украшал почтовый рожок – словно знак, печать, подсознательный набросок. Эдипа настолько привыкла к его появлению, что на самом деле видела этот символ, скорее всего, не так часто, как ей потом вспоминалось. И двух-трех раз было бы вполне достаточно. Или даже много.
Она наездилась в автобусах и теперь вступала в рассвет, впав в несвойственный ей фатализм. Куда подевалась та Эдипа, которая так храбро приехала сюда из Сан-Нарцисо? Та оптимистичная малышка здорово смахивала на частного детектива из старой радиодрамы, уверенного, что для решения любой сложнейшей загадки нужны лишь отвага, находчивость и пренебрежение связывающими по рукам и ногам полицейскими правилами.
Но всякий частный сыщик рано или поздно терпит неудачу. Ночь, изобилующая почтовыми рожками, их зловещее настойчивое повторение – это был способ сломать Эдипу. Они знали ее болевые точки, нервные узлы ее оптимизма, и шаг за шагом, укол за уколом лишали ее присутствия духа.
В начале прошлой ночи ее интересовало, какая часть подпольного мира – помимо знакомой ей парочки – держит связь через ПОТЕРИ. К рассвету она могла резонно спросить, какая часть подпольного мира этого не делает. Если чудо, как много лет назад постулировал на пляже в Масатлане Хесус Аррабаль, – это проникновение иного мира в нашу реальность и поцелуй космических шаров жидкого огня, то чудом должен был являться и каждый из ночных почтовых рожков. Обнаружилось неимоверное, Бог знает какое количество граждан, упорно игнорирующих государственную почту Соединенных Штатов. И это не было предательством, не было даже актом отчаяния. Это был точно рассчитанный уход от жизни Республики, от бездушного режима. И пускай власть презрительно отказала им во всем, наплевала на их голоса и не желала ничего о них знать. Уход был личностным, необъявленным, частным. Поскольку они не могли удалиться в вакуум (или все же могли?), им приходилось существовать в изолированном, молчаливом, замкнутом мире.
Перед утренними часами пик, выйдя из маршрутного такси, чей дряхлый водитель заканчивал каждый день себе в убыток, Эдипа по Хоуард-стрит направилась к Эмбаркадеро. Эдипа знала, что выглядит ужасно – суставы пальцев, которыми она протирала глаза, почернели от туши для ресниц, во рту было мерзко от выпивки и кофе. Через открытую дверь, на лестнице, ведущей в пропахший дезинфекцией сумрак меблированных комнат, она увидела старика, бесформенной кучей сидевшего на ступеньках и сотрясавшегося от рыданий, которых ей не было слышно. Белыми и прозрачными, как дым, руками он закрывал лицо. На тыльной стороне левой ладони Эдипа разглядела татуировку в виде почтового рожка, которая сильно выцвела и уже начала расплываться. Заинтересовавшись, она вошла в полумрак и, покачиваясь на каждой скрипучей ступеньке, поднялась к нему. Когда она была в трех шагах, руки старика разлетелись в стороны, открыв искаженное лицо, и Эдипа остановилась, пораженная его жуткими глазами, налитыми кровью из лопнувших сосудов.
– Вам помочь? – дрожа спросила изможденная Эдипа.
– Моя жена в Фресно, – сказал старик. На нем была старая пиджачная пара, истрепанная серая рубашка и широкий галстук; шляпы не было. – Я ее бросил. Очень давно, не помню когда. Вот это для нее. – Он протянул Эдипе письмо, которое, судя по виду, носил с собой годами. – Бросьте его в… – Он показал на татуировку и посмотрел Эдипе в глаза. – Ну, вы поняли. Мне туда не дойти. Слишком далеко, и ночь была ужасной.
– Понимаю, – сказала Эдипа. – Но я недавно в городе. Я не знаю, где это.
– Под автострадой. – Старик махнул рукой, обозначая направление. – Как всегда. Увидите. – И глаза закрылись.
Какие пласты плодородной почвы переворачивал он, выползая каждую ночь из безопасной складки на жирном теле города, просыпавшегося с каждым рассветом для добродетельной пахоты; орбиты каких планет открыл? Какие голоса ему слышались, тени каких сияющих богов мелькали над его головой среди покрытых пятнами обоев, в воздухе, дрожавшем от пламени свечного огарка – прообраза той сигареты, которую, засыпая, уронит он или его приятель, и пожар поглотит все – всю соль, которая скопилась за долгие годы в ненасытной набивке матраца, хранившего, будто компьютерный банк памяти неудач и потерь, следы пота ночных кошмаров и завершавшихся слезами порочных сновидений, беспомощных, словно лопающиеся пузыри? Эдипа сразу же ощутила непреодолимое желание прикоснуться к нему, опасаясь, что иначе она в него не поверит и забудет о нем. Измученная, едва сознавая, что делает, она сделала три последних шага, села, обняла старика, прижала к себе и с трудом перевела затуманенный взор со ступенек в утро нового дня. На груди стало мокро, и она увидела, что старик опять плачет. Он едва дышал, но слезы лились, словно их качали насосом.
– Я не смогу вам помочь, – прошептала Эдипа, укачивая его. – Не смогу. – Фресно осталось где-то далеко,[81] за тысячи миль.
– Это он? – спросил голос с верхних ступенек позади нее. – Моряк?
– У него на руке татуировка.
– Тащите его наверх, ладно? Это он. – Эдипа обернулась и увидела еще более дряхлого улыбающегося старика в шляпе пирожком, – Я бы вам помог, да что-то артрит разыгрался.
– Его надо вести туда? – спросила Эдипа. – Наверх?
– А куда же еще, леди?
Эдипа не знала. Она неохотно отпустила старика, словно отпускала собственного сына, и он тут же поднял голову и посмотрел на нее.
– Пойдем, – сказала она. Взяла протянутую татуированную руку, и вот так, рука в руке, они одолели оставшуюся часть лестничного пролета, а затем еще два и очень медленно добрались до старика с артритом.
– Он пропал прошлой ночью, – сообщил артритик. – Сказал, что едет искать свою старуху. Он постоянно это проделывает. – Они вошли в лабиринт коридоров, освещенных тусклыми 10-ваттными лампочками, и комнат, разделенных фанерными перегородками. Старик в шляпе замыкал шествие. – Здесь, – наконец произнес он.
Маленькая комнатка, еще один костюм, парочка религиозных брошюр, коврик, стул. Картина с изображением святого, превращающего родниковую воду в масло для пасхальных лампад Иерусалима. Вторая лампочка, перегоревшая. Кровать. Матрац, поджидающий тело. Эдипа прокрутила в уме сцену, которую могла бы разыграть. Она могла бы найти домовладельца, подать на него в суд, купить моряку новый костюм от Рус Эткинс, рубашку, туфли и напоследок приобрести автобусный билет до Фресно. Эдипа настолько погрузилась в фантазии, что едва заметила, как старик – словно специально выбрав самый подходящий момент – со вздохом высвободил руку.
– Просто опустите письмо, – сказал он. – Марка уже есть.
Эдипа глянула на конверт и увидела знакомую восьмицентовую марку авиапочты, где реактивный самолет пролетал по карминному фону над куполом Капитолия. Однако на вершине купола стояла с простертыми руками крошечная фигурка в черном. Эдипа смутно представляла себе, что именно должно находиться на куполе Капитолия, но точно знала, что ничего подобного там быть не могло.
– Прошу вас, – сказал моряк, – идите. Тут вам делать нечего. – Эдипа заглянула в кошелек, увидела десятку и доллар и дала ему десятку. – Я их пропью, – предупредил моряк.
– И про друзей не забудь, – напомнил артритик, глядя на десятку.
– Сучка, – сказал моряк Эдипе. – Не могла подождать, пока он уйдет?
Эдипа следила, как он пытается поудобнее примоститься на матраце. Свалка памяти. Регистр А…
– Дай сигарету, Рамирес, – попросил моряк. – Я знаю, у тебя есть.
Умрет он сегодня или нет?
– Рамирес, – воскликнула Эдипа. Артритик повернул голову, скрипя ржавыми шейными позвонками. – Но ведь он умирает, – сказала Эдипа.
– А кто нет? – спросил Рамирес.
Эдипа вспомнила рассуждения Джона Нефастиса о Машине и разрушении массивов информации. Когда вспыхнет этот матрац и станет для старого моряка погребальным костром викингов, тогда уйдут все сложенные и спрессованные в нем бесцельно прожитые годы, безвременные смерти, душераздирающая жалость к себе, гибель надежд; уйдет память о всех людях, которые на нем спали, какова бы ни была их жизнь, – все это исчезнет навсегда, когда он сгорит. Эдипа с большим интересом разглядывала матрац. Словно открыла некий необратимый процесс. Она поразилась, поразмыслив над тем, как много будет потеряно; исчезнут даже бесчисленные галлюцинации старика, за которыми больше не сможет наблюдать мир. Держа его в объятиях, Эдипа поняла, что он страдал от DT.[82] За этой аббревиатурой – delirium tremens – скрывалась метафора трепетного проникновения разума в неведомое. Святой, чья вода могла возжигать лампады; ясновидец, чьи оговорки задним числом оказывались гласом Духа Господня; законченный параноик, для которого весь мир вертелся вокруг него самого и четко делился на сферу буйной радости и сферу постоянной угрозы; мечтатель, изучавший в своих видениях древние туннели истины с обветшавшими входами, – все они одинаковым образом соотносили свои действия со словом – или тем, что выполняло функцию слова, – которое прикрывало их и защищало. Действие метафоры, следовательно, является прорывом либо к правде, либо ко лжи, в зависимости от того, где вы в данный момент находитесь: внутри в безопасности или снаружи в смятении. Эдипа не знала, где находилась она. Трепещущая и непознанная, она со скрежетом скользила окольным путем вспять по колее прожитых лет, пока не вернулась в студенческие годы и не услышала высокий тенорок Рэя Глозинга, своего второго или третьего возлюбленного, который, охая и синкопированно прищелкивая языком, нелицеприятно высказывался о вводном курсе математики; «dt» – помоги Господи этой татуированной развалине – означало также дифференциал времени, тот неуловимо короткий миг, в который должно произойти изменение предыдущего состояния, – и его уже нельзя будет замаскировать под безобидное понятие среднего уровня; неподвижный в каждой отдельной точке полета снаряд обладает скоростью, подвижную в любой момент наблюдения клетку подстерегает смерть. Эдипа знала, что моряку открывались миры, которых не видел никто, так как в приземленных метафорах есть высокая магия, a DT дает доступ к спектру «dt», лежащему за пределами нашей вселенной, и музыка отражает белый ужас антарктического одиночества. Но не знала Эдипа, как уберечь миры эти вкупе с носителем оных. Она попрощалась, спустилась по лестнице и двинулась в указанном направлении. Целый час рыскала она среди бетонных опор автострады, никогда не видевших лучей солнца, натыкалась на пьяниц, бродяг, бездельников, педерастов, шлюх, свободно разгуливающих психопатов, но секретного почтового ящика не находила. В конце концов все-таки набрела в густой тени на большой жестяной бак с трапециевидной откидной крышкой, похожий на обычный мусорный контейнер около четырех футов высотой, старый и позеленевший. На трапециевидной крышке от руки было написано П. О. Т. Е. Р. И. Эдипе пришлось присмотреться, чтобы заметить точки между буквами.
Она спряталась в тени бетонной опоры. Возможно, ненадолго задремала. Проснувшись, увидела подростка, опускавшего в жестянку пачку писем. Она вышла и бросила письмо моряка в банку, затем снова спряталась и стала ждать. Ближе к полудню появился довольно ханыжного вида юноша с мешком, открыл панель на стенке ящика и забрал письма. Эдипа дала ему пройти полквартала и двинулась следом. Поздравила себя по крайней мере с тем, что не забыла надеть туфли на низком каблуке. Курьер заставил ее пройти через рынок и направился к зданию муниципалитета. На улице в непосредственной близости от унылого административного комплекса, зараженного собственной серостью, он встретился с другим курьером, и они обменялись мешками. Эдипа решила продолжать слежку за первым. Он поволок ее в обратный путь через залитый светом суетливый и шумный рынок, провел по Первой улице и вывел к автобусному вокзалу, где купил билет до Окленда. Эдипа последовала его примеру.
Переехав через мост, они оказались в огромном, пустом, сияющем огнями послеполуденном Окленде. Пейзаж становился все более однообразным. Курьер вышел в районе, который Эдипа не смогла опознать. Часами брела она за ним по незнакомым улицам, по городским артериям, которые угнетали се до смерти, несмотря на послеполуденное затишье, пробиралась через трущобы, поднималась на холмы, уставленные двух– и трехспаленными домиками с пустыми провалами окон, в которых играло солнце. Постепенно мешок с письмами пустел. Наконец курьер сел на автобус в Беркли. Эдипа тоже. Возле Телеграф-авеню курьер вышел и привел Эдипу на улицу к дому в псевдомексиканском стиле, так ни разу и не оглянувшись. Здесь жил Джон Нефастис. Эдипа оказалась в отправной точке своего путешествия и не могла поверить, что прошло целых 24 часа. Может, чуть больше или чуть меньше.
Вернувшись в отель, она обнаружила, что холл полон глухонемых делегатов в карнавальных шляпках из гофрированной бумаги, которые стали популярны во время Корейского конфликта после наплыва рабочих из коммунистического Китая. Все поголовно были пьяны, и мужчины хватали Эдипу, намереваясь затащить ее в огромный бальный зал на вечеринку. Она пыталась отбиться от безмолвного жестикулирующего роя, но была слишком слаба. Ноги болели, во рту было премерзко. Эдипу уволокли в зал, где симпатичный молодой человек в твидовом костюме от Хэрриса крепко обхватил ее за талию и заставил вальсировать тур за туром среди шарканья и шелеста других пар, танцующих под огромной незажженной люстрой. Пары отплясывали вразнобой, что кому в голову взбредет: танго, тустеп, босса-нову, слоп. И сколько же это продлится, думала Эдипа, пока они не начнут сталкиваться по-настоящему? А столкновения обязательно будут. Единственным выходом могло стать непроизвольное музыкальное упорядочивание, полиритмия и политональность, которые позволят каждой паре легко приспособиться к предопределенному хореографическому рисунку. У них всех был какой-то дополнительный орган слуха, который у Эдипы давно атрофировался. Партнер вел, Эдипа подчинялась, млея в объятиях юного немого и ожидая начала столкновений. Но ничего не произошло. Протанцевав полчаса, все, словно по тайному соглашению, разошлись на перерыв, хотя пальцем не тронули никого, кроме собственного партнера. Хесус Аррабаль назвал бы это анархистским чудом. Эдипа, не представлявшая себе, как это можно назвать, совсем пала духом. Она сделала реверанс и сбежала.
На следующий день, проспав двенадцать часов без каких-либо существенных сновидений, она оплатила счет в отеле и двинулась через полуостров к Киннерету. По дороге, обдумывая события дня предыдущего, решила завернуть к своему психоаналитику доктору Хилэриусу и рассказать ему все. В нее вполне могли вцепиться холодные и безжалостные крючья психоза. Она своими глазами видела почтовую систему ПОТЕРИ, видела двух почтальонов системы, ее почтовый ящик, ее марки и штемпели. А изображением засурдиненного почтового рожка был пропитан весь прибрежный район. Ей хотелось, чтобы все это оказалось фантазией, сумрачным слепком разума, естественным результатом душевных потрясений и подсознательных потребностей. Ей хотелось, чтобы Хилэриус признал ее слегка спятившей, прописал отдых и объяснил, что никакой системы Тристеро не существует. И кроме того, Эдипа хотела понять, почему возможное существование этой системы должно ей угрожать.
Она дотащилась до клиники уже после заката. В офисе Хилэриуса света не было. Сильный ветер, дующий со стороны вечернего моря, завывал в ветвях эвкалиптов. Когда Эдипа прошла полпути по вымощенной камнем дорожке, прямо у нее над ухом громко зажужжало какое-то насекомое, и сразу же вслед за этим испуганная Эдипа услышала хлопок выстрела. Это не насекомое, подумала она, и в тот же миг, услышав второй выстрел, полностью в этом удостоверилась. В тающем свете сумерек она представляла собой идеальную мишень, укрыться можно было только в клинике. Она ринулась к стеклянной двери – заперто, в холле темно. Рядом с клумбой Эдипа увидела камень и швырнула его в одну из стеклянных створок. Камень отскочил. Эдипа огляделась в поисках другого камня, но тут в холле появилась фигура в белом, порхнула к двери и отперла замок. Это была Хелыа Бламм, приходящая ассистентка Хилэриуса.
– Скорей, – прочирикала она. Эдипа юркнула внутрь. Хельга была на грани истерики.
– Что тут происходит? – спросила Эдипа.
– Он сошел с ума. Я хотела вызвать полицию, но он схватил кресло и разбил коммутатор.
– Доктор Хилэриус?
– Он думает, что его выследили. – Слезы бежали по скулам медсестры извилистыми потоками, – Он заперся в офисе, у него ружье.
Gewehr-43,[83] которое он привез с войны в качестве трофея, вспомнила Эдипа.
– Он стрелял в меня. Как вы думаете, кто-нибудь сообщит об этом?
– Ну, он стрелял не только в вас, – ответила сестра Бламм, ведя Эдипу по коридору в свой кабинет. – Кто-нибудь да сообщит.
Эдипа приметила открытое окно, позволявшее спокойно ретироваться.
– Вы могли убежать, – сказала она.
Бламм налила в чашки с растворимым кофе горячей воды прямо из-под крана и, подняв голову, глуповато посмотрела на Эдипу.
– А вдруг я ему понадоблюсь?
– И кто же, как он считает, его выследил?
– Трое мужчин с автоматами. Террористы, фанатики – это все, что я уловила. Потом он начал крушить коммутатор. – Хельга бросила на Эдипу злобный взгляд. – Тут крутилось слишком много полоумных шлюх. В Киннерете других баб нет. Он не выдержал.
– Я здесь давно не была, – оправдалась Эдипа. – Может, мне удастся выяснить, в чем дело. Надеюсь, он не сочтет, что я ему угрожаю.
Бламм поперхнулась горячим кофе.
– Вот только начните выкладывать ему свои проблемы – он тут же и пальнет.
Перед дверью Хилэриуса, которую она никогда не видела запертой, Эдипа остановилась, чувствуя ломоту в пояснице и спрашивая себя, в своем ли она уме. Почему она не выпрыгнула в окно кабинета Бламм? Потом спокойно прочла бы в газете, чем все закончилось.
– Кто там? – крикнул Хилэриус, услышав ее дыхание или почуяв ее присутствие.
– Миссис Маас.
– Да будет вечно гореть в аду Шпеер[84] вкупе со своим министерством кретинов. Представляете, половина патронов никуда не годится.
– Давайте поговорим. Можно мне войти?
– Все хотят войти, – заявил Хилэриус.
– У меня нет оружия. Можете меня обыскать.
– А вы мне приемом каратэ да по шее. Нет уж, спасибо.
– Почему вы заранее отвергаете все мои предложения?
– Слушайте, – сказал Хилэриус после паузы, – как по-вашему, я был хорошим фрейдистом? Не слишком отклонялся от учения?
– Время от времени вы корчили рожи, – сказала Эдипа. – Но это мелочи.
В ответ раздался долгий и горький смех. Эдипа ждала.
– Я пытался относиться к этому человеку с почтением, – поведал психоаналитик из-за двери. – К призраку этого сварливого еврея. Пытался уверовать в непреложную истину всего, что он накропал, даже в явную чушь и противоречия. По крайней мере, уж это я мог бы сделать, nicht wahr?[85] Своеобразная епитимья. И какой-то частью своей души я действительно хотел верить – как верят дети, когда в полной безопасности слушают страшную сказку, – что подсознательное станет обычной комнатой, как только туда проникнет свет. Что мрачные тени превратятся в игрушечных лошадок и мебель Бидермайера. Что терапия в конце концов укротит подсознательное и общество примет его, не убоявшись возвращения необъяснимых страхов. Я хотел верить, несмотря на весь опыт своей жизни. Можете себе представить?
Эдипа не могла, поскольку понятия не имела, чем занимался Хилэриус, перед тем как появиться в Киннерете. Издалека донеслось завывание сирен – местная полиция использовала электронные устройства, копировавшие сигнал полицейской тревоги. Вой неуклонно приближался, становясь все сильнее.
– Да, я слышу, – сказал Хилэриус – Думаете, кто-нибудь может защитить меня от этих фанатиков? Они проходят сквозь стены. Они множатся; бросаешься бежать, сворачиваешь за угол – а они тут как тут, поджидают.
– Сделайте мне одолжение, – попросила Эдипа, – не стреляйте в полицейских, они на вашей стороне.
– Израильтяне могут нацепить любую форму, – ответил психоаналитик. – Я не могу гарантировать безопасность этой «полиции». Вы ведь не можете гарантировать, что они не кокнут меня, если я сдамся.
Эдипа слышала, как он ходит по офису. Угрожающий вой сирен приблизился вплотную, заполнив собой подступающий вечер.
– Есть одно лицо, – сказал Хилэриус, – которое я могу изобразить. Вы его не видели, никто в этой стране его не видел. Я принял это обличье только раз, и, возможно, где-то в Центральной Европе до сих пор существует, ведя растительный образ жизни, парень, которому довелось на него посмотреть. Сейчас ему, наверное, столько же, сколько вам. Он безумен, и надежды на выздоровление нет. Его звали Цви. Скажите вашей полиции, или как они там себя сегодня называют, что я могу состроить эту харю еще раз. Скажите, что в радиусе ста ярдов она действует весьма эффективно и ввергнет любого несчастного, который на нее глянет, в жуткую подземную темницу безумия с задраенным навеки люком. Заранее благодарю.
Сирены завывали уже под дверью клиники. Эдипа слышала, как хлопают дверцы машин, перекликаются между собой полицейские; затем внезапно раздался грохот, и они вломились в холл. Дверь офиса резко отворилась. Хилэриус схватил Эдипу за руку, втащил внутрь и вновь запер замок.
– Итак, я заложница, – констатировала Эдипа.
– О, – удивился Хилэриус, – это вы?
– Ну а с кем вы, интересно…
– Обсуждал свои проблемы? С кем-то другим. Есть я – и есть другие. Понимаете, мы выяснили, что после приема ЛСД различие исчезает. Границы эго становятся расплывчатыми. Но я никогда не употреблял наркотики, я сделал выбор в пользу относительной паранойи, когда, по крайней мере, известно, кто есть я и кто – все остальные. По-моему, вы отказывались принимать участие в эксперименте по той же причине, миссис Маас – Он взял ружье на-изготовку и лучезарно улыбнулся Эдипе. – Ну что ж. Надо полагать, вы пришли ко мне с предложением. От них. И что же вы намерены сказать? Эдипа пожала плечами.
– Вспомните о социальной ответственности, – предложила она. – Посмотрите на вещи трезво. Вы в меньшинстве, и оружие у ваших противников более мощное.
– Ах, в меньшинстве? Там мы тоже были в меньшинстве. – Он не сводил настороженного взгляда с Эдипы.
– Где «там»?
– Где я создал то обличье. Где проходил интернатуру.
Она уже примерно догадывалась, что он имеет в виду, но решила уточнить:
– Где же?
– В Бухенвальде, – ответил Хилэриус. Полицейские замолотили в дверь офиса.
– У него ружье, – крикнула Эдипа. – И здесь я.
– А кто вы такая, леди? – Она ответила. – Будьте добры, произнесите ваше имя по буквам. – Затем она сообщила для программы новостей свой адрес, возраст, номер телефона, имена ближайших родственников и профессию мужа. Хилэриус все это время шарил в столе, искал патроны. – А вы сможете его угомонить? – поинтересовался полицейский. – Ребята с телевидения хотят снять пару планов через окно. Сможете его занять?
– Трудное дело, – ответила Эдипа. – Посмотрим.
– Натурально играете, ребята, – сказал Хилэриус, кивая.
– Значит, вы думаете, – начала Эдипа, – что они хотят увезти вас в Израиль и предать суду, как Эйхмана? – Психоаналитик закивал активнее. – За что? Что вы делали в Бухенвальде?
– Работал, – ответил Хилэриус, – ставил эксперименты по искусственной стимуляции потери рассудка. Еврей-кататоник ничем не хуже еврея-мертвеца.[86] Либеральные круги СС считали это более гуманным.
Они воздействовали на своих подопытных стуком метронома, подпускали к ним змей, показывали в полночь жуткие рисунки в духе Брехта, хирургическим путем удаляли те или иные железы, вызывали галлюцинации с помощью волшебного фонаря и новых наркотиков, выкрикивали угрозы через спрятанные громкоговорители, гипнотизировали, запускали часы с обратным ходом и корчили рожи. Хилэриус отвечал за рожи.
– К сожалению, союзные войска пришли раньше, чем мы успели собрать достаточное количество данных, – вспоминал он. – Помимо нескольких эффектных результатов вроде случая Цви, в статистическом смысле мы мало чем могли похвалиться. – Он улыбнулся, увидев выражение лица Эдипы. – Да, вы меня ненавидите. Но разве я не пытался искупить вину? Если бы я был настоящим нацистом, я выбрал бы Юнга, nicht wahr? Но вместо этого я выбрал еврея Фрейда. В мировидении Фрейда никакого Бухенвальда не было. Бухенвальд, согласно Фрейду, в свете психоанализа превратился бы в футбольное поле, а в газовых камерах пухленькие дети изучали бы сольфеджио и искусство составления букетов. Печи Освенцима выпекали бы птифуры и свадебные торты, а ракеты Фау-2 стали бы обиталищем эльфов. И во все это я пытался уверовать. Я спал три часа в сутки, стараясь не видеть снов, а двадцать один час бодрствовал, тужась обрести веру. Но моего раскаяния им было мало. И несмотря на все мои усилия, они пришли забрать меня, словно ангелы смерти.
– Как там дела? – спросил полицейский.
– Превосходно, – ответила Эдипа. – Я дам знать, если потеряю надежду. – И тут она увидела, что Хилэриус положил винтовку и, отойдя в другой конец комнаты, демонстративно открывает шкаф. Эдипа взяла винтовку и направила на психоаналитика.
– Значит, я должна убить вас, – сказала она, понимая, что он отдал ей оружие нарочно.
– А разве вас не за этим прислали? – Хилэриус свел глаза к переносице, затем развел обратно; на всякий случай показал Эдипе язык.
– Я пришла, так как надеялась, что вы сможете избавить меня от одной дурацкой фантазии.
– Берегите ее! – неистово возопил Хилэриус – Что еще вам всем остается? Крепко держите ее своими маленькими щупальцами, не позволяйте болтунам-фрейдистам и отравителям-фармацевтам ее уничтожить. Храните свою фантазию, дорогая моя, чем бы она ни была, ибо ее утрата низведет вас до уровня всех прочих. Вы потеряете индивидуальность.
– Входите, – крикнула Эдипа. Хилэриус расплакался.
– Вы не станете стрелять? Полицейский ткнулся в дверь.
– Заперто, – сообщил он.
– Выбейте ее, – зарычала Эдипа, – и пусть фюрер Хилэриус заплатит по счетам.
На улице, где к Хилэриусу бросились нервные патрульные со смирительными рубашками и совершенно ненужными полицейскими дубинками, где на газоне, взревывая и выбирая место поудобнее, скучились сразу три конкурирующие кареты скорой помощи, преграждая дорогу Хельге Бламм, которая сквозь рыдания грязно оскорбляла водителей, Эдипа вдруг заметила, как луч прожектора выхватил из собравшейся толпы машину мобильной группы ККРС; в ней сидел ее муж Мачо и бойко тараторил в микрофон. Эдипа, уворачиваясь от фотовспышек, проскользнула к нему и сунула голову в окошко автомобиля.
– Привет.
Мачо на секунду выключил микрофон, но лишь молча улыбнулся. Эдипе это показалось странным. Разве кто-нибудь мог услышать улыбку? Стараясь поменьше шуметь, она забралась внутрь. Мачо ткнул микрофон прямо ей под нос.
– Записываем, будь собой, – тихо пробормотал он и затем заговорил серьезным голосом радиодиктора: – Как вы себя чувствуете после этих ужасных событий?
– Ужасно, – сказала Эдипа.
– Прекрасно, – сказал Мачо и попросил Эдипу кратко рассказать слушателям о том, что произошло в офисе. – Спасибо, миссис Эдна Мош, – закончил он, – за описание драматической осады психиатрической клиники Хилэриуса, которой вы были свидетельницей. Это был репортаж второй мобильной группы киннеретской радиостанции; а теперь мы переносимся в студию к Кролику Уоррену. – И выключил питание. Что-то было не так.
– Эдна Мош? – спросила Эдипа.
– Все будет нормально, – сказал Мачо. – Я немного изменил твой голос, а после перезаписи в аппаратной его никто не узнает.
– Куда его забирают?
– В муниципальную клинику, надо полагать, – сказал Мачо. – На обследование. Что там обследовать, интересно?
– Израильтяне, – сказала Эдипа, – должны лезть в окна. Если этого не случится, он и впрямь спятил.
Подошли полицейские и вмешались в разговор. Велели Эдипе оставаться в Киннерете на случай, если придется давать официальные показания. В конце концов Эдипа вернулась к своей взятой напрокат машине и поехала вслед за Мачо на студию. У него был ночной эфир, с часу до шести.
В холле возле комнаты с громко стрекочущими телетайпами Эдипа, оставившая Мачо наверху, в офисе, печатать репортаж, столкнулась с режиссером программы Сизаром Фанчем.
– Как я рад, что вы вернулись, – приветствовал он Эдипу, явно затрудняясь вспомнить ее имя.
– О, – удивилась Эдипа. – И почему же это?
– Честно говоря, – доверительно сообщил Фанч, – после вашего отъезда Уэнделл перестал быть собой.
– И кем же он, блин, стал? – спросила Эдипа, понимая, что Фанч прав, и приходя от этого в ярость. – Ринго Старром? – Фанч съежился. – Чабби Чеккером? – Она теснила его к холлу. – Одним из Праведных Братьев?[87] И при чем тут я?
– Он стал всеми сразу, – сказал Фанч, прикрывая голову. – Миссис Маас…
– О, зовите меня Эдной. Ну, так что там с Мачо?
– За глаза, – горестно подвывая, начал Фанч, – его уже называют братией. Он теряет свою индивидуальность, Эдна, – не знаю, как иначе это назвать. С каждым днем в Уэнделле все меньше собственной личности и все больше личин. Он приходит на совещание, и комната внезапно наполняется людьми, понимаете? Он ходячий собирательный образ.
– Это вам показалось, – заявила Эдипа. – Вы опять курили те сигареты, без указания торговой марки.
– Вы и сами увидите. Не издевайтесь надо мной. Мы должны действовать вместе. Кто, кроме нас, о нем позаботится?
Эдипа сидела на скамейке возле Студии А и слушала, как крутили запись программы Кролика Уоррена, коллеги ее мужа. Мачо спустился вниз с напечатанным текстом, ясный и безмятежный, каким Эдипа его еще никогда не видела. Раньше он немного сутулился и довольно часто моргал, теперь этого и в помине не было.
– Подожди, – улыбнулся он и убежал в холл. Эдипа внимательно рассматривала его со спины, ожидая увидеть радужный ореол или переливчатую ауру.
У них было немного свободного времени до выхода Мачо в эфир. Они поехали в пиццерию с баром, где устроились, глядя друг на друга сквозь линзы высоких стаканов с золотистым пивом.
– Как продвигаются дела с Метцгером? – спросил Мачо.
– Между нами ничего нет, – ответила Эдипа.
– По крайней мере, больше ничего, – уточнил Мачо. – Я это понял, когда ты говорила в микрофон.
– Ну вот и прекрасно, – сказала Эдипа. Его лицо все время неуловимо менялось.
– Это грандиозно, – провозгласил Мачо. – Все было… Погоди. Слушай. – Ничего особенного Эдипа не услышала. – На этой записи звучат семнадцать скрипок, – объяснил Мачо, – и одна из них – не могу сказать которая, потому что запись моноакустическая, черт… – До Эдипы наконец дошло, что он говорит о музыке. Музыка просачивалась и неведомым путем проникала в подсознание с того самого момента, как они вошли в бар: скрипки, деревянные и медные духовые – словом, весь оркестр.
– Что это? – спросила Эдипа, ощущая неясную тревогу.
– Струна «ми», – сказал Мачо, – настроена немного выше. Это не студийный ремесленник. Как по-твоему, можно ли по кусочку кости воссоздать динозавра, а музыканта – лишь по одной такой струне? Или по тем нотам, которые он берет в этой записи? Представь, какое у него должно быть ухо, какая мускулатура рук и кистей, а потом представь всего человека. Бог ты мой, да это же потрясающе.
– Зачем тебе это нужно?
– Он был настоящим. Не синтетическим. Они вообще могли обойтись без живых музыкантов, если бы захотели. Свести вместе нужные тембры с нужным уровнем громкости и получить на выходе звучание скрипки. Вот у меня… – Он застеснялся и расплылся в сияющей улыбке. – Ты решишь, что я спятил, Эд. Но у меня все происходит наоборот. Я слышу все сразу и тут же раскладываю по полочкам. Прямо в мозгу произвожу спектральный анализ. Разделяю аккорды, тембры и слова на частотные характеристики и гармоники при соответствующем уровне громкости и слышу как каждый чистый тон, так и все сразу.
– И как ты это проделываешь?
– У меня словно есть для каждой составляющей отдельный канал, – возбужденно сказал Мачо, – и я могу подключить еще, если понадобятся дополнительные. Добавлю сколько нужно. Не знаю, как это получается, но в последнее время я могу проделывать это и с обычной человеческой речью. Скажи «богатая шоколадная доброта».
– Богатая, шоколадная, доброта, – произнесла Эдипа.
– Да, – сказал Мачо и умолк.
– Ну? И что? – через пару минут спросила Эдипа срывающимся голосом.
– Я заметил это как-то ночью, когда слушал рекламу Кролика. Вне зависимости от того, кто именно говорит, рисунок спектра получается примерно одинаковым, ну там плюс-минус небольшой процент расхождения. Следовательно, у тебя с Кроликом есть нечто общее. Более того. Если разные люди говорят одни и те же слова и мы видим одинаковые спектры, значит, это один и тот же человек, только слова произносятся в разное время, усекаешь? Но время – понятие относительное. Точку отсчета можно установить где угодно, а потом перемещать временные линии каждого человека, пока они не совпадут. И тогда возникнет громадный хор, в котором будет, черт его знает, может, пара сотен миллионов людей, говорящих «богатая шоколадная доброта», – и все они прозвучат в унисон, как один голос.
– Мачо, – сказала Эдипа, раздраженно отгоняя дикое подозрение, – может, на это намекает Фанч, когда говорит, что ты теперь – будто комната, полная людей?
– Так оно и есть, – подтвердил Мачо. – Верно. Как и любой из нас – Он не сводил глаз с Эдипы, переживая картину всеобщего единодушия, как иные переживают оргазм; лицо его было спокойным, добродушным, ласковым. Эдипа его не узнавала. Где-то в закоулках ее сознания зародилась паника. – Теперь, надевая наушники, – продолжал Мачо, – я всякий раз понимаю, что за этим последует. Когда эти ребята поют «Она тебя любит»,[88] то я чувствую – да, любит; она может быть сразу множеством людей из разных частей света, из разных времен, разного цвета и возраста, разных габаритов и силуэтов, может быть дальше или ближе к смерти, но она любит. И слово «тебя» означает всех. И ее саму тоже. Видишь ли, Эдипа, человеческий голос – это сногсшибательное чудо. – Глаза его, отражавшие золотистый цвет пива, были полны энтузиазма.
– Малыш, – беспомощно сказала Эдипа, не зная, что делать, и чувствуя страх за мужа.
Он поставил на стол маленький пластиковый пузырек. Эдипа увидела внутри таблетки, и неожиданно все поняла.
– Это ЛСД? – спросила она. Мачо улыбнулся. – Где взял? – Она уже знала ответ.
– Хилэриус дал. Он расширил рамки своей программы и включил в нее мужей.
– Значит, так, – сказала Эдипа, стараясь говорить серьезно и деловито, – давно ты сидишь на этих таблетках? – Он добросовестно попытался припомнить, но не смог. – Будем надеяться, что привыкание еще не стало необратимым.
– Эд, – Мачо посмотрел на нее с недоумением, – к этому не привыкаешь. Это не одурманивает. Его принимают, потому что от него хорошо. Обретаешь зрение, слух, обоняние и вкус такой остроты, о какой и помыслить не мог. Ибо мир неисчерпаем. Ему нет конца, детка. Ты становишься антенной, через которую еженощно посылаешь свою сущность миллионам, а они в ответ шлют тебе свои. – Теперь он смотрел на нее терпеливым родительским взглядом. Эдипе хотелось заехать ему в челюсть. – Песни ведь не просто о чем-то рассказывают, они существуют и сами по себе, как чистый звук. Это что-то новое. У меня даже сны стали другими.
– Замечательно, – Эдипа яростно откинула волосы. – Кошмаров больше нет? Великолепно. Значит, твоей последней маленькой подружке, кто бы она ни была, и впрямь здорово повезло. Сам знаешь, в этом возрасте им необходим долгий и спокойный сон.
– Нет никакой подружки, Эд. Давай я объясню. Помнишь, раньше я постоянно видел дурацкие сны про автосалон? Я даже не мог говорить с тобой об этом. А теперь могу. Меня это больше не волнует. Там был лишь один знак, который меня пугал. Во сне я спокойно занимался своей обычной работой, и вдруг, без всякого предупреждения, возникал знак. Мы тогда состояли в Национальной Автомобильно-Дилерской Ассоциации. Н. А. Д. А.[89] И под голубым небом торчала скрипучая металлическая вывеска, гласившая «ничто, ничто, ничто». Я просыпался, давясь криком.
Эдипа помнила. Но теперь, пока он принимает эти таблетки, его не сможет испугать ровным счетом ничего. У нее с трудом укладывалось в голове, что в день отъезда в Сан-Нарцисо она видела Мачо в последний раз. Распад личности зашел уже слишком далеко.
– Вот, вот, слушай, – говорил он, – оцени это, Эд. – Но она даже не смогла толком разобрать мелодию.
Когда подошло время возвращаться на студию, Мачо кивнул на таблетки.
– Ты можешь взять их.
Эдипа отрицательно мотнула головой.
– Думаешь вернуться в Сан-Нарцисо?
– Да, сегодня вечером.
– А как же полиция?
– Я уйду в бега.
Больше, насколько могла впоследствии припомнить Эдипа, не было сказано ничего. Возле станции они поцеловались, прощаясь со всем, что было. Уходя, Мачо насвистывал что-то сложное, двенадцатитоновое. Эдипа, оставшаяся в машине, уперлась лбом в рулевое колесо и сообразила, что так и не спросила Мачо о штампе Тристеро на конверте его письма. Но к тому моменту это уже не имело никакого значения.
Вернувшись в мотель, Эдипа увидела возле бассейна Майлза, Дина, Сержа и Леонарда, которые сгруппировались со своими инструментами на бортике и на трамплине, замерев, словно позировали невидимому фотографу для обложки альбома.
– Что здесь у вас происходит? – спросила Эдипа.
– Ваш полюбовник, – ответил Майлз, – Метцгер, подложил свинью Сержу, нашему тенору. Паренек совсем помешался от горя.
– Так оно и есть, миссис, – подтвердил Серж. – Я даже написал по этому поводу песню, в которой изобразил самого себя. И звучит она так:
ПЕСНЯ СЕРЖА
Негоже серферу мечтать
О том, чтоб слиться с серфингисткой
Когда в нощи – как кот, как тать —
Гуляет Гумберт Гумберт склизский.
Он видел в ней нимфетку только,
Я видел – женский идеал:
Она ушла от жизни горькой.
А я остался и страдал.
Пускай ее уж не вернуть.
Другой ловушку я устрою.
Мне ясно виден этот путь
Уроки предков я усвоил.
Вчера я был с одной малюткой,
Сейчас ей ровно восемь лет
Нам будет с ней всегда уютно,
Мы в школе с ней любовь закрутим
И не расстанемся – о, нет.
– Вы хотите мне что-то рассказать, – догадалась Эдипа.
Они изложили суть дела в прозе. Метцгер и подружка Сержа сбежали в Неваду, чтобы пожениться. Серж, припертый к стенке, признался, что свидания с восьмилетней девочкой остаются пока в области воображения, но он постоянно околачивается на игровых площадках, так что в ближайшее время его мечты вполне могут стать реальностью. На телевизоре в номере Эдипы Метцгер оставил записку, в которой просил ее не беспокоиться о наследстве и сообщал, что передал свои полномочия одному из юристов фирмы «Уорп, Уистфул, Кубичек и Мак-Мингус», который с ней свяжется, а с судом по делам о наследствах все уже улажено. Но ни слова о том, что их связывало не только совместное выполнение воли покойного.
Значит, подумала Эдипа, между нами ничего не было, кроме деловых отношений. Пожалуй, следовало бы ощутить классическую печаль, но у нее было полно других забот. Распаковав вещи, она первым делом принялась названивать режиссеру Рэндолфу Дриблетгу. В трубке раздалось, наверное, гудков десять, прежде чем голос пожилой дамы ответил:
– Извините, но нам пока нечего сказать.
– А кто это говорит? – поинтересовалась Эдипа. Вздох.
– Я его мать. Заявление будет завтра в полдень. Его зачитает наш адвокат. – И она повесила трубку.
Что за черт, удивилась Эдипа. Что могло случиться с Дриблеттом? И решила перезвонить позже. А пока нашла в справочнике номер профессора Эмори
Бортца. С ним ей повезло больше. На фоне шумных детских голосов ответила его жена Грейс.
– Он поливает лужайку, – сообщила она Эдипе. – Так мы называем мероприятие, которое он устраивает начиная с апреля. Сидит на солнышке, пьет со студентами пиво и швыряет пивные бутылки в чаек. До этого дело пока еще не дошло, так что лучше всего поговорите с ним сейчас. Максина, лучше бы ты кинула эту штуку в братика, он не такой неуклюжий, как я. Вы слышали, что Эмори подготовил новое издание Уорфингера? Оно выйдет… – Но срок выхода книги Эдипа не расслышала из-за жуткого грохота, маниакального детского смеха и пронзительного визга. – О, Боже. Вы когда-нибудь видели детоубийство? Приходите, такой возможности вам больше не представится.
Эдила приняла душ, надела свитер, юбку и кроссовки, уложила волосы на студенческий манер, слегка подкрасилась. И с какой-то смутной тревогой осознала, что ей важна реакция не Бортца или Грейс, а Тристеро.
Проезжая мимо здания, в котором еще неделю назад располагалась книжная лавка Цапфа, она с ужасом увидела груду обгорелых обломков. В воздухе стоял запах жженой кожи. Эдипа остановила машину и зашла в расположенный по соседству магазин по продаже правительственных товарных излишков. Торговец сообщил ей, что этот чертов кретин Цапф сам поджег свой магазин, чтобы получить страховку.
– Хорошо хоть не было ветра, – проворчал сей достойный гражданин, – а то и мое заведение сгорело бы дотла. Весь этот комплекс построили максимум лет на пять. Но Цапфу было невтерпеж. Книги. Тоже мне товар. – У Эдипы возникло ощущение, будто он не брызжет слюной только потому, что ему не позволяет хорошее воспитание. – Если хотите заняться комиссионной торговлей, – посоветовал он, – выясните, что пользуется наибольшим спросом. Сейчас, например, хорошо идут винтовки. Буквально сегодня один парень купил у меня двести стволов для своей шараги. Я мог бы продать ему в придачу пару сотен нарукавных повязок со свастикой, да только они у меня, как назло, кончились.
– У правительства излишек повязок со свастикой? – удивилась Эдипа.
– Черта с два. – Торговец заговорщицки подмигнул. – Возле Сан-Диего есть небольшая фабрика, – сказал он, – и там можно нанять, скажем, десяток негритосов, которые и будут лепить эти самые повязки. Мелкими партиями они вмиг расходятся. Я дал рекламу в пару журнальчиков, так мне на прошлой неделе пришлось взять еще двух негров, чтобы разобраться с почтой.
– Как вас зовут? – спросила Эдипа.
– Уинтроп Тремэйн, – ответил энергичный предприниматель. – Или просто Уиннер. Слушайте, мы тут как раз договариваемся с одним большим магазином готовой одежды в Лос-Анджелесе, чтобы к осени выставить на продажу эсэсовскую форму. Мы продвигаем ее в рамках рекламной кампании «Здравствуй, школа», подростковые размеры, галифе образца тридцать седьмого года… А в будущем сезоне в случае успеха рассчитываем выйти на рынок с новым вариантом формы для женщин. Что вы на это скажете?
– Я дам вам знать, – ответила Эдипа. – Я о вас не забуду. – И ушла, сожалея, что не обматерила этого типа или не попыталась ударить его каким-нибудь подходящим товаром из числа армейских излишков, первым попавшимся под руку тяжелым и тупым предметом. Свидетелей не было. Может, стоило попробовать?
«Ты курица, – сказала она себе, защелкивая ремень безопасности. – Это Америка, ты живешь в этой стране и допускаешь такое безобразие. Позволяешь этим молодчикам распоясаться». Она помчалась на бешеной скорости по шоссе, охотясь на «фольксвагены». И когда подъехала к дому Бортца, расположенному в прибрежном районе в стиле Лагун Фангосо, ее все еще слегка трясло и подташнивало.
Ей навстречу вышла маленькая толстая девочка с личиком, измазанным чем-то синим.
– Привет, – сказала Эдипа, – ты, наверное, Максина.
– Максина в кроватке. Она бросила одну из папиных пивных бутылок в Чарльза, но попала в окно, и мама ее хорошенько отшлепала. Если б она была моей дочкой, я бы ее утопила.
– Мне бы такое и в голову не пришло, – произнесла Грейс Бортц, материализовавшись из полумрака гостиной. – Входите, – Мокрой тряпкой она принялась вытирать дочке лицо, – Как вам удалось сегодня избавиться от своих?
– У меня нет детей, – призналась Эдипа, проходя за хозяйкой на кухню.
Грейс недоуменно на нее посмотрела.
– У вас такой загнанный вид, – сказала она. – Мне это знакомо. Я думала, что это из-за детей. Выходит, не только из-за них.
Эмори Бортц, свесив ноги, лежал в гамаке в окружении невероятного количества пустых пивных бутылок и трех аспирантов – двух юношей и одной девушки, – разомлевших от пива. Углядев одну непочатую бутылку, Эдипа взяла ее и уселась на траву.
– Мне бы хотелось, – чуть погодя начала она, – кое-что выяснить о подлинном, а не вербальном Уорфингере.
– Подлинный Шекспир, – сквозь окладистую бороду пробурчал один из аспирантов, откупоривая очередную бутылку. – Подлинный Маркс. Подлинный Иисус.
– Он прав, – пожал плечами Бортц. – Они мертвы. И что от них осталось?
– Слова.
– Приведите какие-нибудь строки, – предложил Бортц. – Мы можем говорить только о словах.
– «Отступят звезды, не спасет и вера, – процитировала Эдипа, – От той химеры, что зовут Тристеро». «Трагедия курьера», акт IV, сцена 8.
Бортц, прищурившись, поглядел на нее.
– Как вам удалось, – спросил он, – попасть в библиотеку Ватикана?
Эдипа показала ему эти строки в книге в бумажной обложке. Скосив глаза на страницу, Бортц потянулся за следующей бутылкой пива.
– Боже мой, – воскликнул он, – меня обокрали, и Уорфингера заодно. Нас баудлеризировали[90] наоборот. – И тут же обследовал титульный лист, чтобы посмотреть, кто же выпустил в таком виде подготовленное им издание Уорфингера. – Постыдился даже поставить свое имя. Дьявол. Придется написать в издательство. «К. да Чингадо и Компания». Вы слышали о таком? Нью-Йорк. – Он посмотрел страницу на просвет. – Офсетная печать. – Потом уткнулся носом в текст. – Опечатки. Ха. Ошибки. – С отвращением швырнул книгу на траву. – Но как им удалось попасть в Ватикан?
– А что там, в Ватикане? – спросила Эдипа.
– Там хранится порнографический вариант «Трагедии курьера». Я обнаружил его только в шестьдесят первом году, иначе обязательно упомянул бы в своих примечаниях.
– Но в спектакле, который я видела в «Театре Танка», не было никакой порнографии.
– Постановка Рэнди Дриблетта? Да, по-моему, она вполне целомудренна. – Бортц печально посмотрел мимо Эдипы в небо. – Он был необычайно нравственным человеком. Вряд ли он чувствовал свою ответственность перед словом, но всегда был искренне верен невидимой ауре пьесы, ее духу. Если кто и мог воззвать к жизни подлинного Уорфингера, так это Рэнди. Я не знаю никого, кто так приблизился к пониманию автора этой пьесы, к постижению ее микрокосма таким, каким он, наверное, представлялся самому Уорфингеру.
– Вы говорите о Дриблетте в прошедшем времени, – заметила Эдипа, сразу вспомнив голос старушки по телефону, и сердце у нее защемило.
– Разве вы не слышали? – Все посмотрели на нее. И смерть бесплотной тенью проскользнула над гравой, усеянной пустыми бутылками.
– Позавчера вечером он вошел в Тихий океан, – нарушила молчание аспирантка. Глаза у нее покраснели от слез. – В костюме Дженнаро. Он утонул, и мы собрались, чтобы его помянуть.
– Утром я пыталась ему позвонить. – Эдипа не нашлась, что еще сказать при этом известии.
– Это случилось сразу после того, как разобрали декорации «Трагедии курьера», – добавил Бортц.
Месяц назад Эдипа, не задумываясь, спросила бы почему. Но теперь хранила молчание, словно ожидая, что на нее низойдет озарение.
Они отнимают у меня моих мужчин, подумала она, вдруг ощутив, что взмывает над бездной, словно колеблемая ветром штора на высоком открытом окне, – отнимают их у меня одного за другим. Мой психоаналитик, преследуемый израильтянами, сошел с ума; мой муж под действием ЛСД ползет, как ребенок, из комнаты в комнату, уползая все дальше в свой пряничный домик – в самого себя, все дальше и все безнадежней уходит от того, что, как верилось мне, может сойти за любовь до гроба; мой единственный за всю супружескую жизнь любовник сбежал с разбитной пятнадцатилетней девчонкой; мой лучший проводник в Тристеро покончил с собой. Где я?
– Простите, – произнес Бортц, не мигая глядя на нее.
Эдипа выдержала его взгляд.
– Для своей постановки он пользовался только этим изданием? – спросила она, показывая на книгу в бумажной обложке.
– Нет, – нахмурившись, ответил Бортц. – Он также использовал мое издание в твердом переплете.
– Но в тот вечер, когда вы смотрели спектакль… – Ослепительно яркое солнце играло на разбросанных бутылках. – Как Дриблетт закончил четвертый акт? Какие слова он – то есть Дженнаро – произнес, когда все собрались на берегу озера после чуда?
– «Они служили раньше "Торн и Таксис", – продекламировал Бортц, – Теперь у них хозяин – шип стилета/И рог безмолвный общего секрета».
– Точно, – согласились аспиранты, – да.
– Это все? А остальное? Второе двустишие?
– В тексте, который я считаю основным, – сказал Бортц, – в этом двустишии последняя строка отсутствует. Книга, которая хранится в Ватикане, – всего лишь непристойная пародия. Окончание «От Анжело безжалостных курьеров» было добавлено в ин-кварто 1687 года. Уайтчепеловская версия недостоверна. Так что Рэнди принял единственно верное решение: вообще исключил сомнительное место.
– Но в тот вечер, когда я смотрела спектакль, – возразила Эдипа, – Дриблетт произнес слово Тристеро – значит, он использовал строки из ватиканского текста.
Лицо Бортца не изменилось.
– Что ж, это его право. Ведь он был режиссером и актером, верно?
– Но может, это всего лишь… – Эдипа сделала руками несколько круговых движений. – Всего лишь причуда? Взять и использовать пару лишних строк, никого не предупреждая?
– Рэнди, – вспомнил второй аспирант, коренастый юноша в очках в роговой оправе, – когда его что-то грызло изнутри, так или иначе выплескивал это наружу, обычно на сцене. Он, должно быть, просматривал различные версии пьесы, чтобы уловить ее дух, который не обязательно сводится к словам, и наткнулся на издание в бумажной обложке с этим самым вариантом.
– Тогда, – подытожила Эдипа, – наверное, что-то случилось в его личной жизни, что-то кардинально изменилось для него в тот вечер, и поэтому он вставил именно эти строки.
– Может быть, – сказал Бортц, – а может быть, и нет. Думаете, душа человека так же проста, как бильярдный стол?
– Надеюсь, нет.
– Пойдемте посмотрим кое-какие похабные картинки, – предложил Бортц, выкатываясь из гамака. Они направились к дому, оставив аспирантов допивать пиво. – Незаконно сделанные репродукции иллюстраций к той самой ватиканской версии. Тайно вывезены мною в шестьдесят первом году. Мы с Грейс тогда получили грант и съездили в Ватикан.
Они вошли в комнату, служившую одновременно мастерской и кабинетом. Из глубины дома доносились вопли детей и гудение пылесоса. Бортц задернул шторы, достал коробку со слайдами, выбрал несколько штук, включил проектор и направил его на стену.
Иллюстрации представляли собой гравюры на дереве, выполненные с характерной для любителя поспешностью, вызванной желанием побыстрее увидеть результат. Настоящая порнография – удел безгранично терпеливых профессионалов.
– Имя художника неизвестно, – сказал Бортц, – как неизвестно и имя рифмоплета, сочинившего пародийное переложение пьесы. Здесь Паскуале – помните, один из злодеев? – действительно женится на своей матери, а это сцена, изображающая ночь после свадьбы. – Он вставил следующий слайд. – Улавливаете общую идею? Заметьте, как часто на заднем плане маячит фигура Смерти. Праведный гнев – это возврат к прошлому, ко временам средневековья. Пуритане не были такими жестокими. За исключением разве что скервхамитов. Д'Амико полагает, что это издание – дело рук скервхамитов.
– Скервхамитов?
Во времена правления Карла I[91] некий Роберт Скервхам основал секту пуритан самого крайнего толка. Основной пункт их доктрины был связан с понятием предопределенности. Они различали два вида предопределения. Поскольку скервхамиты считали, что ничто не происходит случайно, мироздание представлялось им огромной сложной машиной. Но одна ее часть, та, к которой принадлежали скервхамиты, следовала воле Божьей – первопричине всего сущего. Остальные же подчинялись некоему противоположному Принципу – слепому, бездушному и жестокому самодвижению, ведущему к вечному проклятию и смерти. С помощью этой идеи они надеялись наставить людей на путь истинный и привлечь их в праведное и богоугодное братство скервхамитов. Однако сами немногочисленные скервхамиты, как зачарованные, с каким-то болезненным ужасом взирали на бессмысленно развеселое механическое кружение обреченных, и это оказалось для секты фатальным. Один за другим скервхамиты соблазнялись манящей перспективой безвозвратной погибели, покуда в секте никого не осталось, и последним ушел Роберт Скервхам, как капитан тонущего корабля.
– Какое отношение к ним имеет Ричард Уорфингер? – спросила Эдипа. – Зачем им понадобилось похабное переложение его пьесы?
– Для нравственного назидания. Они презирали театр. И таким способом хотели окончательно низринуть эту пьесу в ад. Заменить подлинные слова Другими – разве это не лучший способ обречь ее на вечное проклятие? Не забывайте, что пуритане, как и литературные критики, были абсолютно преданы Слову.
– Но в строке с упоминанием Тристеро нет никакой похабщины.
Бортц почесал в затылке.
– По смыслу вполне подходит, верно? «Отступят звезды» – скорее всего, означает бессилие Божьей воли. Даже она не может предупредить или уберечь того, кому предстоит встретиться с Тристеро. Спастись от безжалостных курьеров Анжело можно было бы кучей способов. Скажем, уехать из страны. Анжело – всего лишь человек. Но совсем иное дело – неумолимая Иная Сила, заставляющая нескервхамитскую вселенную функционировать с точностью часового механизма. Очевидно, скервхамиты полагали, что воплощением этой Иной Силы вполне может быть Тристеро.
Эдипе не оставалось ничего иного, как удовлетвориться таким объяснением. Но у нее вновь возникло ощущение головокружительного взлета над бездной, и она все-таки задала тот вопрос, ради которого пришла:
– Что такое Тристеро?
– Это совершенно новая область для исследования, – ответил Бортц. – Она появилась уже после того, как я подготовил издание пятьдесят седьмого года. С тех пор обнаружились интересные источники. Следующее, дополненное издание должно выйти, как мне сказали, в будущем году. А пока… – Он подошел к застекленному книжному шкафу, полному старинных книг. – Вот, взгляните. – И протянул Эдипе книгу в темно-коричневом потрепанном переплете из телячьей кожи. – Я храню мою уорфингериану под замком, чтобы дети не добрались до этих раритетов. Чарльз и так донимает меня вопросами, на которые я по молодости лет не могу ответить.
Книга была озаглавлена «Отчет о необычайных странствиях доктора Диоклетиана Блобба по Италии с приведением поучительных примеров из подлинной истории сей удивительной заморской страны».
– К счастью, – заметил Бортц, – Уорфингер, как и Мильтон, оставил дневники, куда записывал цитаты и свои размышления о прочитанном. Так мы узнали о «Странствиях» Блобба.
– Я ничего не могу прочитать, – сказала Эдипа, увидев непривычные начертания букв и слова, написанные по правилам старинной орфографии.
– Попытайтесь, – предложил Бортц. – А я пока угомоню детей. Если не ошибаюсь, это где-то в седьмой главе. – И исчез, оставив Эдипу перед своей сокровищницей.
Как выяснилось, на самом деле ей была нужна глава восьмая, в которой автор повествовал о встрече с тристеровскими разбойниками. Диоклетиан Блобб решил проделать часть пути по пустынной гористой местности в почтовой карете компании «Торре и Тассис» (что, как догадалась Эдипа, было итальянским вариантом названия «Торн и Таксис»). Когда карета ехала вдоль берега озера Оплакивания, как его окрестил Блобб, ее неожиданно атаковали всадники в черном, которые без единого слова вступили в жестокую схватку на ледяном ветру, дувшем с озера. Налетчики были вооружены дубинками, аркебузами, шпагами и стилетами, а потом воспользовались шелковыми платками, чтобы задушить тех, кто еще подавал признаки жизни. Так они прикончили всех, кроме доктора Блобба и его слуги, которые с самого начала отмежевались от остальных пассажиров, громко заявив, что являются подданными Британии, и во время схватки даже «отважились спеть несколько наиболее ободряющих церковных гимнов». Их спасение удивило Эдипу, особенно ввиду стремления Тристеро к сохранению секретности.
– Возможно, у Тристеро были намерения распространить свое влияние на Англию? – предположил Бортц несколько дней спустя.
Эдипа об этом ничего не знала.
– Но почему они пощадили этого невыносимого болвана Диоклетиана Блобба?
– Такого краснобая видно за версту, – сказал Бортц. – Даже в лютый холод, даже если вас обуяла жажда крови. Если бы я хотел, чтобы слухи обо мне дошли до Англии, хотел, так сказать, подготовить почву для своего появления там, то сразу увидел бы, что Блобб как нельзя лучше подходит для этой цели. В те годы Тристеро тяготело к контрреволюции. А в Англии с ее полубезумным королем вполне можно было рассчитывать на легкую победу.
Собрав тюки с почтой, предводитель головорезов вытащил Блобба из кареты и обратился к нему на чистом английском языке: «Мессир, вы стали свидетелем гнева Тристеро. Знайте: мы не только жестоки, но и милосердны. Сообщите своему королю и парламенту о том, что мы сделали. Скажите им, что победа будет за нами. Скажите, что наших курьеров не остановят ни бури, ни войны, ни дикие звери, ни безводные пустыни, ни тем более наглые узурпаторы наших законных владений». Не тронув и даже не ограбив доктора и его слугу, разбойники в черных плащах, шумно хлещущих, как паруса на ветру, исчезли в сумрачных горах.
Блобб принялся расспрашивать о Тристеро, но почти все, к кому он обращался, хранили молчание. Тем не менее ему удалось собрать кое-какие отрывочные сведения об этой организации. Эдипе тоже удалось кое-что выяснить за последующие несколько дней. Из невразумительных филателистических журналов, которыми ее снабдил Чингиз Коэн, из двусмысленного примечания в книге Мотли[92] «Расцвет Голландской Республики», из памфлета восьмидесятилетней давности о корнях современного анархизма, из найденной в уорфингериане Бортца книги проповедей брата Блобба Августина, а также из сведений, содержащихся в повествовании самого доктора Блобба, Эдипа сумела составить следующее представление о том, как возникла эта организация.
Северные провинции Нидерландов[93] под предводительством ставшего протестантом принца Вильгельма Оранского[94] девять лет сражались за независимость от католической Испании и власти императора Священной Римской Империи. В конце декабря 1577 года принц Оранский, фактический правитель Нидерландов, с триумфом вошел в Брюссель, куда был приглашен Комитетом Восемнадцати. Это был совет фанатиков-кальвинистов, возмущенных тем, что Генеральные штаты,[95] контролируемые представителями привилегированных классов, перестали защищать интересы ремесленников и утратили всякую связь с народом. Комитет основал нечто вроде Брюссельской Коммуны. Под его контролем находилась полиция, он оказывал влияние на все решения, принимаемые Генеральными штатами, и смещал многих высших чиновников в Брюсселе. Среди последних был Леонард I, барон Таксис, член Императорского тайного совета и барон Бёйсингенский, наследный Главный почтмейстер Нидерландов, управляющий почтовой монополией «Торн и Таксис». Он был заменен неким Яном Хинкартом, владетелем Охайна и преданным сторонником принца Оранского. Тут на сцене появляется основатель организации – Эрнандо Хоакин де Тристеро-и-Калаведра, возможно безумец, возможно настоящий бунтарь, а может, как полагали некоторые, просто-напросто самозванец. Тристеро утверждал, что является кузеном Яна Хинкарта и представителем испанской ветви семьи, а значит, подлинным владетелем Охайна и законным наследником всего, что имел в тот момент Ян Хинкарт, включая его новую должность Главного почтмейстера.
С 1578 года до марта 1585-го, когда Александр Фарнезе вернул Брюссель императору, Тристеро вел в некотором роде партизанскую войну против своего кузена – если, конечно, Хинкарт был его кузеном. Будучи испанцем, Тристеро не пользовался поддержкой местного населения. Его жизни постоянно угрожала опасность то с одной, то с другой стороны. Тем не менее он четыре раза, хотя и безуспешно, пытался убить почтмейстера принца Оранского.
Фарнезе сместил Яна Хинкарта, и Леонард I, Главный почтмейстер «Торн и Таксис», вновь занял свое место. Однако для монополии «Торн и Таксис» настали неспокойные времена. Опасаясь усиления протестантских симпатий в богемской ветви семьи, император Рудольф II на время лишил почтовую систему своей поддержки. Почтовая связь стала убыточной.
Вероятно, Тристеро на создание собственной системы вдохновила мечта об охватившей весь континент организации, которая чуть было не досталась Хинкарту, но теперь сильно ослабела и вот-вот могла рухнуть. Тристеро, судя по всему, был человеком весьма изменчивым, способным в любой момент предстать в облике общественного деятеля и произнести речь. Его постоянной темой было лишение наследства. Почтовая монополия принадлежала Охайну по праву завоевания, а Охайн принадлежал Тристеро по праву крови. Себя он стал именовать El Desheredado, Лишенный Наследства, а своих последователей одел в черную униформу. Черный цвет был призван символизировать ночь – единственное, что осталось в распоряжении у изгнанников. Вскоре к своей символике он добавил почтовый рожок с сурдинкой и мертвого барсука, лежащего лапами кверху (кое-кто утверждал, что название «Таксис» происходит от итальянского слова tasso – барсук – и указывает на то, что первые бергамские курьеры носили шапки из барсучьего меха). Тристеро начал тайно чинить всяческие препятствия «Торн и Таксис», бесчинствовать на почтовых маршрутах и грабить их курьеров.
Последующие несколько дней Эдипа ходила по библиотекам и вела серьезные дискуссии с Эмори Бортцом и Чингизом Коэном. Она не была уверена в их безопасности, памятуя о том, что случилось со всеми ее знакомыми. На следующий день после чтения «Странствий» Блобба она вместе с Бортцом, Грейс и аспирантами была на похоронах Рэндолфа Дриблетта, где его младший брат сбивчиво произнес скорбную речь, а мать плакала в полуденном мареве смога; вечером Эдипа вернулась на кладбище и, сидя у могилы, пила мускатель из долины Напа,[96] которого Дриблетт за свою жизнь вылакал немеряно. Было новолуние, смог скрывал звезды, и ночь чернела, как тристеровский всадник. Эдипа сидела на земле, чувствуя, как стынет зад, и размышляла о том, что Дриблетт, возможно, был прав в тот вечер, когда крикнул ей из душевой кабинки, что вместе с ним исчезнет одна из версий ее самой. Возможно, разум продолжает напрягать уже не существующие душевные мышцы, обманутый насмешливым фантомом ее ампутированного «я», – так фантом ампутированной конечности дразнит и не дает покоя человеку, лишившемуся руки или ноги. И возможно, однажды она заменит исчезнувшую часть своего «я» неким подобием протеза – платьем определенного цвета, фразой в письме, новым любовником. Она попыталась мысленно обратиться к тому, что еще – хотя и маловероятно – оставалось закодированной структурой протеина на глубине шести футов под землей и продолжало сопротивляться разложению, к некой упрямой неподвижной сущности, которая, быть может, готовилась к последнему рывку, чтобы продраться сквозь толщу земли, едва мерцая и из последних сил преобразуясь в крылатое существо, стремящееся сразу же влиться в приветливый сонм себе подобных или раствориться навечно во мраке. «Если ты выйдешь ко мне, – взывала Эдипа, – то захвати воспоминание о твоей последней ночи. Или хотя бы о последних пяти минутах – если тебе не унести так много с собой, – этого будет достаточно. И тогда я узнаю, было ли твое погружение в океан как-то связано с Тристеро. Узнаю, избавились ли они от тебя по той же причине, по какой избавились от Хилэриуса, Мачо и Метцгера, – вероятно, решив, что ты мне тоже больше не нужен. Они ошиблись. Ты мне нужен. Поделись этим воспоминанием, и ты пребудешь со мной до конца моих дней, сколько бы мне ни осталось». Ей вспомнилось, как, высунув голову из-под душа, он сказал: «Ты бы могла влюбиться в меня». Но могла ли она спасти его? Она подумала о девушке, которая сообщила ей о его смерти. Может, они любили друг друга? Говорил ли ей Дриблетт, почему он вставил те две строки в текст пьесы? Понимал ли он сам? Теперь уже никто не докопается до причин. Сотни заморочек – секс, деньги, болезни, отчаяние, – связанных и перемешанных с обстоятельствами данного места и времени. Как знать? Изменения в тексте были ничуть не более понятны, чем мотивы его самоубийства. И в том и в другом решении ощущалась некая прихоть. Возможно, – и тут Эдипе на мгновение почудилось, будто светоносное крылатое существо и впрямь проникло в тайники ее души, – возникшее из того же скользкого лабиринта обстоятельств решение добавить эти строки и не должно иметь разумных объяснений; возможно, оно было для него репетицией ночного погружения в пучину изначальной протоплазмы – в Тихий океан. Эдипа ждала, что крылатое существо сейчас заявит о своем благополучном прибытии. Но оно молчало. «Дриблетт, – позвала она. Сигнал, отразившись, пронесся по многомильной цепи нейронов. – Дриблетт!»
Безрезультатно – как и в случае с демоном Максвелла. Либо она не могла установить связь, либо демон не существовал.
В библиотеках Эдипе не удалось выяснить ничего, кроме истории возникновения Тристеро. По сведениям, которые она там обнаружила, эта организация распалась с окончанием борьбы за независимость Нидерландов. Чтобы выяснить что-либо еще, надо было копать со стороны «Торн и Таксис». Здесь тоже были свои подвохи. Бортц видел во всем этом нечто вроде занятной игры. Он, к примеру, придерживался теории зеркального отражения, согласно которой любой период нестабильности для «Торн и Таксис» должен иметь отражение в теневой деятельности Тристеро. И применял эту теорию крещению загадки о том, почему название этой страшной организации всплыло в печати только в середине XVII столетия. Почему автор каламбура «Тристеро dies irae» преодолел свой страх? Каким образом половина двустишия в ватиканской версии, где была выкинута строка с Тристеро, попала в текст ин-фолио? Откуда взялась смелость даже просто намекнуть на соперника «Торн и Таксис»? Бортц утверждал, что, скорее всего, внутри Тристеро произошел какой-то раскол, причем достаточно серьезный, чтобы воздержаться от жестких ответных мер. Возможно, они воздержались от мести, исходя из тех же соображений, по которым сохранили жизнь доктору Блоббу.
Но какой прок в том, что Бортц сплетал пышные словесные розы, под которыми в красноватом пряном сумраке разворачивалась неуловимая темная история? Когда в 1628 году скончался Леонард II Франсис, граф Торн и Таксис, должность почтмейстера по наследству перешла к его жене Александрине Рийской, однако это не было утверждено официально. Она отошла от дел в 1645 году. Истинные руководители монополии оставались неизвестны до 1650 года, когда почтмейстером стал следующий наследник по мужской линии Ламорал II Клод Франсис. Тем временем в Брюсселе и Антверпене начали проявляться признаки упадка почтовой системы. Частные почтовые конторы, получив императорские лицензии, настолько расширили сферу своей деятельности, что в этих двух городах были закрыты конторы «Торн и Таксис».
Чем, спрашивал Бортц, могло ответить Тристеро? Провозгласить себя воинствующей кликой и объявить о наступлении решающего момента. Поддержать насильственный захват власти, пока враг уязвим. Однако могло возобладать консервативное мнение, отдающее предпочтение противостоянию, которое продолжалось уже семь десятилетий. Возможно, в Тристеро имелись свои визионеры – люди, способные возвыситься над текущим моментом и мыслить исторически. И среди них по крайней мере один достаточно здравомыслящий человек, предвидевший окончание Тридцатилетней войны, Вестфальский мир, распад Империи и последующее наступление партикуляризма.
– Мне он видится похожим на Кирка Дугласа,[97] – воскликнул Бортц. – Он вооружен мечом и носит какое-нибудь мужественное имя типа Конрад. Заговорщики собираются в таверне, девицы в крестьянских сарафанах разносят пиво в глиняных кружках, кругом стоит пьяный гвалт, и вдруг Конрад вскакивает на стол. Все замирают. «Спасение Европы, – начинает Конрад, – зависит от почтовой связи. Верно? Нам угрожает анархия драчливых немецких князей, они плетут интриги, вынашивают коварные замыслы друг против друга, ввязываются в междоусобные войны, растрачивая мощь Империи на пустые ссоры. Но те, кто контролирует почтовые маршруты, которыми пользуются эти князья, смогут ими управлять. Со временем эта связь поможет объединить весь континент. Поэтому я предлагаю заключить союз с нашим старинным противником „Торн и Таксис“… Крики: „Нет! Никогда! Гоните в шею этого предателя!“ И тут одна из девиц, юная красотка, сохнущая по Конраду, разбивает кружку о голову самого яростного крикуна. „Вместе, – продолжает Конрад, – мы станем непобедимы. Мы будем осуществлять почтовую связь только под эгидой Империи. Много лет назад нас лишили славного наследия прошлого, но теперь мы унаследуем всю Европу!“ Бурные продолжительные овации.
– Но им так и не удалось предотвратить распад Империи, – заметила Эдипа.
– Итак, – Бортц пропустил замечание мимо ушей, – противостояние консерваторов и поборников активных действий на время приостанавливается, Конрад с горсткой таких же визионеров пытается разрешить противоречия путем переговоров, однако «Торн и Таксис» не желает заключать никаких соглашений, Империя разваливается, стороны исчерпали все возможности, и противники вновь рвутся в бой.
А с распадом Священной Римской Империи, вместе с прочими прекрасными иллюзиями, рухнули законные основания существования «Торн и Таксис». Пышным цветом расцвела паранойя. Если Тристеро удавалось оставаться тайной организацией, а «Торн и Таксис» пребывал в неведении относительно своего противника и того, насколько далеко простиралось его влияние, то неудивительно, что многие их члены уверовали в существование некой высшей силы наподобие слепого машиноподобного антибога скервхамитов. Каким бы ни было это божество, оно было достаточно могущественным, чтобы убивать их конных курьеров, устраивать лавины и оползни на их пути, создавать конкурирующие компании и даже укреплять государственную почтовую монополию – тем самым разрушая Империю. На горизонте маячил призрак нового времени, грозивший послать «Торн и Таксис» ко всем чертям.
Однако в течение последующих полутора столетий паранойя отступает по мере выявления жестокой сущности Тристеро. Могущество, всеведение, неизбывное зло, атрибуты исторического развития, Zeitgeist[98] – все это переносится теперь на образ враждебной организации. Дошло до того, что в 1795 году возникло предположение, будто Тристеро специально затеяло Французскую революцию, чтобы иметь повод издать Прокламацию от 9 фримера[99] III года Республики, положившую конец почтовой монополии «Торн и Таксис» во Франции и Нидерландах.
– Кто же мог такое предположить? – удивилась Эдипа. – Где вы об этом прочитали?
– Да мало ли кому это могло прийти в голову, – сказал Бортц. – А может, ничего такого и не было.
Эдипа не стала спорить. В последнее время выяснение подробностей внушало ей отвращение. Например, она так и не спросила Чингиза Коэна, дал ли его Экспертный комитет какое-нибудь заключение по поводу присланных марок. Она чувствовала, что если еще раз придет в «Вечернюю звезду», чтобы поговорить со старым мистером Тотом о его дедушке, то обнаружит, что старик умер. Кроме того, она так и не собралась написать письмо К. да Чингадо, издателю, каким-то странным образом выпустившему «Трагедию курьера» в бумажной обложке, и даже не поинтересовалась, написал ли ему Бортц. Более того, Эдипа всеми правдами и неправдами старалась избежать разговоров о Рэндолфе Дриблетте. Всякий раз, когда приходила та девушка-аспирантка, которая была на похоронах, Эдипа тут же придумывала предлог, чтобы уйти, чувствуя, что совершает предательство по отношению к Дриблетту и к самой себе. Но все равно уходила, опасаясь, что очередное откровение разрастется до немыслимых размеров, выйдет за пределы разумения и поглотит ее целиком. И когда Бортц как-то спросил, не хочет ли она встретиться с Д'Амико из Нью-Йоркского университета, Эдипа не раздумывая ответила «нет» – слишком нервно и слишком поспешно. Бортц больше об этом не заикался, а она тем более.
Все же однажды вечером она еще раз отправилась в «Предел», не в силах угомониться и избавиться от смутного подозрения, что может обнаружить нечто новое. И обнаружила Майка Фаллопяна, заросшего двухнедельной щетиной, одетого в защитного цвета рубашку навыпуск, мятые солдатские брюки без манжет и ременных петель, камуфляжную куртку, но с непокрытой головой. Он сидел в окружении шлюшек, потягивающих коктейли с шампанским, и мычал непотребные песни. Заметив Эдипу, расплылся в улыбке и помахал ей рукой.
– Потрясно выглядишь, – сказала Эдипа. – Никак в поход собрался? Будешь обучать молодых повстанцев в горах? – Враждебные взгляды девушек преградили все подступы к Фаллопяну.
– Это революционная тайна, – рассмеялся он и, распрямив руки, стряхнул с себя пару-тройку своих сподвижниц. – Пошли прочь, поганки. Мне надо с ней поговорить. – Когда они отошли, он окинул Эдипу сочувствующим, слегка возбужденным и даже немного любовным взглядом. – Ну, как твои поиски?
Эдипа дала ему краткий отчет. Фаллопян молча слушал, и его лицо постепенно приобретало выражение, которое она никак не могла определить. И это ее встревожило. Чтобы как-то его подначить, она сказала:
– Странно, что члены вашей организации не пользуются этой системой.
– Как какие-нибудь подпольщики? – возразил он довольно мягко. – Как отбросы общества?
– Я не имела в виду…
– А может, мы просто еще не вышли на них, – продолжил Фаллопян. – Или они на нас. А может, мы используем П. О. Т. Е. Р. И., только это большой секрет. – Откуда-то начала просачиваться электронная музыка. – Впрочем, на все можно взглянуть и с другой стороны. – Она почувствовала, на что он намекает, и непроизвольно начала скрипеть коренными зубами. Эта нервическая привычка выработалась у нее за последние дни. – Тебе не приходило в голову, Эдипа, что тебя кто-то разыгрывает? Что все это лишь шутка, которую перед смертью придумал Инверэрити?
Да. Но Эдипа упорно старалась об этом не думать, как не задумывалась о том, что когда-нибудь умрет, и лишь иногда чисто случайно у нее мелькала мысль о возможном подвохе со стороны Инверэрити.
– Нет, – ответила она, – это глупо. Фаллопян внимательно посмотрел на нее, и в его взгляде не было ничего, кроме сочувствия.
– Тебе надо, – тихо сказал он, – обязательно надо обдумать такой вариант. Запиши все, чего не можешь отрицать. В уме тебе, по крайней мере, не откажешь. А потом запиши все свои домыслы и предположения. И посмотри, что получается. Сделай хотя бы это.
– Ну да, хотя бы это, – холодно заметила она. – И что дальше?
Фаллопян улыбнулся, как будто своей улыбкой хотел спасти то, что беззвучно рушилось между ними, медленно расползаясь по швам.
– Ради Бога, не впадай в панику.
– Лучше проверить источники, верно? – весело сказала Эдипа.
Фаллопян молчал.
Эдипа подумала, не растрепались ли у нее волосы, не выглядит ли она как впавшая в истерику отвергнутая возлюбленная и не похож ли их разговор на ссору.
– Я знала, что ты изменишься, Майк, – сказала она, вставая, – потому что все, с кем я сталкиваюсь, меняются. Но не в такой степени, чтобы ненавидеть меня.
– Ненавидеть тебя? – Он покачал головой и рассмеялся.
– Если тебе потребуются нарукавные повязки или боеприпасы, загляни в магазин Уинтропа Тремэйна около автострады. «Свастика-Шоппе» Тремэйна. Скажи, что от меня.
– Спасибо, мы с ним уже договорились.
И Эдипа ушла, а Фаллопян в своем кубинско-революционном наряде уставился в пол, поджидая возвращения шлюх.
Так что же все-таки с источниками? Да, она всячески избегала этого вопроса. Однажды ей позвонил Чингиз Коэн и возбужденным голосом пригласил прийти посмотреть на посылку, которую он получил по почте – почте США. Оказалось, что это старинная американская марка, на которой был изображен почтовый рожок с сурдинкой, лежащий лапами кверху барсук и написан девиз: Победа Организации Тристеро Есть Рождение Империи.
– Так вот что значит это слово, – сказала Эдипа. – Кто вам прислал эту марку?
– Один знакомый, – ответил Коэн, листая потрепанный каталог Скотта, – из Сан-Франциско. – Она опять не стала узнавать никаких подробностей, ни имени, ни адреса. – Странно. Он говорил, что не может найти эту марку в каталогах. Тем не менее вот она. В дополнении, посмотрите. – В начале каталога был вклеен листок, на котором под номером 163L1 воспроизводилась эта марка, обозначенная как «Экспресс-почта Тристеро, Сан-Франциско, Калифорния», и указывалось, что она должна располагаться между выпусками местных почтовых отделений номер 139 (Почтовое отделение на Третьей авеню в Нью-Йорке) и номером 140 (Союзное почтовое отделение, также в Нью-Йорке). Эдипа, повинуясь какому-то интуитивному прозрению, тут же глянула на заднюю обложку и обнаружила там ценник книжной лавки Цапфа.
– Ну да, – начал оправдываться Коэн, – я зашел в этот магазин, когда ездил на встречу с мистером Метцгером, пока вы были на севере. Видите ли, это специализированный каталог Скотта по американским маркам. Я им практически не пользуюсь, поскольку специализируюсь на европейских и колониальных марках. Но тут мне стало любопытно, и я…
– Понятно, – сказала Эдипа. Кто угодно мог вклеить это дополнение.
Вернувшись в Сан-Нарцисо, она еще раз просмотрела опись активов Инверэрити. Так и есть, торговый центр, в котором размещались книжная лавка Цапфа и магазин Тремэйна, принадлежал Пирсу. И не только торговый центр, но также и «Театр Танка».
«Ладно, – сказала себе Эдипа, вышагивая по комнате, ощущая внутри холодок предчувствия чего-то поистине ужасного. – Ладно. Никуда не денешься». Все подходы к Тристеро так или иначе связаны с собственностью Инверэрити. Даже Эмори Бортц (который, спроси она его, наверняка подтвердил бы, что приобрел свой экземпляр «Странствий» Блобба в букинистическом магазине Цапфа) преподавал нынче в колледже Сан-Нарцисо, куда покойный вложил немало средств.
И что из этого следует? Что Бортц, равно как и Метцгер, Коэн, Дриблетт, Котекс, моряк с татуировкой в Сан-Франциско, виденные ею курьеры П. О. Т. Е. Р. И., – все они были людьми Пирса Инверэрити, так? Куплены им? Или просто работали на него даром, для собственного удовольствия, ради некоего грандиозного розыгрыша, который он устроил, дабы озадачить, или терроризировать ее, или заставить заняться нравственным самосовершенствованием?
Назовись Майлзом, Дином, Сержем или Леонардом, детка, посоветовала она своему отражению в зеркале сумрачного дня. Впрочем, все равно они определят это как паранойю. Они. Либо ты – без помощи ЛСД или прочих индолениновых алкалоидов – вступила в таинственный, роскошный и насыщенный мир видений, натолкнулась на почтовую систему, с помощью которой энное число американцев по-настоящему общаются друг с другом, оставляя всю ложь, все повседневные заботы, всю скуку душевной нищеты официальной государственной почте; или обнаружила подлинный выход из тупика, нашла средство от неспособности удивляться, которая терзает душу каждого известного тебе американца, да и твою тоже, дорогуша. Либо это всего лишь галлюцинации, либо искусно сплетенный заговор против тебя, заговор, требующий изрядных финансовых вложений и таких изощренных мер, как подделка марок и старинных книг, как постоянное наблюдение за твоими передвижениями, распространение изображений почтового рожка по всему Сан-Франциско, подкуп библиотекарей, наем профессиональных актеров и еще черт (или, скорее, Пирс Инверэрити) знает каких ухищрений – и все за счет наследства способами, которые недоступны твоему неюридическому уму, будь ты хоть трижды душеприказчицей, и этот запутанный лабиринт настолько сложен, что в нем должен быть смысл, далеко выходящий за рамки розыгрыша. Либо все это твои фантазии, высосанные из пальца, и в этом случае, Эдипочка, тебе пора в дурдом.
Таковы были возможные объяснения происходящего. Четыре симметричных предположения. Ни одно из них ей не нравилось, и она надеялась, что все это не более чем игра ее больного воображения. Всю ночь она пребывала в каком-то оцепенении, не в силах даже напиться, и училась дышать в вакууме. Ибо оказалась в пустоте. О Господи, не было никого, кто бы мог ей помочь. Ни единой живой души на всем белом свете. Все что-то замышляли – безумцы, потенциальные враги, покойники.
Ее начали беспокоить старые пломбы в зубах. Порой она всю ночь лежала без сна, уставившись в потолок, озаряемый розоватым свечением неба над Сан-Нарцисо. В иные дни она спала по восемнадцать добытых снотворным часов и просыпалась совершенно разбитой, едва находя в себе силы, чтобы встать. Во время встреч с новым адвокатом по делам о наследстве, дотошным и без умолку тараторящим старичком, Эдипа зачастую могла сосредоточиться лишь на несколько секунд и по большей части молчала или нервно хихикала. Ни с того ни с сего с ней стали случаться приступы тошноты, длившиеся пять – десять минут, которые повергали ее в глубочайшее уныние и так же неожиданно проходили. Ее мучили кошмары, головные и менструальные боли. Как-то она поехала в Лос-Анджелес, наугад выбрала в телефонной книге первую попавшуюся докторшу, пришла на прием, назвалась Грейс Бортц и сказала, что забеременела. Ее направили сдавать анализы. Но на следующий прием Эдипа не явилась.
Чингиз Коэн, прежде такой нерешительный, теперь чуть ли не каждый день донимал ее различными новинками: описанием какой-то марки в стародавнем каталоге Цумштайна, смутным воспоминанием одного знакомого из Королевского филателистического общества о почтовом рожке с сурдинкой, который он якобы видел в каталоге аукциона, состоявшегося в 1923 году в Дрездене; а однажды принес машинописную копию статьи, присланную ему другим знакомым из Нью-Йорка. По его словам, это был перевод статьи, напечатанной в 1865 году в знаменитой «Bibliotheque des Timbrophiles» Жана-Батиста Моэна.[100] Захватывающая, как одна из столь любимых Бортцем костюмных драм, статья повествовала о великом расколе в рядах Тристеро во времена Французской революции. Судя по недавно обнаруженным и расшифрованным дневникам графа Рауля Антуана де Вузье, маркиза де Тур-е-Тассис, в Тристеро нашлись люди, которые никак не могли примириться с исчезновением Священной Римской Империи и рассматривали революцию как временное умопомрачение. Чувствуя себя обязанными помочь своим собратьям-аристократам из Торн и Таксис в преодолении невзгод, они решили выяснить, насколько это семейство заинтересовано в денежных субсидиях. Именно это и раскололо Тристеро на два лагеря. На ассамблее в Милане целую неделю бушевали страсти, споры порождали врагов на всю жизнь, разделяли семьи и даже приводили к кровопролитию. В конечном счете решение о финансовой помощи Торн и Таксис не было принято. Многие консервативно настроенные члены организации, сочтя это коварным заговором, навсегда порвали с Тристеро. «Таким образом, – высокопарно констатировал автор статьи, – организация вступила в мрачную полосу исторического затмения. После сражения при Аустерлице и вплоть до революционных потрясений 1848 года Тристеро влачит жалкое существование, практически полностью лишившись покровительства и поддержки аристократии, занимаясь разве что доставкой корреспонденции анархистов и оставаясь в европейских делах на второстепенных ролях, – например, в Германии в связи с пресловутым Франкфуртским национальным собранием,[101] на баррикадах в Будапеште[102] и, возможно, даже среди часовщиков Юра,[103] готовя их к приходу М. Бакунина. Однако большинство членов Тристеро в 1848–1850 годах бежали в Америку, где они, несомненно, и поныне оказывают услуги тем, кто стремится загасить пламя Революции».
Эдипа показала статью Эмори Бортцу, но отнюдь не с тем возбужденным воодушевлением, с каким сделала бы это всего неделю назад.
– Члены Тристеро, бежавшие от реакции 1849 года, прибыли в Америку, исполненные надежд, – предположил Бортц. – Только что они здесь нашли? – Вопрос прозвучал риторически, скорее как элемент игры. – Сплошные неприятности.
К 1845 году правительство США осуществило великую почтовую реформу, снизив тарифы и вытеснив из сферы почтовых перевозок наиболее независимые компании. В 70 – 80-е годы любая частная компания, осмелившаяся конкурировать с государственной почтовой службой, незамедлительно уничтожалась. Для тристеровских эмигрантов 1849–1850 годы были не самым подходящим временем, чтобы продолжать дело, от которого им пришлось отказаться в Европе.
– И они остались в Штатах, соблюдая конспирацию, – продолжил Бортц. – Прочие иммигранты ехали в Америку в поисках свободы от тирании, с желанием укорениться, ассимилироваться в здешней культуре, в этом плавильном котле. С началом Гражданской войны многие из них, будучи либералами, пошли сражаться за сохранение единства Соединенных Штатов. Но только не члены Тристеро. Они лишь сменили объект противодействия. К 1861 году они достаточно окрепли и не опасались подавления. Если «Пони Экспресс» бросает вызов пустыням, дикарям и разбойникам, то Тристеро посылает своих курьеров тайными путями, отдавая распоряжения на диалектах сиу и атапасков. Переодетые индейцами, они мчат на запад. И каждый-раз достигают побережья без малейших признаков усталости и без единой царапины. Теперь основное внимание они уделяют молчанию, имперсонации, оппозиции, прикидывающейся лояльностью.
– А что вы думаете по поводу этой марки Коэна? С девизом: «Победа Организации Тристеро Есть Рождение Империи».
– Раньше они не очень скрывали свои планы. Впоследствии, когда федералы стали наседать, они начали выпускать марки, которые выглядели как настоящие, но не совсем.
Эдипа знала их наизусть. На 15-центовой темно-зеленой марке выпуска 1893 года, посвященной выставке в честь открытия Америки Колумбом («Колумб объявляет о своем открытии»), лица трех курьеров справа, получающих послание, были чуть-чуть изменены так, что выражали безотчетный ужас. На 3-центовой марке серии «Матери Америки», выпущенной в День матери[104] 1934 года, цветы слева у ног «Матери» Уистлера[105] были заменены росянкой, белладонной, ядовитым сумахом и другими растениями, которых Эдипа не знала. На марке 1947 года, выпущенной в честь столетия великой почтовой реформы, положившей конец частным почтовым компаниям, голова конного курьера «Пони Экспресс» была как-то противоестественно повернута. На лице Статуи Свободы, изображенной на темно-фиолетовой 3-центовой марке 1954 года, играла едва различимая зловещая улыбка. На марке выпуска 1958 года, посвященной выставке в Брюсселе, был изображен павильон США, и чуть в стороне от крошечных фигурок посетителей безошибочно просматривался силуэт всадника на лошади. Кроме того, были еще марки «Пони Экспресс», которые Коэн показывал Эдипе во время их первой встречи: 4-центовая с Линкольном и надписью «Путча США» и 8-центовая «авиа», которую она видела на письме татуированного моряка в Сан-Франциско.
– Что ж, все это интересно, – сказала Эдипа, – если статья подлинная.
– Это, наверное, нетрудно проверить, – заметил Бортц, глядя ей прямо в глаза. – Не хотите?
Зубная боль мучила ее все сильнее, и во сне Эдипа слышала чьи-то злобные голоса, от которых не было спасения; они звучали невесть откуда – казалось, сейчас кто-то выйдет из полумрака зеркал и поведет ее в пустые комнаты. Никакой гинеколог не мог бы определить, чем она беременна.
Однажды ей позвонил Коэн, чтобы сообщить, что уже все готово для продажи филателистической коллекции Инверэрити на аукционе. Тристеровские «подделки» выставлялись на продажу как лот 49.
– Но есть одна тревожная новость, мисс Маас, – добавил он. – Появился никому не известный заочный покупатель, о котором ни я, ни местные фирмы ничего не слышали. Такое случается чрезвычайно редко.
– Что случается?
Коэн объяснил, что есть очные покупатели, которые лично участвуют в аукционе, и заочные, которые присылают предложение цены по почте. Эти предложения вносятся фирмой, проводящей аукцион, в специальную книгу. Как правило, имена заочных покупателей не подлежат разглашению.
– Тогда откуда вы знаете, что этот покупатель никому не известен?
– Слухами земля полнится. Все чрезвычайно таинственно, он действует через агента К. Морриса Шрифта, достойнейшего человека с безупречной репутацией. Вчера Моррис связался с аукционерами и сказал, что его клиент выразил желание заранее рассмотреть лот 49, то есть наши «подделки». Обычно этому никто не препятствует, если известно, кто хочет увидеть лот, и при условии, что будут оплачены все почтовые расходы и страховка, а лот возвращен в течение двадцати четырех часов. Однако Моррис напустил туману, не пожелал назвать имени клиента и вообще отказался что-либо о нем рассказать. Сказал только, что, насколько ему известно, его клиент – человек нездешний. А поскольку организаторы аукциона – люди консервативные, они, естественно, извинились и сказали «нет».
– И что вы об этом думаете? – спросила Эдипа, уже и так о многом догадываясь.
– Возможно, этот таинственный покупатель – представитель Тристеро, – ответил Коэн. – Вероятно, он увидел описание лота в каталоге аукциона. И не хочет, чтобы свидетельство существования Тристеро оставалось в руках у непосвященных. Любопытно, какую он предложит цену?
Эдипа вернулась в мотель и до захода солнца пила бурбон, пока в номере не стало мрачно донельзя. Тогда она вышла, села в машину и какое-то время мчалась по шоссе, выключив фары, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Но ангелы ей благоволили. Вскоре после полуночи она оказалась в телефонной будке в каком-то безлюдном, незнакомом и неосвещенном районе Сан-Нарцисо. Набрала номер справочной в Сан-Франциско и попросила соединить с баром «Греческий путь». Когда ей ответил чей-то музыкальный голос, Эдипа описала прыщавого, лохматого анонимного амурчика, с которым повстречалась там, и принялась ждать; необъяснимые слезы наворачивались ей на глаза. С полминуты она слышала лишь звон стаканов, взрывы смеха, звуки музыкального автомата. Наконец амурчик взял трубку.
– Это Арнольд Снарб, – произнесла Эдипа, задыхаясь.
– Я был в туалете для голубых, – объяснил он. – Мужской был занят.
Она поспешно, стараясь уложиться в минуту, рассказала ему все, что узнала о Тристеро и что случилось с Хилэриусом, Мачо, Метцгером, Дриблеттом, Фаллопяном.
– Вы единственный, кто у меня остался, – сказала она. – Я не знаю, как вас зовут, и не хочу знать. Но мне надо знать, сговорились они с вами или нет. Устроили нам случайную встречу, чтобы вы рассказали мне о почтовом рожке. Может, вы просто согласились участвовать в этом розыгрыше, но для меня несколько часов назад это перестало быть шуткой. Я напилась, села в машину и помчалась по шоссе. В следующий раз могу выкинуть что-нибудь похлеще. Во имя всего святого или просто во имя человеческой жизни – как вам больше нравится – прошу вас, помогите мне.
– Арнольд, – произнес он. И последовала долгая пауза, заполненная гудением бара.
– Все, хватит, – сказала Эдипа, – я сыта ими по горло. Я больше не играю в их игры. Вы свободны. Сами себе хозяин. Теперь можете все сказать.
– Слишком поздно.
– Для меня?
– Нет, для меня. – И прежде чем Эдипа успела спросить, что он имеет в виду, он повесил трубку. Монет больше не было. Пока она найдет, где разменять банкноту, он уйдет. Она застыла между телефонной будкой и взятой напрокат машиной, чувствуя свое абсолютное одиночество в ночи. Попыталась встать лицом к морю, но поняла, что утратила ориентацию. Развернулась на одном каблуке и не смогла определить, с какой стороны горы. Как будто исчезли все преграды между ней и остальным миром. Исчез и Сан-Нарцисо, утратив остатки своеобразия, вновь стал всего лишь названием и слился с рельефом и почвой американского континента (мгновенно и полностью скрылся за горизонтом, и в звездной бездне чуть слышно прозвучал чистый, гармоничный аккорд). Пирс Инверэрити действительно был мертв.
Эдипа пошла по железнодорожным путям, проложенным параллельно автостраде. От основного пути то и дело отходили ветки к заводам и фабрикам. Вполне возможно, они тоже принадлежали Пирсу. Впрочем, какая разница, коль скоро ему принадлежал весь Сан-Нарцисо? Сан-Нарцисо – всего лишь название, случайное завихрение, зафиксированное среди прочих погодных изменений в области сновидений, воспоминание наяву об увиденном во сне – шквальный порыв ветра или удар торнадо на фоне более значимых, охватывающих весь континент процессов: воздушные потоки нужды и страданий, превалирующие ветры власти и богатства. Все было в непрестанном движении, Сан-Нарцисо не имел границ. Никто не мог их прочертить – пока. Решив несколько недель назад извлечь смысл из наследия Инверэрити, Эдипа и не подозревала, что доставшееся ей наследство было Америкой.
Как получилось, что Эдипа Маас стала его наследницей? Что было сказано или зашифровано в завещании? Может, Пирс и сам этого до конца не понимал и просто действовал в тот момент под влиянием какой-то безудержной страсти, какой-то новой мысли или озарения? Эдипа знала, что уже никогда не сможет вызвать в памяти образ покойного и хотя бы в воображении поговорить с ним, заставить его отвечать, но в то же время хотела найти выход из той тупиковой ситуации, в которую он ее завел, и разгадать ту загадку, которую он сотворил.
Хотя он никогда не говорил с ней о делах, Эдипа понимала, что в нем была какая-то часть, которая, словно бесконечная десятичная дробь, оставалась неисчерпаемой, сколько знаков после запятой ни назови; ее любовь в любом случае была несоизмерима с его жаждой обладания, с его стремлением к преобразованию окружающего мира, преодолению личных амбиций, увеличению доходов. «Крути педали, – сказал он однажды. – Крути педали – вот и весь секрет». Составляя завещание и чувствуя приближение конца, Пирс наверняка понимал, что после его смерти это вращение прекратится. Возможно, он упомянул Эдипу в завещании лишь для того, чтобы разбередить душу своей бывшей любовницы, будучи цинично уверенным, что навсегда стерт из ее памяти и поэтому может напомнить о себе только таким способом. Ведь он вполне мог затаить в глубине души горькую обиду на нее и на весь мир. А она этого просто не замечала. Возможно, он сам что-то узнал о Тристеро, зашифровал все в завещании и заранее приобрел достаточное количество различных объектов, чтобы направить ее по нужному следу. А может, он с помощью этой паранойи пытался победить смерть, устроив форменный заговор против той, которую любил. Не окажется ли в конечном счете это своеобразное извращение таким сильным, что его не одолеет даже смерть; не родился ли этот сложный план сразу во всех деталях, с учетом всех возможностей, в его серьезном вице-президентском мозгу, и темный Ангел не смог ему помешать? Неужели какая-то часть плана удалась, и Инверэрити этого хватило, чтобы победить смерть?
Тем не менее, опустив голову, с трудом шагая по шлаковой насыпи вдоль вереницы старых спальных вагонов, Эдипа понимала, что оставалась еще одна возможность. Что все это было правдой. Что Инверэрити умер, только и всего. Предположим (о, Господи), что действительно существует некая система Тристеро, с которой она столкнулась совершенно случайно. Коль скоро Сан-Нарцисо и собственность Пирса ничем не отличались от любого другого города и любой другой собственности, то при такой одинаковости она могла обнаружить Тристеро в любом месте Республики, выбрав любой из сотен слегка замаскированных въездных путей, любую форму отчуждения – если бы только смотрела в оба. На мгновение Эдипа замерла между стальными рельсами. Она вдруг ощутила их тяжелое, напряженное присутствие и, вскинув голову, будто для того, чтобы понюхать воздух, наглядно представила – словно увидев яркую карту в небесах: эти рельсы соединяются с другими, следующими, пересекаются и сплетаются с ними, усугубляя черноту ночи, придавая ей подлинность. Если б только она смотрела в оба.
Ей вспомнились старые пульмановские вагоны, брошенные там, где кончились деньги или иссякли потоки пассажиров, среди зеленых равнин, и теперь служившие хижинами, вокруг которых сушилось белье, а из жестяных труб лениво курился дымок. Не с помощью ли Тристеро поддерживали скваттеры связь друг с другом? Не они ли способствовали сохранению системы на протяжении тех 300 лет, что она была лишена законного наследства? Они наверняка давно забыли, что именно должно было унаследовать Тристеро, как, вероятно, забудет об этом и Эдипа. Да и что может достаться им в наследство? Америка, зашифрованная в завещании Инверэрити, – чья она? Эдипа вспомнила о товарных вагонах, тоже превращенных в жилье; рядом с ними на досках сидели дети и радостно подпевали карманному радиоприемнику своей мамаши; подумала о прочих незаконных поселенцах, которые устраивали брезентовые навесы позади рекламных щитов или ночевали на свалках в раскуроченных остовах «плимутов», а иногда, обнаглев, проводили ночь на столбе в палатке линейного монтера, свернувшись гусеницами в паутине телефонных проводов, обживаясь в средоточии небожественного чуда электросвязи и не испытывая ни малейшего беспокойства от всенощного беззвучного течения тока по многомильным проводам, несущим сотни тысяч неслышных слов. Она вспомнила о бродягах-американцах, которые говорили с ней на своем языке так чисто и правильно, как будто были изгнанниками из какой-то иной земли, никому не известной и в то же время совпадающей с той хваленой страной, в которой она жила; вспомнила о странниках, внезапно возникающих и исчезающих в свете фар, так и не подняв головы, бредущих ночью вдоль дороги, слишком далеко от каких-либо поселений, чтобы идти куда бы то ни было с определенной целью. И вспомнила голоса, которые слышала до и после голоса покойного Пирса, позвонившего в самый мрачный и томительный час ночи, выбрав наугад из десяти миллионов возможных комбинаций цифр единственную, дабы свершилось магическое соединение с Другой Душой и с ней установилась связь, пробившись сквозь вой реле и монотонные литании оскорблений, ругательств, фантазий, признаний в любви, из монотонного повторения которых должно однажды родиться несказанное действие, признание, Слово.
Сколько людей знают о тайне и об изгнании Тристеро? Интересно, что сказал бы судья на предложение взять и распределить часть наследства между безымянными тристерианцами? Бог ты мой. Да он в ту же секунду даст ей пинка под зад, аннулирует завещательный документ; ее обзовут по-всякому, ославят на весь апельсиновый штат как сторонницу перераспределения собственности и розовую либералку, а старичка из конторы «Уорп, Уистфулл, Кубичек и МакМингус» сделают управляющим имуществом умершего по назначению суда, – и все, детка, больше никаких тайн, созвездий смыслов, теневых наследников. Как знать? Возможно, ее доведут до того, что она вступит в Тристеро, если эта организация действительно существует, пребывая в безвестности, в отчуждении, в ожидании. Главное – в ожидании: если не нового сочетания возможностей взамен тех, которые предопределили возникновение Сан-Нарцисо, воспринятого нежной плотью этой земли без содрогания и вскрика, то, по крайней мере, в ожидании того, что симметрия равновероятных возможностей будет нарушена и все пойдет наперекосяк. Эдипа кое-что слышала о законе исключения третьего[106] – дерьма, которого следовало всячески избегать. Но почему это случилось здесь, в стране, изначально имевшей все шансы для многих путей развития? Теперь же эта страна напоминала огромную электронно-вычислительную машину, и повсюду, куда ни посмотри, как балансиры, болтались нули и единицы – справа, слева, впереди, сливаясь в бесконечности. За иероглифами улиц был либо трансцендентный смысл, либо просто земля. В песнях, которые пели Майлз, Дин, Серж и Леонард, была либо доля божественной красоты истины, либо всего лишь звуковой спектр (во что нынче уверовал Мачо). Освобождение торговца свастикой Тремэйна от холокоста было либо несправедливостью, либо нехваткой духа; кости американских солдат покоились на дне озера Инверэрити либо по какой-то действительно важной причине, либо исключительно на потребу курильщикам и любителям подводного плавания. Единицы и нули. Так образуются пары оппозиций. В доме престарелых «Вечерняя звезда» либо достигнут в некотором роде достойный компромисс с Ангелом Смерти, либо жизнь там есть каждодневное, утомительное приготовление к смерти и умирание. Еще один смысл, скрытый за очевидным, или вообще никакого. Либо Эдипа пребывает в экстатической круговерти настоящей паранойи, либо Тристеро действительно существует. Либо за видимостью унаследованной ею Америки существует что-то вроде Тристеро, либо есть только Америка, а если есть только Америка, то единственным способом существования и обретения хоть какой-то значимости для Эдипы было отчуждение, не тронутое цивилизацией, вписанное в полный круг паранойи.
На следующий день, собравшись с духом, как в самый решительный момент, когда уже нечего терять, она позвонила К. Моррису Шрифту, чтобы выяснить хоть что-нибудь о его таинственном клиенте.
– Он решил лично принять участие в аукционе, – единственное, что сообщил ей Шрифт. – Так что, возможно, вы его там увидите. – Возможно.
Аукцион, как и планировалось, начался в воскресенье днем в одном из самых старых (еще довоенной поры) зданий Сан-Нарцисо. Эдипа пришла одна за несколько минут до начала, в холодном холле, пропахшем воском и бумагой, с блестящим паркетом красного дерева, она встретила Чингиза Коэна, который, увидев ее, искренне смутился.
– Ради Бога, не подумайте, что это конфликт интересов, – с серьезным видом промямлил он. – Просто я не мог удержаться от искушения посмотреть выставленные здесь чудесные мозамбикские треугольники. Позвольте узнать, будете ли вы участвовать в торгах, мисс Маас.
– Нет, – сказала Эдипа, – я пришла из чистого любопытства.
– Нам повезло. Сегодня будет выкрикивать Лорен Пассерина, лучший аукционист на Западе.
– Что будет делать?
– Мы говорим, что аукционист «выкрикивает» лот, – пояснил Коэн.
– У вас ширинка расстегнута, – прошептала Эдипа.
Она смутно представляла, что будет делать, когда таинственный покупатель заявит о себе. У нее мелькнула смутная мысль, что можно закатить бурную сцену так, чтобы пришлось вызвать полицию, и тогда выяснится, кто в действительности этот человек. Она стояла в пятне солнечного света среди кружащих пыльных блесток, стараясь согреться и гадая, что еще можно сделать.
– Пора начинать, – сказал Чингиз Коэн и подал ей руку.
В аукционном зале сидели мужчины в черных шерстяных костюмах, с бледными, жесткими лицами. Каждый, глядя на входящую Эдипу, старался скрыть свои мысли. Над конторкой, словно кукловод, возвышался Лорен Пассерина; глаза его сверкали, профессиональная улыбка не сходила с лица. Он пристально посмотрел на нее, улыбаясь, будто хотел сказать: «Я удивлен, что вы пришли». Эдипа села подальше от всех в конце зала и принялась разглядывать затылки и шеи сидящих впереди, стараясь угадать, кто из них ее искомый незнакомец, ее враг, а может быть, свидетель. Ассистент аукциониста закрыл дверь в холл с солнечными окнами. Эдипа услышала, как щелкнул замок и отозвался легким эхом. Пассерина вскинул руки, словно жрец какого-то туземного племени, как будто взывая к ангелу, сходящему с небес. Аукционист прочистил горло. Эдипа уселась поудобней и стала ждать, когда начнут выкрикивать лот 49.
1
В интервью А. Аппелю Набоков утверждает, что не помнит Пинчона и не знаком с его произведениями. Однако из примечания Аппеля следует, что «миссис Набокова, выставлявшая вместо мужа оценки за экзаменационные работы, запомнила Пинчона, но только благодаря его «необычному» почерку: половина букв печатные, половина – письменные». (Набоков В. В. Собр. соч. в 5 томах. Т. 3. СПб.: Симпозиум, 1997, с. 604.)
2
Thomas Pynchon. Slow Learner. P. 6–7.
3
Леви-Стросс К. Печальные тропики. Львов, М., 1999. 542–543.
4
Tanner T. The City of Words: American Fiction 1950–1970. N. Y., 1971. P. 152.
5
Такая почтовая система действительно существовала в Европе и управлялась немецким дворянским родом Турн-унд-Таксис сначала как имперская, а после 1806 г. как частная. Предки этого рода, носившие фамилию Тассис, осуществляли курьерские перевозки в Италии примерно с 1290 года. Франц фон Таксис, с 1489 г. служивший главным почтмейстером при римском императоре Максимилиане I, а с 1504 г. – при короле испанском Филиппе 1, получил право осуществлять доставку как правительственной, так и частной почты на территории Священной Римской Империи и в Испании и основал первую общедоступную почтовую службу. На протяжении трех с половиной веков различные ветви этого семейства управляли почтовой службой в Испании, Германии, Австрии, Италии, Венгрии и в Нидерландах, используя до Двадцати тысяч курьеров. С 1852 г. выпускали почтовые марки. В 1867 г. последняя почтовая система Торн и Таксис была выкуплена и национализирована правительством Пруссии. На гербе этого рода был изображен изогнутый рожок, который по сей день остается символом почтовой службы во многих европейских странах.
6
Заметим, кстати, что логический закон исключения третьего Эдипа называет «дерьмом, которого следовало всячески избегать».
7
Естественно, это не единственный возможный смысл, заложенный в названии романа. В английском «The crying of lot 49» можно без труда усмотреть еще несколько значений, поскольку глагол cry имеет значение «плакать, оплакивать», а существительное lot значит «участь, судьба, жребий, удел», к сожалению, при переводе втиснуть все это в название невозможно.
8
Таппервэрская вечеринка – рекламное мероприятие в форме вечеринки, где гости покупают разные мелкие предметы (например, пластмассовую посуду), а хозяева получают часть вырученных денег. Собственно таппервэр – это вид пластмассовых изделий.
9
Фондю – приправа из плавленого сыра с добавлением сухого белого вина или бренди; используется как горячий соус для кусочков хлеба и пр.
10
Масстлан – порт на западе Мексики в штате Синалоа.
11
Барток, Бела (1881–1945) – венгерский композитор, один из виднейших представителей венгерской музыкальной культуры, лауреат Международной премии мира (посмертно, 1955). Концерт для оркестра написан им в 1943 г.
12
Джей Гулд (1836–1892) – американский финансист.
13
Киннерет (или Галилейское море) – большое озеро в Израиле. В данном случае – вымышленное место в Калифорнии. В 1954 г. там же был открыт одноименный детский лагерь.
14
ricotta – мягкий итальянский сыр.
15
Мирлитон, или Казу (Kazoo) – духовой инструмент с характерным жужжащим звучанием.
16
Форт Уэйн – городок в штате Индиана. Сеттеченто (Scttccento) – восемнадцатый век (итал.).
17
«Сайентифик Америкэн» – американский научный журнал.
18
Телешоу Хантли и Бринкли – популярная информационная передача, транслировалась Эн-би-си с 1965 по 1970 г.
19
Пачучо (исп.) – подросток, принадлежащий к молодежной уличной банде. Chinga (исп.) – мужской половой орган. Maricon (исп.) – педераст.
20
Ламонт Крэнстон – появившийся в 1934 г. герой популярного детективного радиосериала «Тень», выходившего раз в неделю. Роль Ламонта Крзнстона исполнял совсем молодой тогда Орсон Уэллс.
21
Джек Леммон (1925) – известный американский киноактер, обладатель «Оскара» за главную мужскую роль в фильме «Спасите тигра» (1973, реж. Джон Эвилдсен). Снялся в шестидесяти с лишним фильмах. Прославился в комедиях («В джазе только девушки», 1959, реж. Билли Уайлдер; «Большие гонки», 1965, реж. Джон Франкенхаймер).
22
ККРС – Киннеретская коротковолновая радиостанция.
23
Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта, от запаса знаний, а также от психического состояния человека в момент восприятия.
24
Фу-Манчу – один из литературных гениев зла, герой детективов Сакса Ромера и ряда фильмов по мотивам его произведений. Первый из этих фильмов вышел в 1932 г. («Маска Фу-Манчу», реж. Чарльз Брэбин, в заглавной роли выступил Борис Карлофф).
25
Перри Мэйсон – герой многочисленных детективных романов Эрла Стэнли Гарднера и ряда фильмов по мотивам его произведений, которые экранизировались с середины 30-х гг. Адвокат, как правило, изобличающий преступника на судебном процессе. В сериале, о котором идет речь, роль Перри Мэйсона исполнял Рэймонд Бэрр.
26
Рапунцель – героиня сказки братьев Гримм, очень скромная принцесса с длинными-длинными косами. Также растение семейства колокольчиковых, полевой салат.
27
Ремедиос Варо (1913–1963) – испанская художница, чьи сюрреалистические картины Пинчон мог видеть в Мексике.
28
Bordando el Manto Terrestre – «Вышивая по лику земному» (исп.).
29
Фраг и сейм – танцы, ставшие популярными среди молодежи в середине 1960-х гг. Вот, к примеру, в каком контексте их упоминает Элдридж Кливер (американский писатель, один из лидеров негритянского движения): «Белая молодежь уже начинает выражать свое отношение к тому факту, что „американский образ жизни“ стал пережитком истории. Молодым людям наплевать, что лысеющим или коротко остриженным взрослым не нравятся их первобытные патлы. Им тем более наплевать, что их твердолобые предки не въезжают в новомодные танцы: фраг, манки, джёрк, свим, ватуси. Главное – им самим клёво свинговать всем телом под невообразимые ритмы, а не волочиться по танцплощадке, наподобие зомби, под заунывное бряцание смертельно тоскливой музыки» («Белая раса и ее герои», 1968).
30
«Золотое дно» – один из самых долгих и успешных американских телесериалов (1959–1973), действие которого происходит на Диком Западе.
31
Гелиболу – порт на Галлипольском полуострове в Турции, где во время Первой мировой войны проходила так называемая Галлипольская (или Дарданелльская) операция. Англо-французские войска безуспешно пытались сломить сопротивление турецких войск и, понеся большие потери, эвакуировались в Грецию.
32
Додеканес – группа островов в Эгейском море у юго-западного побережья полуострова Малая Азия.
33
Книга Мертвых – зд. древнеегипетское собрание погребальных текстов, в основном заклинаний, на папирусных свитках, которые клали вместе с умершими. Своего рода руководство к поведению в загробном мире. Первое собрание этих текстов было опубликовано в 1842 г. немецким египтологом Карлом Ричардом Лепсиусом. Возможно, также имеется в виду Тибетская Книга Мертвых («Бардо Тёдол»), впервые изданная на английском в 1927 г., а в 1955-м переизданная с предисловием К. Г. Юнга.
34
Кефез – место в Дарданеллах, где затонуло много подводных лодок во время I Мировой войны.
35
АНЗАК (англ. ANZAC – The Australian and New Zealand Army Corps) – Австралийско-Новозеландский армейский корпус.
36
Упоминается реально существовавший пароход, спущенный на воду в 1905 г.
37
Судд-зль-Бар – город на побережье Дарданелльского пролива. Во время I Мировой там располагались турецкие укрепления.
38
Шивари – так в западных штатах Америки называют шутливую серенаду для новобрачных. Искаж. фр. charivari.
39
Фигуры Лесажа – серия плоских кривых, описываемых предметом, выполняющим взаимно перпендикулярные гармонические движения. Названы по имени французского физика Жюля Лесажа (1822–1880).
40
Карл-Хайнц Штокхаузен (1928) – немецкий композитор, крупнейший представитель современной классической музыки.
41
Самтер – форт на юго-востоке Южной Каролины в гавани Чарльстона. С бомбардировки этого форта войсками конфедератов 12 апреля 1861 г. началась гражданская война Севера и Юга.
42
Действительно есть и такой город, и пляж на западе Калифорнии.
43
Библейский пояс – южная часть Среднего Запада США.
44
Общество Джона Берча – ультраконсервативная организация, созданная в декабре 1958 г. Робертом Уэлчем-младшим якобы для борьбы с коммунистической деятельностью в США.
45
Л.А. – Лос-Анджелес.
46
ЧПС – частная почтовая служба.
47
«ар нуво» (фр. art nouveau – новое искусство) – распространенное в некоторых странах названия стиля «модерн».
48
Sfacim – Что-то вроде «едрить тебя…» В романе «V.» есть указание, что источником Пинчону послужило итальянское слово sfacimento, означающее «распад», «гниение». Однако по-английски слово звучит непристойно.
49
Adeste Fideles – «Придите, праведники» (лат.) – рождественская песнь.
50
Дарроу, Кларенс Сьюард (1857–1938) – известнейший американский адвокат 30-х гг., блестящий оратор. Выиграл знаменитый «обезьяний процесс», на котором отстаивал право преподавать в школах теорию Дарвина. Больше всего прославился «процессом Леба и Леопольда», на котором спас от смертной казни двух заведомых убийц, но столь ярко и красочно расписывал присяжным последние часы и муки смертников, что оба подсудимых забились в истерике.
51
Озеро Оплакивания (шпал.).
52
«Штукер» – немецкий двухместный одномоторный пикирующий бомбардировщик. Использовался «Люфтваффе» до конца Второй мировой войны.
53
«Лесная поляна» – знаменитое кладбище в районе Глендейл Лос-Анджелеса, на котором похоронены многие голливудские знаменитости.
54
Остеолизис – медленно протекающие костные заболевания.
55
Пентекост – Пятидесятница, Троицын день.
56
Бегунок – в оригинале Road Runner (Калифорнийская земляная кукушка) – птичка, героиня мультфильма, которая постоянно убегает от злобного койота по имени Вилли.
57
Хэп (точнее – Хоп) Харриган – герой многочисленных радиошоу и фильмов сороковых годов.
58
Знаменитый американский актер Джон Уэйн (1907–1979) больше известен как исполнитель ролей ковбоев и шерифов в вестернах, но к моменту выхода романа он уже снялся в нескольких фильмах о Второй мировой, где, как правило, играл роли мужественных вояк, «ястребов». Наибольшей популярностью пользовались «Пески Иво Дзима» (1949, реж. Алан Дуэн – скорее всего, именно этот фильм имел в виду Метцгер), «Операция на Тихом океане» (1950, реж. Джордж Ваггнер), «Летающие кожаные ошейники» (1951, реж. Николас Рэй), «Морская погоня» (1955, реж. Джон Фэрроу) и «Самый длинный день» (1962, реж. Кен Аннакин). Пресловутые «Зеленые береты» (реж. Джон Уэйн) о войне во Вьетнаме появились несколько позже (1968).
59
Аргайллский узор – геометрический узор в виде разноцветных ромбов на одноцветном фоне по образцу шотландки аргаллийской ветви шотландского клана Кэмпбелл.
60
Беркли – пригород Сан-Франциско; одно из крупнейших отделений Калифорнийского университета.
61
Джеймс Кларк Максвелл (1831–1879) – английский физик, создатель классической электродинамики, основоположник кинетической теории газов. Главная работа – создание уравнений магнитного поля (уравнения Максвелла).
62
Второе начало термодинамики – один из основных законов термодинамики, закон возрастания энтропии, согласно которому, в частности, невозможно создать периодически действующую (совершающую какой-либо термодинамический цикл) машину, вся деятельность которой сводилась бы к поднятию некоего груза (механической работе) и, соответственно, охлаждению теплового резервуара.
63
… изданиях общества по распространению христианского учения. – На самом деле эта организация называется Society for Promoting (а не Propogation, как у Пинчона) Christian Knowledge. Занимается изданием и распространением христианской литературы.
64
Том Свифт – изобретатель, герой серии книг, выходивших с 1910 по 1993 г. под псевдонимом Виктор Эплтон.
65
Уэллс, Генри (1805–1878) и Фарго, Уильям (1818–1881) – основатели почтовых компаний «Америкэн Экспресс» (1850) и «Уэллс, Фарго и K°.» (1852), занимавшихся доставкой грузов и почты по всей стране.
66
Джон Форд (1586–1639) – английский критик и драматург периода Карла I, наиболее известная его пьеса «Как жаль ее развратницей назвать» (недатирована) рассказывает об инцесте между братом и сестрой. Джон Уэбстер (1580–1632) – английский драматург, считается самым крупным после Шекспира драматургом XVII века, его пьесы отличаются изобилием кровавых и жестоких сцен. Сирил Турнер (1575–1626) – английский драматург. Наиболее его известная пьеса – «Трагедия атеиста» (1611), для которой тоже характерно нагромождение трупов и кровавых эпизодов. Ему также приписывалась пьеса «Трагедия мстителя» (1607), но в настоящий момент принято считать ее автором Томаса Мидлтона (1580–1627).
67
Леон Шлезингер (1883–1949) – продюсер компании Warner Bros., поставивший более 400 мультфильмов, в том числе – про кролика Багса Банни и Хрюшу.
68
«Пони Экспресс» – система быстрой доставки почты, действовала между городами Сент-Джозеф, Миссури, и Сакраменто, Калифорния, в 1860–1861 гг… вперемежку с мультиком о Хрюше… – Хрюша (англ. Porky Pig) – герой американского мультипликационного сериала.
69
Кролик Багс – еще один персонаж мультсериалов.
70
Голдуотер, Барри Морис (р. 1909) – американский политический деятель, был сенатором от штата Аризона (в 1953–1965 и в 1969–1987 гг.), а в 1964 г. безуспешно выдвигал свою кандидатуру на пост президента.
71
Freimarke – бесплатная марка (нем.).
72
Уайтчепел – бедный район Лондона.
73
Dies Irae – день гнева (лат), первые слова католического гимна.
74
Секретарь Джеймс – наверное, имеется в виду Джеймс Фрэнсис Бирнс (1879–1972), занимавший пост государственного секретаря в 1945–1947 гг. и безуспешно пытавшийся смягчить послевоенную конфронтацию США и СССР. Секретарь Фостер – это, скорее всего, Джон Фостер Даллз (1888–1959), государственный секретарь США в 1953–1959 гг., проводивший политику противодействия СССР путем военной и экономической помощи союзникам американцев. Сенатор Джозеф – почти наверняка Джозеф Рэймонд МакКарти (1908–1957), сенатор от штата Висконсин (1947–1957), печально известный инициатор «охоты на ведьм», обвинивший массу людей в принадлежности к коммунистам и прокоммунистических симпатиях, создатель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и «черных списков».
75
Трумэн, Гарри С. (1884–1972)-33-й президент США (1945–1953).
76
Медвежонок Йог – персонаж из американского мультфильма, ходит вечно голодный и все время норовит стащить у людей какую-нибудь еду. Магилла Горилла – герой одноименного мультсериала (премьера – январь 1964). Питер Потамус – маленький гиппопотам, герой мультсериала (премьера – 1964).
77
Пинчон имеет в виду знаменитых мексиканских революционеров Хесуса, Энрике и Рикардо Флорес Магон, в 1900 г. основавших группу «Возрождение». Самый известный среди них – Рикардо (1873–1922), анархист, видный деятель мексиканской революции, во многом опиравшийся на идеи Михаила Бакунина.
78
Сапата, Эмилиано (1877? – 1919) – мексиканский революционер и реформатор в области сельского хозяйства. Руководитель вооруженной борьбы 1911–1916 гг. (наряду с Панчо Вильей).
79
Юкатеко – уроженец полуострова Юкатан, штат Мехико.
80
Поклонники культа смерти округа Аламеда. Вообще-то общепринято иное написание – АС/DC, обозначающее либо бисексуала на сленге, либо постоянный ток/переменный ток (alternative current/direct current) в электромеханике.
81
Фресно – город в центральной Калифорнии, к юго-востоку от Сакраменто. То есть действительно далеко.
82
DТ – delirium tremens – белая горячка (лат.).
83
Gewekr-43 – винтовка образца 1943 г.
84
Шпеер, Альберт (1905–1981) – официальный архитектор Гитлера. В 1943–1945 гг. был министром вооружений и военного производства в гитлеровской Германии. В эти же годы неожиданно перешел в оппозицию и стал оказывать скрытое противодействие режиму. В 1945 г. решился на открытый саботаж и даже стал готовить заговор против гитлеровского окружения. Гитлер получил доказательства измены Шпеера, но, вопреки всему, не казнил его, а лишь удалил от себя.
85
Разве нет? (нем.).
86
Кататония – нервно-психическое расстройство, характеризующееся мышечными спазмами и нарушением двигательных рефлексов.
87
Ринго Старр (Ричард Старки) – ударник группы «Битлз». Чабби Чеккер – популярный в 60-е гг. американский певец, один из первых исполнитлей твиста. Праведные братья (Righteous Brothers) – популярный дуэт, первый диск вышел в 1962 г.
88
Видимо, имеется в виду известная песня «Битлз».
89
Н.А.Д.А… – Nada – ничто (исп.).
90
В 1818 году Томас Баудлер (1754–1825) выпустил «очищенное» от неприличных, с его точки зрения, выражений и сомнительных мест издание Шекспира. От его фамилии и образован глагол «баудлеризировать».
91
Карл I (1600–1649) – король Англии, Шотландии и Ирландии (1625–1649). Его противостояние Парламенту привело к гражданской войне (1642–1648), в которой Карл потерпел поражение и в 1649 г. был обвинен в измене и обезглавлен.
92
Мотли, Джон Лотроп (1814–1877) – американский историк и дипломат; упомянутая книга вышла в 1856 г.
93
Имеются в виду исторические Нидерланды – в средние века область на северо-западе Европы, состоявшая из 17 провинций; арена Нидерландской революции.
94
Вильгельм I Оранский (1533–1584), лидер антииспанской дворянской оппозиции. Убит испанским агентом.
95
Генеральные штаты – с 1463 г. высшее сословно-представительное учреждение в исторических Нидерландах, в современных Нидерландах – парламент.
96
Долина Напа находится в западной Калифорнии, знаменита своими виноградниками.
97
Кирк Дуглас (1916) – известный американский киноактер, сыгравший главную роль в фильме Стэнли Кубрика «Спартак» (1960).
98
Zeitgeist – дух времени (нем.).
99
Фример – третий месяц французского республиканского календаря, действовавшего в 1793–1805 гг.
100
Bibliotheque des Timbrophiles – «Филателистическая библиотека» (фр.). Жан-Батист Моэн (1833–1908) – бельгийский филателист, издавший первые филателистические каталоги.
101
Франкфуртское национальное собрание. – В 1848–1849 гг. во Франкфурте-на-Майне заседало общегерманское Национальное собрание, принявшее в марте 1849 г. имперскую конституцию. Вообще же с IX по XVIII в. Франкфурт был местом, где избирали императора, а с 1562-го по 1792 г. – местом коронации императоров Священной Римской Империи.
102
Имеется в виду народное восстание в Пеште в 1848 г.
103
Юра – горы во Франции и Швейцарии.
104
День матери – официальный праздник США, отмечается во втрое воскресенье мая.
105
Уистлер, Джеймс Эббот МакНилл (1834–1903) – американский художник. Вероятно, имеется в виду его известный портрет матери «Arrangement in Grey and Black» (1872).
106
Закон исключения третьего – закон логики, согласно которому из двух высказываний – таких, когда одно отрицает то, что утверждается другим, одно непременно истинно. Впервые сформулирован Аристотелем. Традиционная формальная логика часто формулировала этот закон так: «А есть В либо не В» (третьего не дано: tertium non datur).