Книга: Блатной
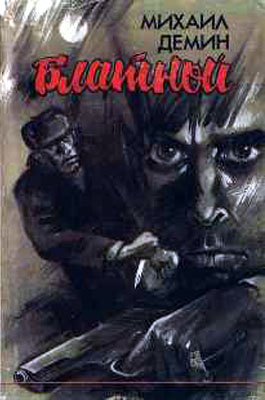
Блатной

Сучья война
Перед судом
По вечерам, перед отбоем, тюрьма затихает, затаивается; в недрах ее начинается особая, скрытная жизнь. В этот час вступает в действие «тюремный телеграф». Каждый вечер, пронзая каменную толщу стен, звучит еле слышный дробный стук; несутся призывы, проклятия, просьбы, слова отчаяния и ритмы тревоги.
Я сидел на нарах под окошком, смотрел в зарешеченное небо. Там, в синеве, дотлевал прозрачный июльский закат. Кто-то тронул меня сзади за плечо, сказал шепотком:
— Эй, Чума, тебя вызывают.
— Кто?
— Цыган. Из семьдесят второй.
Цыган был одним из моих «партнеров по делу», одним из тех, с кем я погорел и был задержан на Конотопском перегоне. Мы частенько с ним так общались — перестукивались, делились новостями. На этот раз сообщение его было кратким.
«Завтра начинается сессия трибунала, — передавал Цыган. — Есть слух, что наше дело уже в суде. Так что жди — по утрянке вызовут!»
Он умолк ненадолго. Отстучал строчку из старинной бродяжьей песни «вот умру я, умру я…» и затем:
«Вышел какой-то новый Указ, может, слыхал? Срока, говорят, будут теперь кошмарные… Не дай-то Бог!»
Указ? Я пожал в сомнении плечами. Нет, о нем пока разговора не было. Скорей всего, это очередная «параша», обычная паническая новость, которыми изобилует здешняя жизнь… Я усомнился в тюремных слухах — и напрасно! Новость эта, как вскоре выяснилось, оказалась верной. Именно в июльский этот день — такой прозрачный и тихий — появился правительственный указ, страшный «Указ от 4. 6. 1947 года», знаменующий собою начало нового, жесточайшего, послевоенного террора. Губительные его последствия мне пришлось испытать на себе так же, как и многим тысячам российских заключенных… Но это потом, погодя. А пока, примостясь на дощатых нарах, я ждал утра — ждал судного часа.
По коридорам, топоча, прошла ночная дежурная смена. Отомкнув кормушку, небольшое оконце, прорубленное в двери и предназначенное для передачи пищи, надзиратель заглянул в камеру и затем сказал с хрипотцой:
— Отбой. Теперь чтоб молчок!
Постоял так, сопя и щурясь, обвел нас цепким взглядом и с треском задвинул тугой засов.
День отошел — один из многих тюремных дней, уготованных мне судьбою. Струящийся за решеткой закат потускнел, иссяк, сменился мглою. И тотчас под потолком вспыхнула лампочка, неяркая, пыльная, забранная ржавой проволочной сеткой. Свет ее лег на лица людей и окрасил их мертвенной желтизной.
Многолюдная, битком набитая камера готовилась ко сну: ворочалась, шуршала, пахла потом и дышала тоской. Здесь каждый находился под следствием и дожидался суда. И грядущее утро для многих в камере было роковым, поворотным…
Что оно принесет и каковым оно будет?
Внезапно в углу, неподалеку от окна, раздался негромкий дробный стук.
Я невольно прислушался: три удара — «в»… потом — шесть, значит — «е»… Затем последовала частая серия, оборвавшаяся на «р»… Получалось — «верь», только без мягкого знака. Впрочем, в тюремной азбуке эти знаки, как правило, опускаются. «Кто бы это мог быть?» — заинтересовался я. Потянулся в угол и прильнул к стене, и сейчас же по лицу мне — по глазам и скулам — хлестнули холодные капли.
Так вот в чем дело! Это сочилась камерная сырость. По ночам, когда люди спали, тюрьма сама начинала звучать, говорить…
«Верь! — усмехнулся я, стирая влагу с ресниц. — Во что мне теперь верить?»
* * *
И опять мне припомнился Львов — пограничный украинский город — самый «западный» и самый вольный изо всех советских городов послевоенной поры.
Наводненный контрабандистами, бендеровцами и валютчиками, он привлек меня не случайно. Устав от скитаний и тягот бездомной жизни, я решил пробраться на Запад, во Францию, к своим родственникам, уехавшим из России после революции. Мне указали путь, дали нужные адреса во Львове. Я прибыл туда и попал к украинским террористам, в одну из их бесчисленных подпольных организаций. Бендеровцы должны были переправить меня за кордон, но не смогли, не успели. Начались чекистские облавы: мне пришлось уходить из города ночью, второпях.
…Я шел проселочными дорогами, изнывая от жары и голода; в обнищалой этой глуши еду нельзя было достать ни за какие деньги, да их и не было у меня. И ни украсть, ни выпросить я тоже не мог; случайные редкие хутора встречали пришельцев враждебно и настороженно.
Я пил гнилую воду из луж, ел траву и даже крапиву (листья ее надо сворачивать так, чтобы внешняя жгучая их сторона оказалась внутри, тогда крапива становится вполне съедобной, обретает привкус свежего огурца).
Поначалу я избегал, боялся железнодорожных станций, но потом не выдержал; в темноте, ползком, дотащился до перрона, спрятался под его настил и долго лежал там, дожидаясь поезда… На этой дороге я вскоре и познакомился с нынешними моими «партнерами». Две недели разъезжал с ними на местных поездах, подработал немного денег, окреп, поправился, пришел в себя. А затем случилось нелепое это «дело». Неподалеку от Конотопа мы встретили в тамбуре ночного вагона двух спекулянтов, везущих на полтавский рынок цветные румынские шали и дамское белье.
Часть их товара мы забрали себе, и той же ночью, к утру, были задержаны линейной милицией по обвинению в железнодорожном грабеже.
Я вспоминал все это, томясь бессонницей и коротая ночь. Она тянулась мучительно и долго. Камера давно спала уже, было тихо, только в противоположном конце ее слышалась глухая возня, торопливый шепот. Я уловил обрывки странных фраз: «Тяни… Да не так — снизу…» — «Учтите, оглоеды, это — мое!» Приподнялся, вглядываясь. И различил неясные шевелящиеся тени.
Я знал: там размешались «шкодники» — мелкое ворье и базарные аферисты. Публика эта принадлежит к преступному миру, но не входит в его элиту. В тюремном табеле о рангах она занимает положение небольшое, неважное.
Шкодники были чем-то взволнованы. Я окликнул их погодя:
— Эй, чего вы там суетитесь?
— Да тут фрайер кончается, — ответили мне, — дуба дает.
— Так что же вы ждете? Зовите надзирателя.
— Сейчас… Вот только вещички его поделим.
— Да вы что же, сволочи, — удивился я, — хотите голым его оставить?
— Ну, зачем же! Мы его прикрыли, — сказал, приближаясь ко мне, один из шкодников. Он держал в руке суконный новенький полосатый пиджак, осматривал его и ухмылялся, морща губы:
— Хороший материальчик! Чего ж его мертвому оставлять? Ему ведь все равно. Теперь для него любая одежда годится, а лучше всего — деревянная.
Когда покойника выносили из камеры, я посмотрел на его лицо; молодое, скуластое, все в рыжих веснушках, оно еще не утратило красок и было до странности безмятежным.
А ведь его раздевали еще дышащим, теплым, в сущности полуживым. О чем он успел подумать в последний момент? Какая мысль пронзила его и утешила, примирила с тем, что случилось?
Заснул я трудно, перед самой зарей, и сны мне виделись тяжкие, болезненные, мутные: заросли крапивы окружали меня, и мертвый мальчик тянулся ко мне веснушчатым своим скуластым лицом. «Здесь не пройти, — бормотал он, указывая на заросли, — а ведь мы с тобой голые. Жжется… если бы у нас были вещи! С вещами…» Я очнулся, разбуженный окликом надзирателя:
— С вещами! На коридор!
В это утро со мною на суд отправлялось немало народа. Шумную нашу ораву пересчитали в коридоре, выстроили попарно и вывели на тюремный, залитый режущим солнцем двор.
Там уже дожидался, пофыркивал и чадил бензином высокий черный фургон — знаменитый арестантский «воронок».
Была суббота — день передач и свиданий — и возле ворот, неподалеку от воронка, теснились пришедшие с воли женщины. Одна из них, рыжеволосая, с высокими скулами, показалась мне странно знакомой: было такое чувство, словно бы я уже видел ее где-то… Она стояла, обеими руками прижимая к животу кастрюлю с дымящимся супом. Внезапно руки ее дрогнули, лицо напряглось, заострилось, глаза расширились и остекленели.
Я проследил за ее взглядом и вдруг понял, кто она, сообразил, в чем суть!
Женщина увидала в толпе суконный новенький полосатый пиджак — пиджак своего сына. Потом перевела взгляд дальше и там, на чужих, незнакомых людях, распознала остальные его вещи: рубашку, брюки, башмаки.
Мгновенная темная судорога прошла по ее лицу, но — удивительное дело! — она не закричала, не кинулась с расспросами, нет. Рот ее был сомкнут, губы белы. Что-то она, очевидно, угадывала, постигала… И, заранее ужасаясь этому, молчала, боялась слов.
Так она стояла, следя за нами, и что-то каменное было во всем ее облике. Только руки ее, державшие кастрюлю, дрожали все сильней и опускались все ниже и ниже, проливая на землю, в пыль, принесенный для сына суп.
«Кого ни спросишь — у всех указ…»
Суд был суровым и скорым: вся его процедура заняла не более часа.
После того, как прокурор произнес обвинительную речь (он настаивал на применении самых решительных мер), выступил наш защитник.
Странный это был защитник!
С ним мы впервые познакомились только здесь, в зале суда, за полчаса до начала заседания… Он принадлежал к категории «казенных» адвокатов и занимался нашим делом — как он сам это заявил — по обязанности, в служебном порядке.
Тщедушный, узкогрудый, заметно лысеющий, он помедлил с минуту, скользко глянул на нас и потом сказал, пожимая щуплыми плечами:
— Не знаю, право, как быть… По долгу своему я призван их защищать. Надо бы, конечно, но не хочется! Это ведь не советские люди: отщепенцы, преступники, порождение чуждой среды… Как их, собственно, защищать? Взгляните на эти лица; на них явственно проступают черты кретинизма, дурной наследственности и всевозможных пороков.
При этих его словах судья заметно оживился и протер очки. Разместившиеся по бокам его заседатели обменялись короткими репликами. Потом все они пристально стали разглядывать нас, очевидно ища на наших лицах следы кретинизма, подмеченного оратором.
«Ай да защитничек, — изумленно подумал я, — вот уж, действительно, казенный. Что-то я таких не видывал, не знал. А впрочем, что я вообще знаю? Мне еще, вероятно, придется повидать на веку немало чудес».
В зале между тем нарастал смутный шум. Низкий женский голос сказал из задних рядов:
— Да разве ж это адвокат? Это какой-то милиционер переодетый. Ты защищай, а не пакости!
— Прошу прекратить разговоры, — заявил судья и хлопнул по столу квадратной ладонью. — Иначе прикажу очистить зал! Итак… — он грузно поворотился к говорившему, — продолжайте, только покороче.
— Да что ж, собственно, продолжать, — развел руками злополучный наш защитник. — Все, по-моему, и так ясно. Конечно, здесь можно найти некоторые смягчающие обстоятельства: например, молодость и незрелость этого… — он ткнул в мою сторону пальцем. — И вообще, сложные условия жизни у всех подсудимых: война, беспризорная юность… Трущобный деклассированный мир, взрастивший их, — тут он опять почему-то указал на меня, — был весьма далек от советских общественных идеалов. К трудовой деятельности их, естественно, не приучали, положительных примеров взять им было неоткуда. И в этом смысле для них — это бесспорно — будет полезной и оздоровляющей суровая дисциплина и упорный, обязательный, физический труд!
Он умолк и уселся, утирая ладонью взмокшую лысину. Заседание окончилось. Суд удалился на совещание.
— А ведь он, чего доброго, под петлю нас подведет, — прошептал, наклоняясь ко мне, Цыган. — Каков ублюдок, а?
— Посмотрим, — сказал я, — поглядим. Указа, во всяком случае, нам не избежать.
Я оказался прав: мы не избежали его! В соответствии с новым кодексом двух моих товарищей (Цыгана и другого — по кличке Резаный) приговорили к десяти годам лишения свободы. Мне же, как самому молодому и незрелому, дали шесть лет лагерей «со строгой изоляцией» и по отбытии срока наказания — три года ссылки в «отдаленных местах».
Когда нас выводили из зала суда, на глаза нам попались «пострадавшие» — те самые спекулянты, из-за которых мы шли теперь в лагеря. Они, кстати, шли туда же. Вид у них был плачевный: щеки небриты, руки скованы — точно так же, как и у нас. Суд использовал их показания, а затем, в свою очередь, привлек их к ответственности за спекуляцию.
— Ну что? — усмехнулся Резаный. — Выгадали? Не надо было подличать, хитрить, собирать на дерьме сливки.
Цыган был настроен философски.
— Эх вы, гады, — сказал он укоризненно. — Не стыдно вам, а? Мы же ведь поступили с вами по-божески, совестливо: взяли не все, а часть… А вы что сделали? Заявлять кинулись. Эх! Ну как быть честным в этом мире? Где она, истинная совесть?
Он произнес это с надрывом, воздевая руки и гремя железом. Он искренне сокрушался по поводу того, что в этом мире утрачены понятия чести. Однако конвоир помешал ему продолжить монолог. Было приказано умолкнуть и поторапливаться… И так, в молчании, мы добрели до воронка.
* * *
Воронок был полон людьми и гудел, словно улей. Разделенный внутри на узкие секции — «боксы» — он и в самом деле походил на огромный пчелиный потревоженный улей (с той только разницей, что в сотах здесь содержался не мед и не сахар!). В том боксе, куда я попал, сидели шкодники — те самые, что раздевали этой ночью умирающего мальчика… Новый сталинский Указ коснулся и их; всем им дали по десять лет, гораздо больше, чем мне. И вот же до чего подло устроен человек! Узнав об этом, я испытал невольное и странное облегчение, словно бы чужая беда могла меня тут утешить…
— Червонец! — восклицал кто-то за моим плечом. — Кошмар! И главное, за что? За простую чернуху, за куклы!
Чернухами на блатном языке называются мелкие базарные аферы. Некоторые из них весьма любопытны и не лишены остроумия. Забавно выглядит, например, покупка часов.
Подойдя к прилавку, клиент придирчиво выбирает часы, осматривает их и подносит к уху. Он держит часы упрятанными в ладони так, чтобы продавец не видел их.
— Стоят… — задумчиво говорит покупатель, — заглохли… Хотя нет, пошли. Идут, идут!
Часы и в самом деле «пошли»… Они успели перекочевать из ладони этого мошенника к другому, незаметно подошедшему сзади и затем растворившемуся в толпе.
— Ну, что ж, — заявляет погодя клиент, — я тоже пошел.
— А… Часы? — вопрошает продавец.
— Какие часы? — удивляется мошенник. — Я, правда, хотел было купить, но передумал. Товар так себе, дрянь. Мне такой и даром не нужен.
Он разводит руками — ладони его пусты. Потрясенный продавец учиняет скандал, однако доказать ничего не может. Охваченный благородным негодованием «покупатель» требует, чтобы его обыскали при свидетелях, — в результате уходит безнаказанно.
Успешно практикуются также различные игры — картежные, азартные, с фокусами. Тут, как правило, работают втроем. Один ведет игру, держит банк. Другой выступает в роли игрока, причем игрока удачливого, которому все время везет… Третий слоняется в толпе и резонерствует, дает советы, ахает, переживает.
Один из самых распространенных базарных промыслов — «кукла». Афера эта порождена российской нищетой.
Суть здесь проста: людям предлагают «из-под полы» всевозможные дефицитные вещи, такие, которых не сыщешь в магазинах, — импортные кофточки, дорогие отрезы…
Товар обычно упакован в газету и перекрещен бечевкой. Его достают из сумки, украдкой показывают покупателю (надрывают газету, дают пощупать материал) и затем поспешно прячут: кругом милиция, надо быть настороже! Торговец нервничает и предлагает отойти в другое, укромное место. Там-то и состоится сделка. Сверток снова извлекается из сумки; внешне все здесь — упаковка и бечева — все совпадает до точности. И так же надорван краешек газеты… Но это уже не прежний настоящий товар, а кукла, набитая рваным тряпьем.
На такой вот кукле и заловились эти шкодники. Покупатель им попался въедливый, тертый; он сразу заподозрил неладное. Тут же, на месте, проверил сверток и кликнул милиционера…
Теперь они громко порицали судьбу, эту власть и новый кодекс. Указ увеличил все срока примерно втрое.
— Как дальше жить? — горевали они. — Как работать?
В соседнем боксе помещался тихий, седенький, ласковый старичок; он был арестован за людоедство и приговорен к двадцати пяти годам каторжных работ.
Судя по рассказам, он начал промышлять этим в последний год войны. В ту пору по Украине бродило немало людей (таких же, по существу, как и я сам!), которые по разным причинам избегали встреч с властями… Ласковый этот старичок укрывал их, давал им приют, а затем приканчивал, опоив предварительно самогонкой.
Он убивал людей ночью, спящих, протыкая им черепа большим сапожным шилом.
Трупы старичок разделывал аккуратно. Кости закапывал в огороде; из хрящей и пальцев варил холодец; мясо шло на котлеты. В течение двух лет (с 1945 по 1947 год) торговал он котлетами на станционных базарах… И разоблачен был случайно, из-за костей: их раскопали соседские свиньи, забредшие в его огород.
Костей оказалось так много, что следователь поначалу принял их за останки неизвестной братской могилы. Эту версию упорно поддерживал и старичок. Но и здесь его подвели эти самые кости! Слишком уж были они гладкими, очищенными, вываренными.
В тюрьме он вел себя смирно (администрация постоянно ставила его нам в пример!), и теперь он сидел в своем боксе тихо, как мышь, помалкивал, думал свое…
Зато политических из угловой секции было слышно — и хорошо слышно!
Каждому из них (а было их здесь двое) дали по двадцать пять лет — полную катушку! Поняв, что теперь им нечего терять, они, наконец, заговорили во весь голос.
— Страна доносчиков и подонков! — доносился из темноты раскатистый бас. — Подумать только, во что превратили Россию!
Обладателя этого баса — Арона Бровмана — я знал; мы несколько дней сидели с ним вместе в КПЗ (в камере предварительного заключения, куда помещают задержанных сразу же после ареста).
Талантливый лингвист и крупный филолог, Бровман работал после войны в Харьковском университете, заведовал там кафедрой. Затем напуганный доносами и растущим антисемитизмом бежал из университета в провинцию, к конотопским своим родственникам. Поступил в среднюю школу и какое-то время жил спокойно — преподавал историю литературы. И все же от доноса он не уберегся; сгубила его любимая наука. На одном из экзаменов он завалил бездарного ученика, шалопая, путавшего рыцарские ордена с ордерами на землю… Родители шалопая потребовали переэкзаменовки. Бровман отказался. Они предложили ему взятку — он выставил их вон. Тогда последовал донос, и вскоре филолога взяли по подозрению в крамольной и злонамеренной деятельности. На суде, помимо прочих грехов, его обвиняли также в том, что он морально развращал учащихся, знакомя их с порочной буржуазной культурой: с творчеством Селина, Джойса и Кафки.
Товарищ его по несчастью — бывший военный — тоже был жертвой доноса. Потрясенный жестокостью приговора, он всю дорогу растерянно и гневно проклинал существующие законы.
— Какие законы? — громогласно спрашивал Бровман. — Советские? Ой, не смешите… Эта система основана как раз на беззаконии. Самом вопиющем! И чудовищные наши срока — наглядное тому подтверждение.
И тотчас, словно бы откликаясь на его слова, кто-то в дальнем боксе запел:
Везут на север, срока огромные.
Кого ни спросишь — у вcex указ.
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, последний раз.
— Тихо! — прикрикнул конвоир. — Петь и громко разговаривать в поездке запрещено. Вы что, не знаете?
— А куда нас, кстати, везут? — поинтересовался я. — Что-то уж очень долго…
— На вокзал, — ответил, погромыхивая ключами, конвоир. — Поедете туда, где девяносто девять плачут, а один смеется… да и то — начальник режима.
— Ну что за проклятые времена, — сказал тогда Бровман, — мало того, что создали режим, еще и специальную должность придумали. Начальник режима! Это кто же? Уж не сам ли Иосиф Виссарионович?
Таков был этот наш «улей» — шумное вместилище греха и кошмаров.
Холодная гора
Сутки спустя я находился уже в Харьковской центральной распределительной тюрьме — на самой крупной пересылке Украины.
Знаменитая эта тюрьма господствует надо всем городом; она видна издалека. Угрюмая и громоздкая, она стоит на возвышенности, которую харьковчане окрестили (и вероятно не случайно!) Холодной Горой.
Отсюда расходятся железные дороги во все концы державы — на четыре стороны света… Тюрьма эта, как гигантский насос, неустанно перекачивает людские массы с юга на север и с запада на восток. На Дальний Восток и на Крайний Север.
Этапы движутся беспрерывно, сплошным потоком; прибывают сюда из теплых краев и уходят в тайгу, к погибельным снежным тундрам, к побережьям студеных морей. Холодом веет от одной только мысли об этом, и от каменных стен тюрьмы тянет сыростью и ознобом, и негде согреться иззябшей душе.
* * *
И все-таки здесь, на Холодной Горе, тоже есть свое «теплое» место. Одна из камер огромной этой пересылки называется «Индией». Экзотическая эта камера, как правило, угловая и на самом верху.
Здесь, в Индии, помещаются блатные: чистая порода, аристократия, отборный сорт!
Тюремное начальство старается не допускать блатных в общие камеры и предпочитает держать их отдельно, поближе к дозорной вышке, к ее пулеметам и прожекторам. Отбор производится сразу же, по прибытии очередного этапа; арестантов выстраивают в коридоре, велят им раздеться до пояса, а затем придирчиво осматривают каждого, ищут следы татуировок.
По ним — по этим росписям — администрация безошибочно узнает уголовников: в преступной среде татуируются почти все! Наколки являются здесь своеобразным кастовым признаком, свидетельством рыцарственности и щегольства.
— Расписной, — говорит коридорный, выудив из молчаливой шеренги такого шеголя, — цветной! Выходи, давай топай к своим.
«Петушки к петушкам, а раковые шейки — в сторону», — так на жаргоне формулируется эта процедура… Я попал к «раковым шейкам» мгновенно, едва только снял рубашку.
Надзиратель увидел на моем плече крестовый туз, прищурился и выразительно махнул рукой: выходи!
Партнерам моим повезло: Цыган вообще не имел татуировок, а у Резаного на руках были изображения якоря и наяды — наколки, распространенные, преимущественно, среди моряков. Да и одет он был соответственно — носил тельняшку и клеш (так любит одеваться одесская шпана).
— Матрос? — спросил его надзиратель.
— Так точно, — гаркнул Резаный, выпячивая грудь.
— За что попался?
— За драку в порту.
— Хулиган, значит.
— Да нет, — потупился Резаный. — По недоразумению… Самому стыдно.
— Ладно, — проговорил надзиратель. Он мог, конечно, проверить его слова, но не стал, поленился: для этого надо было идти в канцелярию, рыться в бумагах, отыскивать формуляр. — Рожа у тебя дрянная, ненадежная, но ладно!
Уходя, я посмотрел на друзей с завистью: им предстояло отправиться в общую камеру, к «петушкам». Люди там смирные, непуганые, получающие передачи… Кстати, о передачах. По тюремным традициям, блатные имеют право на одну треть от всех домашних харчей, поступающих в камеру. Это потому, что они, в отличие от «фрайеров», народ, по сути своей, бездомный и неприкаянный. Скитальцы, перекати-поле, они кочуют по свету, не имея ни прочных корней, ни семейных связей. Помнить о блатных и заботиться некому (за исключением, пожалуй, министерства внутренних дел), потому они и решили позаботиться о себе сами и создали собственные — весьма жесткие — законы.
* * *
«Зверехитрым племенем» называют себя заключенные. Сказано это метко.
Опытный арестант (в данном случае — житель «Индии») и в самом деле хитер и изворотлив, как зверь, как загнанный зверь.
Он загнан в неволю, лишен элементарных и привычных вещей. Лишен, по существу, всего… И тем не менее он ухитряется, обходя любые запреты, иметь в тюрьме все самое необходимое.
Осколок закопченного с одной стороны стекла используется здесь как зеркало. Его применяют также в качестве своеобразного перископа: привязывают к щепке или к карандашу и, ловко просунув в волчок (круглое смотровое отверстие в двери), обозревают таким образом коридор.
Следят за коридором, за надзирателями по разным причинам, например, во время картежной игры.
Она запрещена и преследуется — это естественно. Карты отбираются при обысках решительно и беспрекословно, и все-таки игра эта процветает несмотря ни на что!
Арестантские карты миниатюрны — длиною сантиметра четыре, не более того. Они фабрикуются из самого разного материала (в лагерях из березовой коры, в тюремных застенках из папиросных мундштуков).
Аккуратно приготовленные листки склеиваются по двое и кладутся под пресс: они должны быть плотными и упругими, как настоящие, всамделишные игральные карты!
Клейстер добывается из хлеба, из казенной и скудной пайки. Хлеб размачивают и затем протирают сквозь тонкую тряпку; на оборотной ее стороне проступает густая и липкая масса — это и есть знаменитый тюремный универсальный клей! Он обладает редкостной вязкостью и, высыхая, становится твердым, как кость. Годится он не только для карт: из него мастерят здесь шахматы, игрушки и даже курительные трубки…
Секрет этого клея на Руси известен издавна и переходит из поколения в поколение. Когда-то им пользовались декабристы, сахалинские каторжники, затем народники и большевики. (Во всех учебниках по истории партии, например, поминается ленинская «чернильница», сделанная из хлеба и наполненная молоком.) Теперь молока в российских тюрьмах уже не встретишь — не те времена! — но сами тюрьмы стоят нерушимо, они будут вечно существовать, а значит, и этот секрет не угаснет, дойдет до отдаленных потомков и пригодится многим.
Но вернемся к картам.
Итак, листки склеены. Теперь предстоит разметить их по мастям, нанести на каждый из них соответствующее изображение.
Картежных мастей, как известно, две: красная и черная. Эти краски изготовляются из крови и из сажи.
Кровь получить нетрудно; дело это пустяшное, не стоящее разговора. А вот как приготовить сажу? Тут необходим огонь, а спичек, как правило, в камере нет. (Начальство выдает их заключенным крайне неохотно и строго по счету.)
И все же арестанты — зверехитрое племя! — справляются с этой задачей на редкость легко и просто.
Впрочем, не так легко, как это кажется. Огонь добывается первобытным способом, при помощи трения.
Для этой цели используется вата (не медицинская, а самая простая, серая, хлопчатобумажная — та, что идет обычно на подкладку телогреек и бушлатов). Клочок такой вот извлеченной из подкладки ваты скручивают тщательно и туго; получается некий тампон. Затем кладут тампон на пол, на ровное место и катают до тех пор, покуда вата не задымится. Катать можно чем угодно — доской, подошвой сапога, но одно условие является непременным: делать это надо стремительно, с предельным напряжением, соблюдая определенный и четкий ритм.
Я знал специалистов, которые ухитрялись извлекать огонь за полторы-две минуты, причем не только из ваты, но даже из сухого мха!
Помню, как меня впервые — в юности, в Бутырской тюрьме — удивил необычный этот способ. Странное чувство овладело мною, такое, словно бы я внезапно попал из мира цивилизованного в другой — пещерный.
А впрочем, если вдуматься, так ведь оно и есть!
Сумрачный этот мир не знает жалости; здесь царят изначальные инстинкты. Деликатность, мягкость, услужливость — все эти интеллигентские свойства воспринимаются тут как нечто ущербное, как постыдные признаки слабости. А слабым быть нельзя! Для того чтобы уцелеть и выстоять, надо драться за жизнь, завоевывать право на нее. Надо любить жизнь свирепо и властно.
* * *
В Индии было голодно (передачи сюда не попадали), но все же нескучно. Развлекались, как могли, в основном, играли.
Игра начиналась сразу же после завтрака. (На завтрак выдавалось 450 граммов хлеба — вся дневная пайка, кусок сахара и миска мутной баланды из свекольной ботвы.)
Затаясь по углам и под нарами, уголовники резались в карты безудержно и самозабвенно подо что угодно: под одежду (ее называют пренебрежительно «кишками»), под баланду и сахар…
Разыгрывать нельзя было только хлеб — это запрещалось у нас строжайше!
Я не играл: зарекся давно, еще в Грозном, после памятной истории с Хасаном. В давнюю ту ночь, сидя нагишом под высоким кавказским небом, я поклялся никогда не брать карты в руки. Никогда! И сдержал свое слово. В память об этом и появился на плече моем крестовый туз.
После обеда, состоявшего из баланды и просяной водянистой каши, нас выводили на прогулочный двор. Камера в этот момент проветривалась и одновременно подвергалась обыску.
Эти обыски — «шмоны» — устраивались постоянно, но, в общем-то, безрезультатно. Не такой мы были народ, чтобы дать себя провести! Все запретное — бритвы, карты, стекло — пряталось у нас надежно; уголовники обладают в этом смысле великим опытом и редкостной сноровкой!
На прогулку отправлялись с радостью, с нетерпением — и не только ради свежего воздуха.
* * *
Все, о чем я здесь пишу, в сущности, только прелюдия, введение в тему. Однако введение это необходимо для дальнейшего, для того чтобы потом идти к цели уже не отвлекаясь.
А пока мне придется еще немного отвлечься. Я хочу поговорить об архитектуре. Разумеется — об архитектуре тюремной.
Российские тюрьмы стандартны… Стандарт этот возник при Екатерине Второй; она, как известно, славилась передовыми своими идеями и отличалась любовью к искусствам: писала пьески, сочиняла элегии. Немало времени и сил уделяла также строительству тюрем — и весьма преуспела на этом поприще! Именно тут проявился во всем блеске ее художественный талант.
Сочинения императрицы не выдержали испытания временем, а вот темницы, созданные ее стараниями, сохранились полностью, стали классикой, превратились в некий образец… И это, по существу, единственное, что осталось от ее правления поныне!
Почти любая наша тюрьма несет на себе печать классического екатерининского стандарта: она высока, монументальна и расположена покоем в виде буквы «П». Прогулочный двор находится здесь в самом центре, как бы на дне глубокого каменного колодца. Это удобно для охраны. Однако и заключенные тоже сумели извлечь из этого выгоду.
Дело в том, что сюда — во двор — смотрят окна всех корпусов. Причем окна тут не имеют намордников (специальных металлических щитов, прикрепляемых к решеткам с наружной стороны постройки). Таким образом, арестанты гуляют на глазах у всей тюрьмы, перекликаются с разными камерами, подбирают записки и табачок, украдкой подброшенные из окон. Это, конечно, не разрешается, но тем не менее делается.
Такая почта называется открытой. Есть еще и другая, тайная, для особых надобностей, но речь о ней впереди.
* * *
Покружив во дворе положенное время, запасшись новостями и куревом, мы возвращались в тесную нашу обитель. После, прогулки, после пьяных запахов ветра, она казалась еще тесней…
Затем был ужин (все та же баланда из гнилой ботвы) и спустя недолго отбой.
Наступал вечер — самая тяжкая и томительная пора в тюрьме.
Шуметь и двигаться уже нельзя было, полагалось спать, но спать не хотелось. (Потом, на севере, мы будем мечтать о сне, жаждать его; он станет такой же ценностью, как и хлеб, даже дороже… Но это в тайге, в лагерях!) Здесь мы были сыты сном по горло.
Надо было как-то бороться с тоской, избавляться от наваждения. И тут нас выручали «романы» (так называются по-блатному всевозможные устные истории и рассказы). Слово это произносится нарочито неправильно, иронично, с ударением на первом слоге.
Тюремные романы любопытны. Они представляют собою довольно причудливую смесь фольклорных традиций с книжной романтикой. Здесь интерпретируются самые разные произведения, в том числе и классика. Мне доводилось слушать (и самому излагать) истории, основанные на сюжетах Диккенса, Достоевского, Мериме, Льва Толстого. От них, правда, оставалось немного — одна лишь общая канва…
Наряду с серьезной литературой используется и бульварная, причем широко и успешно. А сочетание этой бульварщины с воровским фольклором образует особую, так называемую «кровавую», разновидность романов.
«Ровно в двенадцать часов ночи, — гулким шепотом повествует рассказчик, и камера внимает ему в благоговейном молчании, — по темным улицам города Парижа, со скоростью ста двадцати километров в час, мчалась таинственная карета с потушенными фарами. В карете сидел человек в черном плаще, полумаске и широкополой шляпе. Это был не кто иной, как сам Рокамболь — гроза населения, король притонов, атаман знаменитой и безжалостной шайки Червонных Валетов… Возле одного из средневековых замков карета остановилась. Рокамболь вылез, нажал в стене потайную кнопку и провалился сквозь землю…»
Умелые рассказчики-романисты ценятся в тюрьме чрезвычайно. Их окружают вниманием, балуют, подкармливают. «Врачевателями тоски» зовут их заключенные. И это справедливо.
Я знавал одного знаменитого романиста — Роберта Штильмарка. Это был человек немолодой, сухощавый, медлительный. К уголовникам он никакого отношения не имел, сидел за политику и попал в блатную компанию случайно: повздорил с начальством и был наказан за строптивость.
В Индии (в строгорежимной этой камере, о которой ходят нехорошие легенды) Штильмарк освоился быстро. Человек образованный и неглупый, он сразу сообразил, в чем суть… Фантазия его была поистине неиссякаемой. Приключения Рокамболя, например, он тянул из вечера в вечер, причем герой его попадал в самые разные страны и эпохи (рассказчика тут ничего не смущало!) и успел даже побывать в Советской России.
Русский вариант начинался так:
«Наше ворье хорошо знало Рокамболя. Он часто приезжал в Одессу — в этот русский Марсель, — имел здесь дела и жил, скрываясь под именем Семки Рабиновича… Многие даже полагали, что это его подлинное имя!»
Далее следовали описания традиционных замков и подземелий, кошмарных интриг и смертельных схваток. Их, как всегда, было множество: Штильмарк не скупился на них!
Так коротали мы время в ожидании этапа… Однако тихая эта жизнь продолжалась недолго. Ей суждено было вскоре окончиться, окончиться внезапно и бесповоротно в связи с появлением в нашей камере нового заключенного.
Начало сучьей войны
Он появился поздней ночью, пристально осмотрелся с порога — невысокий, плотный, с угловатым, исполосованным шрамами лицом, затем скинул с плеча вещевой мешок и держа его за лямку — волоча по полу — небрежно, вперевалочку пошагал к окну.
Блатные (даже когда они и вовсе незнакомы) угадывают друг друга быстро и безошибочно по жестам, интонациям и прочим мелким, но отчетливым признакам. И, в частности, по манере входить в камеру.
В камеру входят по-разному! Человек, впервые попавший сюда, долго мнется в дверях, озирается затравленно. Его пугает смрадный тюремный сумрак, бледные пятна лиц и эти глаза — воспаленные, жаждущие, пристальные… Тот, кто имеет уже некоторый опыт, но к элите не принадлежит, ведет себя побойчей. С ходу ищет свободное место, как правило, тут же, у самых дверей, и поспешно затаивается на нарах или под ними. Профессиональный уголовник держится уверенно, по-хозяйски. Тюрьма для него — дом родной. Он проводит здесь полжизни и знает порядки! У дверей возле параши, возле мерзостной этой лохани, ютится обычно всякая мелкота. Истинная аристократия помещается в противоположном конце камеры, у окошка… Именно сюда и направился незнакомец.
Он знал себе цену — это было видно по всему!
Неторопливо приблизившись к нам, он швырнул мешок на нары и, склоняясь к моему соседу (пожилому карманнику по кличке Рыжий), сказал с веселой бесцеремонностью:
— А ну-ка подвинься!
— Что-о-о? — протянул с угрозой Рыжий и слегка приподнялся, опираясь на локоть. — Я те подвинусь. Я так подвинусь — рад не будешь… Иди отсюдова!
Он выполнял сейчас известный ритуал. Происходила как бы дополнительная проверка; если угроза подействует и человек отойдет, значит, здесь ему и не место! Если нет — стало быть, это, действительно, свой…
Тон был задан. Теперь предстояло услышать ответ. Он последовал тотчас же:
— Ну, ну, — усмехнулся новичок, — не гоношись, не нервничай. Тут, вообще-то, кто — блатные?
— Да…
— Или, может быть, я не в ту масть попал?
— Да нет, все точно…
— Ну, так в чем дело? Двигайся!
Сказано это было спокойно, с какой-то ленцой. Однако была в его голосе особая сила, и Рыжий почуял ее, уловил и медленно двинулся, опрастывая место.
Потом, разлегшись на нарах и закурив, новичок представился. По всем правилам этикета. Кличка его была Гусь. Специальность — слесарь (квартирный вор). Сидел он по указу, имел 12 лет. Погорел на ночной работе в Киеве, а родом был из Ростова.
Рыжий (теперь уже вполне дружелюбно) сказал, посасывая цигарку:
— Ростовский босяк… Что ж, город это древний, благородный. Почти как наша Одесса.
— Что значит — почти? — пожал плечами Гусь. — Смешно даже сравнивать. Ростов испокон веку называют папой. Вдумайся в это слово! Папа!
— Ну, а Одесса — мать.
— В том и дело, — пробормотал Гусь, потянулся с хрустом, поправил мешок в изголовье. — В том-то и дело… Тем она и славится.
И он, позевывая, процитировал слова старинной песни:
Одесса славится блядями.
Ростов спасает босяков,
Москва хранит святую веру,
А Севастополь — моряков.
* * *
День начался, как обычно, — завтрак, карты, прогулка, — все шло чередом и ничто пока не предвещало беды.
Едва мы вернулись с прогулки — заработал телеграф. Стучал Цыган. Вызывал меня.
«Высылаю тебе ксиву, — просигналил он, — будешь в Почтовом ящике — учти!» — «Что случилось?» — поинтересовался я. «Долго объяснять, — ответил он уклончиво, — да и нельзя так — в открытую. В общем, разговор серьезный».
«Ксива» на воровском жаргоне — это записка, справка, вообще любой документ. «Почтовым ящиком» называется общая уборная, расположенная в тюремном коридоре; два раза в сутки (перед завтраком и накануне отбоя) сюда, по очереди, выводят каждую камеру на оправку… Знаменитый этот Почтовый ящик предназначен для особых, сугубо секретных надобностей и является в этом смысле одним из самых надежных мест.
Тут есть немало уголков укромных и испытанных; надзиратели копаться в них не любят, брезгуют (хотя и обязаны по уставу!), и потому корреспонденция доходит по адресу почти бесперебойно.
Вечером я уже читал присланную мне ксиву.
«Дело вот какое, — писал Цыган. — У вас в камере находится Витька Гусев. Я его сегодня видел на прогулке. Он наверное хляет за честного, за чистопородного… Если это так — гони его от себя. И сообщи остальным. Гусь — ссученный! В 1945 году я встречался с ним в Горловке; тогда он был — представляешь? — в военной форме, при орденах, в погонах лейтенанта. Я за свои слова отвечаю, можешь на меня ссылаться смело. Да и кроме того, есть еще люди, которые об этом знают. И всем нам горько и обидно наблюдать такую картину, когда среди порядочных блатных ходят всякие порченые. И неизвестно, чем они дышат, какому богу молятся…»
Я прочитал эту записку дважды. Второй раз — вслух.
Была тишина, когда я кончил читать; камера замерла, занемела, насторожась. Затем все разом поворотились к Гусю.
Он скручивал папиросу; пальцы его ослабли внезапно — табак просыпался на колени… Медленно, очень медленно Гусь собрал его, ссыпал в ладонь, и пока он делал все это, камера молчала — ждала.
Потом он закурил, затянулся со всхлипом и поднял к нам лицо. Оно было спокойно (слабость прошла), только чуть подрагивала правая рассеченная шрамом бровь.
— Что ж, — сказал он, — с Цыганом мы действительно встречались. \
— Значит, служил? — спросили его.
— Служил.
— Носил форму?
— Конечно.
— Награды имел?
— Да, — ответил он, — имел… Воинские награды!
Он легонько потрогал правую бровь, провел ладонью по щеке (там темнел широкий косой рубец) и сказал с привычной своей усмешечкой:
— Это все то же — отметки войны. Да, было, было. Почти вся армия Рокоссовского состояла из лагерников, из таких, как я! Нет, братцы, — он мотнул головой, — я не ссученный…
— А что есть сука? — спросил тогда один из блатных. (Лобастый и лысый, он звался Владимиром и потому имел кличку Ленин.) — Что есть сука?
— Сука это тот, — пробубнил Рыжий, — кто отрекается от нашей веры и предает своих.
— Но ведь я никого не предал, — рванулся к нему Гусь, — я просто воевал, сражался с врагом!
— С чьим это врагом? — прищурился Ленин.
— Ну как с чьим? С врагом родины, государства.
— А ты что же, этому государству — друг?
— Н-нет. Но бывают обстоятельства…
— Послушай, — сказал Ленин, — ты мужик тертый, третий срок уже тянешь — по милости этого самого государства… Неужели ты ничего не понимаешь?
— А что я, собственно, должен понимать?
— Разницу, — сказал Ленин, — разницу между нами и ими. Ежели ты в погонах…
— Я давно уже не в погонах!
— Неважно. Я вообще толкую. О правилах. Ежели ты в погонах — ты не наш. Ты подчиняешься не воровскому, а ихнему уставу. В любой момент тебе прикажут конвоировать арестованных — и ты будешь это делать. Поставят охранять склад — что ж, будешь охранять… Ну а вдруг в этот склад полезут урки, захотят колупнуть его, а? Как тогда? Придется стрелять — ведь так? По уставу!
— Это все теории, — пробормотал Гусь, озираясь.
— Бывает и на деле.
— А на деле я стрелял в бою. На фронте. И не вижу греха…
— Ну а мы видим, — жестко проговорил Ленин. — Истинный блатной не должен служить властям! Любым властям! — он шевельнулся, возвысил голос: — Так я говорю, урки?
— Так, — ответили ему.
— Так, — повторил он веско, — таков закон.
И вся камера подхватила нестройно и глухо: «Таков закон».
— Но он неправильный этот закон, — воскликнул Гусь. Он произнес это задыхаясь, скребя ногтями ворот. Рванул его и грузно спрыгнул с нар. — Значит, если я проливал кровь за родину…
— Не надо двоиться, — сказал ему Ленин. — Если уж ты проливал — так и живи соответственно. По ихнему уставу. Не воруй! Не лезь в блатные! Чти уголовный кодекс!
Во время этого разговора я молчал, держался особняком. В глубине души я искренне сочувствовал Гусю. Он был прав по-своему. Бесспорно прав! И все, что происходило здесь, казалось мне нелепым и несправедливым.
Но и те, кто отстаивал закон, тоже были правы — я сознавал это, чувствовал и маялся, раздираемый противоречиями.
Рыжий проговорил, наклоняясь к Гусю:
— Вчерась, помнишь, ты засомневался: не в ту масть, мол, попал… А ведь так оно и есть — не в ту.
— Ладно, — процедил Гусь и сдернул с нар вещевой мешок. — Не в ту масть, говоришь? Поищем другую.
И он ушел из Индии, причем ушел не один. В последний момент (когда он, стоя в дверях, стучал, вызывая дежурного) к нему присоединились еще трое.
— А вы чего? — окликнули их. — Или тоже проливали?…
— Конечно, — ответили они.
Уже уходя, задержавшись на миг в дверном проеме, Гусь сказал, озирая исподлобья камеру:
— Учтите, урки, нас иного. Крови мы не боимся. А она еще будет — большая будет кровь!
Вдруг он остро, пронзительно глянул на меня и усмехнулся, темнея лицом, оскалился судорожно:
— Ну а ты, падло, имей в виду: кто мне дорогу переходит — тот долго не живет… К тебе у меня особый счет. Запомни!
В лице его и в голосе было столько ненависти, что я содрогнулся невольно. За что он, кстати, так возненавидел меня? За эту прочтенную мной записку? Что ж, возможно… Но ведь я обязан был ее прочитать. Я не мог поступить иначе!
Одиночка
Вскоре после ухода Гуся в камеру ворвались надзиратели. Был сделан обыск. И на этот раз они нашли все, что искали. Им были известны теперь любые наши хитрости и тайники! Все острорежущис предметы — бритвы, иглы, стекло — мы прятали в хлеб. Для этой цели выделялась специальная пайка; ею жертвовал, обычно, самый удачливый игрок — обладатель лишних супов и каш. (Таким образом, он как бы платил обществу дань за богатство, за свое картежное счастье!) Хлеб разламывался, дробился на куски; своеобразные эти «объедки» оставлялись в самых видных местах — лежали на полке, сохли на подоконнике — и именно потому начальство не обращало на них внимания.
Теперь же все объедки были тщательно собраны и изъяты.
Веревки, нитки, карандаши (которые также запрещены!) покоились в щели под дверным порогом. Сюда надзор не заглядывал ни разу; сейчас вдруг заглянул.
— Вот же негодяй этот Гусак, — шепнул мне Рыжий, — настучал-таки, заложил нас, паскуда!
— Но, может, это и не он? — усомнился я.
— А-а-а, — наморщась, отмахнулся Рыжий, — какая, в сущности, разница? Он же у них — главный… Атаман шайки Червонных Валетов!
— Об чем это вы там шепчетесь? — спросил с подозрением старший надзиратель.
— Ни о чем, — отозвался я, — так… о погоде.
Дерзкий этот ответ не понравился ему.
— Поговори у меня, — проворчал он, нахмурясь, — поговори!
— А я и не говорю с вами, — возразил я усмешливо, — вы сами встреваете.
И тотчас же я пожалел о сказанном, раскаялся в том, что ввязался в ненужный этот спор.
Привлекать к себе внимание начальства было рискованно, тем более в моем положении! Дело в том, что за щекой у меня были спрятаны карты (они недаром изготовляются столь миниатюрными). Незаметные внешне, карты все же мешали мне, затрудняли речь. И старшой, очевидно, почуял это.
Он приблизился и с минуту разглядывал меня, шарил глазами. Потом приказал внезапно:
— А ну, раскрой пасть!
И тут же, не дожидаясь, покуда я сделаю это сам, полез мне в рот, раздирая пальцами губы.
Пальцы были шершавы и солоны; они пахли потом и табаком, и еще чем-то, непонятным и мерзким.
Давясь, испытывая позывы тошноты, я отшатнулся, но было уже поздно.
— Ага! — проговорил он, разглядывая замусоленные листки. — Вот как вы ухитряетесь, — обтер их, задумчиво кивнул, отвечая каким-то своим мыслям. — Значит, правильно… Что ж, учтем на дальнейшее.
И затем, крепко ухватив меня за плечо, сказал, подталкивая к дверям:
— В карцер. На трое суток!
«Вот так опять подвели меня карты! Ведь зарекался же, зарекался, — горестно думал я, шагая под конвоем по гулким коридорам тюрьмы. — Клятву давал — не брать их в руки. И все же не выдержал, взял. И не для игры взял, нет; просто захотелось потрогать, потасовать, ощутить хоть на миг их податливую упругость… И вот результат. Штрафная одиночка. Сырой бетон. И промозглая мгла».
* * *
Мгла была тяжкой, давящей, почти осязаемой. Она клубилась вокруг меня и текла, как вода. Как черная вода… Лампочки здесь не полагалось (карцер этот был особый, строгий, я уже знал о нем — слышал от ребят).
Свет обычно проникал сюда из окна, из глубокой впадины, устремленной в небо. Но и небо тоже предало меня. Оно было черным сейчас и страшно пустым.
Осторожно, на ощупь, обследовал я камеру, выбрал угол посуше и задремал, свернувшись на липком бетонном полу.
Очнулся я внезапно… Не знаю, сколько я спал — время умерло, мир потерял предметность. Одно лишь было ясно: ночь не кончилась еще, не иссякла.
В беспросветной этой темени жили звуки, одни только звуки: маленькие и близкие (лепет капель, шуршание ветра в окне), и большие, объемные, сочащиеся из коридора (шаги людей, глухие дробные голоса). Голоса эти как раз и разбудили меня! Я приподнялся, вслушиваясь, и различил вдруг характерную интонацию Гуся — сипловатый и развалистый его басок.
Он о чем-то разговаривал с надзирателем и — странное дело! — держался, судя по голосу, уверенно, на равных, как свой…
Загремел замок, и дверь растворилась, и тотчас — в слепящем желтом свету — на пороге камеры возникла коренастая фигура Гуся.
— Ну как? — спросил он, прислоняясь к притолоке. — Жив еще, падло?
— Жив, — ответил я, лихорадочно соображая, зачем он тут? По какой причине? Может, его специально решили подсадить ко мне… Но для чего?
— Жив, значит, — проговорил он протяжно. — Ну, ну, дыши пока, пользуйся.
Достал из кармана пачку «Беломора», щелкнул ногтем по донышку. Выскочили две папироски. Одну он ловко поймал зубами, зажал в углу рта. Другую протянул мне:
— Прошу!
— Н-нет, — сказал я с усилием. И отвел глаза, чтоб не видеть папирос, не расстраиваться…
— Правильно, — ухмыльнулся он, пряча пачку в карман, — у сук брать курево не положено, так ведь? Кто вне закона — тот не человек, так?
Я промолчал. Он затянулся, кутаясь в дым. Сплюнул. Сказал, помедлив:
— Вот потому-то я вас, сволочей, и ненавижу!
— Послушай, Гусак, — сказал я тогда. — Что тебе нужно? Чего ты тут пенишься? Закон наш вечный; его не изменишь.
— А я вот, как раз, этого и хочу: изменить его к чертовой матери, кончить со всеми вами.
— Вот оно что! — я как-то развеселился сразу; разговор начинал становиться забавным. — Реформу, стало быть, замышляешь… Ну допустим. А зачем?
Свет ослеплял меня, густо лился в глаза, и фигура Гуся, маячившая в дверях, казалась мне плоской, словно бы вырезанной из жести.
— Ты ведь уже не блатной, — сказал я, разглядывая темный этот, жестко очерченный силуэт. — Ты никто! Живи себе тихо, в сторонке. Тебе же лучше будет!
— Тихо? В сторонке? — произнес он угрюмо. — Ну нет… Нема дурных, как у нас в Ростове гутарят.
Он ступил за порог — за границу света. Теперь я увидел его лицо отчетливо; оно не понравилось мне. Брови его были опущены, сведены, косой рубец на щеке подрагивал и медленно багровел.
— Вы, значит, аристократы, а я должен пахать, в землю рогами упираться? Жидкие щи с работягами хлебать? Нет, нема дурных! Я сам хочу, как вы… У вас какая жизнь? Удобная… Все вас боятся, почитают, лишними харчами делятся. Не жизнь, а малина!
— Ну, не такая уж и малина, — пожал я плечами. — Я вот, к примеру, в кандее сижу — на трехсотграммовке и на воде, — а ты гуляешь по коридору. Как дома гуляешь… Кстати — почему?
— Что — почему?
— Почему гуляешь-то? Каким образом?
— Значит, доверяют.
— Быстро, — сказал я, — быстро ты, Гусак, в доверие к ним вошел. Прямо-таки молниеносно. Чем же ты их купил? Или, может, они тебя купили?
— А это уж понимай как хочешь. — Он как-то замялся на миг и мгновенно сорвался на крик, зачастил, хрипя и наливаясь яростью: — Кто кого купил — неважно. Главное, мне теперь дозволено… все дозволено! Буду вас давить беспощадно. Всех! А тебя — первого.
Я напрягся, вжимаясь спиною в стенку. Сейчас — я чувствовал это — сейчас он кинется на меня, подомнет… Он ведь сильнее меня, явно сильнее. Да к тому же еще не один. Там, в коридоре, надзиратель. Там много их.
И только я подумал так, в дверях, за спиною Гуся, возникла синяя форменная фуражка.
Надзиратель что-то сказал Гусю, рванул его за рукав и затем, оттащив в коридор, резко захлопнул дверь камеры.
— Не при мне, — услышал я, — не в мою смену! Ты ведь хотел поговорить? Ну вот, поговорил. И хватит покуда.
Прильнув к двери, я жадно ловил голоса: неразборчивое, полное хриплого клекота бормотание Гуся и четкие ответы дежурного.
— Кто? Капитан? Не знаю… Пущай он мне сам лично прикажет. Официально. Только так. И хватит. Иди, Гусев, иди!
«Что же все-таки происходит? — думал я, мечась по камере. (Ночь шла уже к концу — светлела, наливалась рассветным соком. Но спать не хотелось — какой уж тут сон!) Откуда у Гуся такая независимость и свобода? Для чего он вообще понадобился чекистам?»
* * *
Утром в кормушку заглянул раздатчик — пожилой заключенный, с костлявым, поросшим седою щетиной лицом.
Он подал мне пайку — липкий ломоть хлеба размером в половину ладони и кружку мутного кипятку.
— Держи, — объявил он, — и учти, браток: на сегодня все! Вечером одна только жареная водичка. — И потом, оглянувшись, спросил, понижая голос: — Курить хочешь?
— Хочу, — поспешно сказал я, — ох, хочу! Сил никаких нет…
— Да уж понимаю, браток, — кивнул он. — На вот — побалуйся!
Он бросил в камеру большую, туго скрученную из газеты цигарку, мигнул значительно и еле слышно, одними губами, выговорил:
— Не кури!
Кормушка захлопнулась. Подождав, покуда в коридоре затихнет возня, я подобрал цигарку, повертел ее в пальцах, осмотрел внимательно. Старик шепнул: «Не кури!» Или, может быть, это мне померещилось? Нет, все точно. Потому-то он мне и мигал. Вероятно, секрет здесь — внутри…
Бережно, осторожно (боясь утерять хоть одну крупинку!) я развернул газету и ссыпал табак в карман. Затем расправил мятый этот клочок и на внутренней стороне — меж печатных строчек — сразу же разглядел крошечные карандашные каракули.
Вот что значилось в этой записке:
«Ты меня не знаешь. К вам я не касаюся, но желаю помочь, просто — по совести. Я слышал, как Гусь толковал насчет тебя с опером. Капитан сказал, что блатные — это целая партия, ее нужно разрушить изнутри. Так что, браток, дело твое — хана! Не сегодня-завтра к тебе снова придут… Они уже так-то приходили к одному — заставляли отрекаться от вашей веры… Не приведи Господь. Потом целый день отмывали камеру от крови. Спасайся! Мастырь какую-нито болезнь или объявляй голодовку. В больничном корпусе не тронут».
Голодовка
«Значит, вот как обстоят дела, — думал я. — Да, надо спасаться! Надо начинать голодовку, это единственный шанс. И слава Богу, что я еще не тронул пайку — схватился, как и всякий курильщик, поначалу не за хлеб, а за табак!»
Теперь, кстати, можно было и закурить. (Записка прочтена, и чем скорее ее не станет, тем лучше!) Я быстро свернул цигарку, затем добыл огонь и долго сидел, смакуя кислый самосадный дым и словно бы пьянея после каждой затяжки; голова кружилась, но мысли были ясны. Я дымил махрой и размышлял о случившемся — о расколе преступного мира, о сучьей войне. Она явилась как бы прямым продолжением другой войны — недавней, отечественной, великой.
В великой этой бойне участвовало немало уголовников. Они сражались упорно и доблестно; искупали вину перед родиной, беззаветно верили ей…
Родина призвала их в трудный час и затем, победив, отвернулась от грешных своих сыновей. Демобилизовавшись из армии, вернувшись в мирную жизнь, бывшие урки вновь почувствовали себя отщепенцами, оказались за краем общества, ушли на дно.
Но и здесь, на дне, они тоже не нашли себе места; стали отверженными, обрели позорное прозвище сук.
Объявляя нам войну, Гусь сказал: «Учтите, крови мы не боимся». Он правильно сказал! Война провела их сквозь кровь и огонь, выучила многому. А теперь эта выучка их пригодилась сталинским чекистам.
Пригодилась в борьбе с нами, с уголовным подпольем страны.
Подпольный этот мир чекисты называют партией. Что ж, так оно, по сути дела, и есть. Блатные действительно партия! Не политическая, конечно, но тем не менее сплоченная, организованная, активно враждующая с государством и потому опасная.
И, конечно же, не случайно власти начали сейчас поддерживать сучню; именно ее руками, руками таких, как Гусь, хотят они разрушить нелегальную эту партию, взорвать ее изнутри, расколоть до конца.
Руками таких, как Гусь… Я вспомнил его руки и лицо его, судорожное, перекошенное яростью, и рвущийся, задыхающийся голос: «Хочу, как вы! У вас какая жизнь? Удобная. Не жизнь, а малина». Вспомнил все это и подумал вдруг о том, что Гусь ведет двойную игру, преследует сугубо личные цели; странно, что этого не видят чекисты… Он вовсе не борется с преступным миром, как того жаждет начальство, его просто не устраивают некоторые наши традиции.
Отвергая старый закон, он хочет создать другой — такой же, в общем, уголовный, но зато более выгодный для него; такой закон, который помог бы ему обрести былые права, укрепиться и возвыситься вновь.
Ради этого, ради своих привилегий Гусь пойдет на любую подлость, не остановится перед «мокрым делом». Крови он не боится… Бояться ее надо мне! Ведь именно против меня направлена сейчас вся его ненависть.
Здесь, в одиночке, в темном этом карцере я беззащитен, я в руках у Гуся. А руки эти развязаны и потому страшны. Ему ведь дозволено все! Не сегодня-завтра он явится сюда — и чем это кончится? Какие гнусности и кошмары ожидают меня? Какими способами он заставляет блатных отрекаться? В подброшенной мне записке об этом сказано было вскользь, неотчетливо. «Не приведи Господь», — писал неизвестный мой доброжелатель. Я повторил про себя эту фразу, и содрогнулся невольно, и тут же подумал о странностях, которыми изобилует наша жизнь.
В сущности, я ведь давно уже собрался расстаться с урками и выйти из подполья. Решил «завязать», начать жить по-иному… Решение это прочное. И когда-нибудь я осуществлю его, сделаю это непременно! Но только не так, как хочет Гусь; не унижаясь, не предавая друзей.
И уж тем более не сейчас. Разве могу я отойти от блатных в эту пору? В дни, когда начинается свирепый сучий террор, наступает предвещанное Гусем время «большой крови»…
Папироса сгорела; я докурил ее дотла, до самых губ. Я все никак не мог надышаться кислым этим, сладостным дымом.
Потом подошел к двери и вызвал дежурного.
— В чем причина? — спросил он, открывая кормушку. Я протянул ему пайку:
— Возьмите!
— Что? — он поглядел на хлеб, наморщился, поднял ко мне глаза. — Думаешь — недовесили?
— Да нет, — сказал я, — плевать на это… Просто я отказываюсь от пищи.
— Не дури, — пробормотал надзиратель. — Как так отказываешься? Слушать не хочу. Надоели мне ваши фокусы…
Он отстранился, хотел захлопнуть кормушку. Но не успел; я придержал ее локтем и выбросил хлеб в коридор.
— Вот так, — сказал я. — Теперь понятно? Объявляю голодовку! Прошу дать мне бумагу и карандаш, буду писать заявление на имя начальника тюрьмы.
— Бросаешься, — проговорил он неодобрительно, — хлебом бросаешься? Ишь ты, паразит! А за эту паечку, между прочим, люди на воле спину гнут, надрываются, последние силы тратят.
Он долго еще ворчал и бранился в коридоре, но бумагу все-таки дал.
Я торопливо начертал заявление, затем, поразмыслив, решил (для вящей убедительности) подписаться кровью… Рванул зубами кожу на руке, у сгиба левого локтя, и, умакнув в ранку мизинец, густо, размашисто, марая весь нижний край листа, вывел свою фамилию: «Демин».
* * *
Так началась эта голодовка.
Каждое утро, регулярно, мне приносили пайку. (Теперь ее вручал уже не раздатчик, а дежурный надзиратель.) И я отказывался от нее упрямо. И с каждым разом мне все труднее было это делать.
Но главного я все же достиг! Отныне меня никто не беспокоил. Только раз — один лишь раз за все это время — я услыхал невнятную возню за дверью, шепот, сопенье, шарканье шагов. Приоткрылся волчок; в круглой его прорези возник чей-то глаз — тяжелые веки, черный точечный зрачок. Веки дрогнули, сужаясь… Кто-то матча разглядывал меня, смотрел пристально, твердо, словно бы целясь в мишень.
Холод тревоги вошел в меня; на секунду пресек дыхание, продрал ознобом по коже. Медленно, стараясь справиться с внезапным этим ознобом, шагнул я к двери, пригнулся, изготавливаясь.
На что я рассчитывал? Трудно сказать. Сил у меня уже не было никаких; была одна лишь отчаянная мысль: надо идти навстречу страху, надо драться. Драться до последнего!
За годы странствий я приобрел в этом некоторый опыт; кое что усвоил из той науки, которая учит обороняться и умерщвлять. В свое время мне достались неплохие учителя! И теперь я припомнил уроки, полученные в бытность мою на Кавказе и в Ростове, и в портовых притонах Одессы. И хотя я был слаб и немощен и вовсе не годился для схватки, я все же готовился к ней; как бы то ни было, думал я, легко они меня не возьмут. Нет, не возьмут. Не получат такого удовольствия.
Опасения мои, однако, оказались напрасными.
Волчок закрылся, щелкнув. Человек отошел от двери. Прошелестели шаги, где-то далеко, в конце коридора, метнулись гулкие голоса. И все опять затихло надолго.
Да, своей цели я достиг! На какое-то время обезопасил себя, но далось это мне нелегкой ценою… Самыми тяжкими и мучительными были первые четыре дня. В голодовке, между прочим, главное — выдержать именно этот начальный срок.
Я изнемогал от жажды (воду, по счастью, давали, но мало), рычал и корчился от рези в желудке; резь была пронзительная, сосущая, неотвязная… Затем ощущения начали постепенно притупляться, тускнеть; наступила сонливость, странная болезненная истома.
Теперь я подолгу лежал не двигаясь, смежив в забытьи глаза.
Во тьме (которой с исподу обложены веки) вспыхивали и дробились картины прошлого, обрывки пестрых видений; все они были связаны с едой — с томительными образами ее, густыми и сочными красками. И почему-то чаще и отчетливей всего мне вспоминались тс случаи, когда я отказывался от возможности хорошо поесть, пренебрегал этим, брезговал…
Господи, какой же я был тогда дурак! Как мало ценил я все то, что даровала мне судьба.
Я увидел вновь дагестанский аул — небольшое селение, зажатое в тесном ущелье, в шершавых ладонях гор. Там мне довелось ночевать когда-то; дом, в котором я остановился, принадлежал местному барыге — спекулянту, скупщику краденого. Лукавый и хищный в делах, старик этот за столом оказался человеком весьма радушным. Он щедро угощал меня вином и мясом! На столе, загромождая его, дымилась молодая баранина, лежали хинкали (род кавказских пельменей), смачно лоснились куски ноздреватого, тающего курдючного сала.
Хозяин, грузный, распаренный, с багровым и рыхлым лицом, пожирал это сало, заедая его ломтиками баранины; мясо как бы заменяло ему хлеб.
Он откусывал от курдюка, прижмуривался сладко. Затем, посапывая и урча, вгрызался в баранью плоть. Белесый, смешанный с потом жир пузырился на его губах, лениво стекал по подбородку и застывал там, скапливаясь в складках дряблой кожи.
И, глядя на него, на сальные эти, студенистые складки, я почувствовал вдруг тяжелую дурноту. Стало тошно и нехорошо. Я отвернулся и поднялся, закуривая, отошел к окну. И больше уже не прикасался к еде.
Примерно то же было со мной и в Туркмении.
Память вылепила из тьмы очертания тополей, зыбкие заросли кустарника над плетущим арыком, глинобитную мазанку на краю кишлака.
В мазанке этой жил старый мой приятель, планакеш Измаил. (Планакешами называют на востоке курильщиков анаши; в здешних краях ее получают обычно из-за границы, с Памира.) В тот вечер, о котором идет речь, Измаил устраивал «той» — обильное пиршество в честь прибывших к нему афганских контрабандистов. Их было трое: молчаливые и смуглые, они сидели в глубине комнаты на коврах и пестрых подушках, жевали фрукты, тянули зеленый чай.
Я завернул сюда мимоходом, случайно, и вовсе не думал задерживаться, не имел времени, но задержался.
— Уедешь, — сказал Измаил, — обидишь! Не прощу! Оставайся, пожалуйста. Сейчас чай пьем, потом лепешки будем кушать — с медом, с маслом, с кислым молоком. Потом — пилав. Вай, какой пилав!
Он мигнул, улыбаясь. Сложил щепотью пальцы, поднес их к губам и чмокнул звучно и сладострастно:
— Такого пилава ты еще не пробовал, клянусь бородой пророка. Чуешь, как пахнет? Варится… Скоро готов будет… Нюхай, пожалуйста!
— Искушаешь ты меня, Измаил, — сказал я, принюхиваясь к запахам, витающим в доме, и ослабевая от них. — Меня ведь ребята ждут, сам знаешь. А конь у меня ненадежный, с запалом. Дай Бог к утру поспеть!
— Поспеешь, — он взмахнул рукавами халата. — В крайнем случае — своего коня дам.
— Ну, раз такое дело, — пробормотал я, — что ж, лады.
Я вышел во двор — в голубую, лунную, ветреную прохладу. Расседлал коня, задал ему корм. Потом воротился в дом; на этот раз я прошел через заднюю дверь и случайно попал на женскую половину.
Посторонним мужчинам входить сюда запрещено; на сей счет у мусульман имеются строгие правила (и, по-моему, вполне справедливые!). Я знал Азию. И потому, смутясь, поспешил ретироваться.
Но, уходя, я все же успел осмотреться — обшарил взглядом сокровенную эту обитель.
Тут было жарко и надымлено. Гремела посуда, мельтешили женские фигуры. В углу, возле печки, помещалась сухая горбоносая старуха (мать Измаила? Старшая жена его?). Она сидела, привалясь к стене, широко и бесстыдно раздвинув ноги. Юбка ее была заворочена; из-под краешка нижней нечистой рубахи виднелись тощие, сморщенные, перевитые синими жилками ляжки.
Старуха выгребла из квашни комок густого вязкого теста, с маху шлепнула им о ляжку, старательно размяла его там, разгладила пятерней. И затем, изготовив лепешку, ловко швырнула ее на раскаленную шипящую сковороду.
«Господи, — содрогнулся я. — Вот так кухня! Под юбкой готовят… Каким же, в таком случае, должен быть хваленый их пилав?»
Я уехал тотчас же; сказал Измаилу, что спешу, что ждать, к сожалению, не могу никак — боюсь подвести друзей.
И долго еще потом преследовал меня тошнотворный этот образ старухи.
Сейчас я вспомнил о ней почти с умилением.
С каким наслаждением я съел бы здесь ее лепешки! Или, к примеру, «почесноченные» щи, те, которыми меня однажды пробовали угостить в Мордовии, в предместье Саранска.
Помнится, я сидел тогда в избе, за столом, накрытым к обеду. Хозяйка, разбитная, плотная, со свекольным румянцем на скулах, поставила передо мной тарелку огнедышащих щей. Придвинула солонку и хлеб. Потом спросила услужливо:
— Может, почесночить?
— Это как? — не понял я.
— Ну, чесночку сыпануть, а? У нас некоторые любят…
— Сыпани, милая, — согласился я, — сыпани. Я тоже люблю острое!
Все произошло мгновенно.
Очистив головку чеснока, она разгрызла ее, пожевала, шумно выплюнула в ладонь. И деловито «почесночила» мои щи, «сыпанула» туда всю горсть.
Я торопливо полез из-за стола, хватаясь за щеку, ссылаясь на зубную боль. Обед был испорчен вконец; я мысленно чертыхался, кляня хозяйку и эти ее дурацкие щи… А что, в сущности, произошло? Она ведь старалась, как могла, хотела угодить, проявила любезность. «Почесночила» ото всей души!
Любезность эта, если вдуматься, мало чем отличается от среднеазиатской; от той, когда хозяин кормит гостя из собственных рук…
Съежившись в углу, на склизком бетоне, я лежал, вспоминая дороги страны. В какие только края не забрасывала меня судьба! И всюду я сталкивался со странностями местных обычаев и кухни.
На северо-востоке они, кстати сказать, еще более экзотичны, чем на юге.
У камчадалов и якутов, например, первым лакомством считается рыбий и тюлений жир. Желая оказать пришельцу особый почет, они жарко протапливают помещение. Настолько жарко, что приходится поневоле снимать одежду… Гость, таким образом, как бы чувствует себя в бане. В бане, насквозь пропитанной смрадом рыбьего жира!
Многие жители тайги с удовольствием пьют молоко, смешанное со свежей оленьей, кровью. Напиток этот, помимо всего прочего, необычайно красив! Я не оценил его в свое время. Теперь, вспоминая былое, я подумал вдруг о том, что отсюда и возникло, вероятно, известное народное выражение: «Кровь с молоком».
Любопытно также первое мое знакомство с китайцами. Однажды мне случилось заехать с друзьями во Владивосток. Я жил там в «Шанхае» — так назывался знаменитый китайский припортовый район. В нем ютились воры, контрабандисты и проститутки. В нем торговали валютой, опиумом и чем угодно.
Дома в «Шанхае» тесно примыкали друг к другу; они составляли сплошную цепь построек, которая тянулась до самого побережья. Человек в «Шанхае» мог исчезнуть бесследно; зайдя в любой дом, он как бы растворялся… И затем возникал на окраине города, на берегу залива, иногда уже в качестве трупа.
В потаенном этом китайском мирке меня угощали весьма затейливыми блюдами!
Здесь были вареные собачьи головы. Были трепанги — особые морские черви, живущие в прибрежной тине. Были различные слизняки, а также деликатесы, приготовленные на змеином сале.
И все это я разглядывал, трогал руками и отказывался от обильной еды с вежливой, фарфоровой, китайской улыбкой.
Подобные видения посещали меня беспрерывно. Они чередовались, словно кадры в кино. Иногда (особенно в предутренние часы) кадры эти начинали путаться, искажаться, наслаиваться один на другой.
Воспоминания туманились и смешивались с бессмыслицей снов.
Чудовищная, оголтелая жратва окружала меня по ночам! Мне мерещился ветер, пахнущий жиром и кровью. И песок был сыпуч и оранжев, как плов. И по сторонам, загораживая небо, вздымались груды теста, густые глыбы, вязкие оползни, дымящиеся, пропеченные солнцем хребты.
Передо мною словно бы прокручивалась бесконечная кинолента, странная, идущая на грани реальности и бреда.
«Можете спать спокойно»
На исходе восьмых суток меня навестил старший оперуполномоченный капитан Киреев.
Это был тот самый капитан, на которого ссылался Гусь во время недавнего разговора с коридорным, тот «опер», о коем упоминалось в записке!
По существу, это был главный мой недруг — идейная опора сучни, один из вдохновителей начавшегося кровопролития.
Я сообразил все это сразу, едва лишь он, переступив порог камеры, назвал себя. И приподнялся тотчас же, с трудом преодолевая болезненную одурь, головокружение, поволоку сна.
Бред кончился. Наступила реальность. Капитан сказал доверительно:
— Ваше заявление мы прочли.
— Долго читали, — проговорил я медленно, как на морозе, шевеля занемевшим, запекшимся ртом.
— Ну-у, так уж вышло, — он пожал плечами. — Были другие дела — поважней.
Он был строен, этот капитан, рыжеволос и свеж лицом. Это меня, признаться, удивило. Почему-то я воображал его иным — седым, в порочных старческих морщинах.
«Новое поколение, — подумал я, — бериевское племя!
Эсесовцы. Эти хуже всего! Пощады ждать от них не приходится. Фашизм всегда (и, конечно же, неслучайно!) опирается на таких вот — бойких, спортивных, молодых».
— Да, — повторил он, — были другие дела… Но вернемся к вашему заявлению. Кстати, зачем вам понадобилось расписываться кровью? Это ведь, согласитесь, дешевка, — он поморщился. — Дурная мелодрама… Откуда вы ее, эту кровь, насосали?
— Я не насасывал, — возразил я. — У меня кровохарканье. Возможно, даже открытая форма туберкулеза.
Капитан приблизился ко мне, склонился, поигрывая бровью:
— А может, открытая форма страха? Давайте-ка начистоту…
— Но прежде, — сказал я, — закурим, а?
— Пожалуйста, пожалуйста!
Он раскрыл портсигар, протянул его широким жестом, предусмотрительно щелкнул зажигалкой. И потом, дав мне насладиться папиросой, сказал:
— Так вот, если уж начистоту. Вы рветесь в больницу из-за Гуся, не правда ли? Боитесь, что он выполнит угрозу, явится, будет вас гнуть…
«Гнуть» — вот как это у вас здесь называется, — подумал я, глядя в близкое его, холеное, хорошо упитанное лицо. — Уже успели, подлецы, свою терминологию создать.
— Признайтесь, — продолжал напирать капитан, — все ведь по этой причине?
— Причин много, — ответил я уклончиво, — Вы же читали заявление, знаете. Я болен…
— Знаю, — нетерпеливо перебил он меня, — да, да. Но я — о главном!
— Ну, допустим. И что же?
— А то, что бояться вам теперь нечего. Гусь ушел. Уже три дня, как ушел.
— Что-о, — изумился я. — Куда?
— На этап.
— Куда?
— Ишь, как вы оживились, — пробормотал, посмеиваясь, капитан, — даже щеки порозовели.
Он помолчал, затем спросил небрежно:
— Вас интересует что — маршрут?
— Конечно.
— Тут я ничем помочь не могу. Не имею права… Да какая вам разница? Главное — ушел. На север! Так что можете спать спокойно.
— Спокойно? — протянул я с сомнением. — Вряд ли, гражданин начальничек. Ох, вряд ли. Не дадите вы мне покоя! Один ушел — придет другой… Где у меня гарантия?
— Гарантия — мое слово, — веско выговорил он. — А оно, поверьте, надежное. Но и вы в свою очередь тоже должны мне кое-что гарантировать.
— Что же именно?
— Прежде всего — немедленное прекращение голодовки, — он сказал это с расстановкой, отделяя и чеканя слова. — Не-мед-лен-ное! И кроме того, чтоб все было тихо, без шороха, без демонстраций.
Каким-то темным чутьем, арестантским звериным инстинктом я уловил его скрытую растерянность, странную слабину… Он хочет, чтоб все было тихо, — именно этого! Но почему? Почему?
— Вы говорите: без шороха, — сказал я, помедлив. — Однако он уже начался.
— Так вот, кончайте, — заявил капитан. — Иначе примем меры. Начнем кормить принудительно, через кишку. Знаете, как это делается? То-то… Да к тому же еще и статью припаяем, — в голосе его звякнул металл. — Второй срок дадим — за провокацию…
— Ну, положим, провокациями занимаетесь вы, а не я! Я почувствовал на мгновение, как закипает и поднимается во мне горячая волна ненависти:
— Имейте в виду, если понадобится, я тоже приму свои меры.
— Свои? — он прищурился. — Меры? Любопытно… Что вы можете сделать?
— Буду писать! Обращусь в прокуратуру, в Верховный Совет, к самому министру, наконец. Расскажу обо всем, что вы здесь творите.
— Ты думаешь, скотина, — сказал, поджимая губы, Киреев (наконец-то он заговорил истинным своим языком!), — думаешь, это тебе поможет?
— Не знаю. Может быть, и не поможет, неважно, — отмахнулся я. — Но вам повредит, это уж точно!
Во время этого разговора я сидел на полу, прислонясь плечом к сырому бетону стены. Капитан стоял надо мной пригнувшись, упираясь ладонями в расставленные колени… Теперь он распрямился и как-то подобрался весь, потускнел лицом.
И, вглядываясь в него, я понял: я прав! Я угадал верно! Они оплошали, что-то сделали не так… С этим, без сомнения, и связан отъезд Гуся. Ну конечно — с этим! Он же все время жаждал крови. И получил ее, в конце концов. И, очевидно, перестарался, переборщил; искалечил кого-нибудь или угробил, скорее всего — угробил! И, может быть, даже не одного. А здесь ведь не северный концлагерь! Мертвеца в тюрьме не оформишь по классическому стандарту: «убит при попытке к бегству, во время вывода на работу…»
Да и вообще начальство — высшее начальство — не любит таких непредусмотренных смертей; советский арестант, по идее, должен трудиться, вкалывать, строить социализм!
— Лучше уж вы не стращайте меня, — сказал я, — не стоит, гражданин начальничек.
— Я не стращаю, — процедил он угрюмо. — Як тебе по-доброму пришел. А ты, я, вижу, залупаешься… С-смотри!
Так мы долго с ним толковали. Однако я чувствовал — рано или поздно мне все равно придется уступить и смириться; пора было кончать изнурительную эту голодовку.
Возбуждение спало, сменилось слабостью и тошнотой, и я, погодя, сказал, гася истлевший окурок:
— В общем, вы хотите, чтоб было тихо? Что ж, если переведете меня в больницу…
— Переведем, — сказал капитан. — Сделаем! Но… обещаешь?
— Да.
— Ну вот и порядок.
Он снова стал прежним — добродушным, вежливым.
— Все как надо сделаем! Отлеживайтесь, поправляйтесь. Только учтите: долго лежать не придется. Через три дня — этап… Надеюсь, вы обойдетесь без эксцессов?
— Да уж можете быть уверены, — я усмехнулся слабо, — застревать у вас тут я не намерен.
* * *
Междоусобная война, развязанная на харьковской пересылке, оказалась столь яростной и жестокой, что поначалу ошеломила самих чекистов, особенно местных. На какое-то время тюремная администрация растерялась, испугалась ответственности. Именно тогда и явился ко мне оперуполномоченный. В случае скандала я мог бы быть свидетелем весьма опасным: необходимо было избавиться от меня, как можно быстрее спровадить на этап. А сделать это Киреев мог только в том случае, если я сниму голодовку и заявлю, что здоров.
Сомнения администрации продолжались, впрочем, недолго. Вскоре после описываемых здесь событий из Москвы поступили соответствующие инструкции, специальные приказы Берия — и все встало на свое место! Чудовищная наша резня обрела как бы законные рамки. Стихия вошла в берега.
Случилось это, по счастью, уже после того, как я покинул тюрьму. Задержись я в Харькове еще хотя бы недели на две — и мне бы, пожалуй, уже не спастись, не выбраться оттуда живым!
Крестный путь
Я покинул тюрьму августовской ночью — в поздний час, накануне зари. Стояла пора звездопада, и небо было блескучим и зыбким. Высоко, в синеве, бесшумно вспыхивали и косо рушились звезды. Они летели над сонной землей, над громадой города, над нестройной толпой заключенных, уныло бредущих к эшелону.
Существует поверие: увидев падучую звезду — загадай желание. И если сделаешь это быстро, покуда она не погасла, желание исполнится… Я вспомнил об этом в тот момент, когда нас пересчитывали, загоняя в вагоны (вагоны были не столыпинские, а товарные, «телячьи» — и это являлось верным признаком того, что этап предстоит неблизкий!), и с тоской и с надеждой вгляделся в небо. Вгляделся в небо и мысленно воззвал к нему.
Молитвы зеков, как правило, просты. Желания их незатейливы. В этот час, под косыми струями звездопада, все мы загадывали одно и то же, мечтали, в сущности, об одном: чтобы выдержать этот этап, уцелеть и остаться здоровым; чтоб фортуна послала легкую долю и сносную жизнь в той далекой стране, что зовется Система Гулага.
Дороги, идущие туда, не указаны в путеводителях, но заключенные знают их. Они знают: этап — не просто далекий путь. Это путь погибельный и жестокий; крестный путь, уводящий в другую жизнь, к иным пределам.
И, шагая по шаткому трапу, подгоняемый молотком конвоя, и потом, размещаясь в темном чреве вагона, каждый из зеков думал, томясь: «Господи! Упаси! Упаси, Господи, от беды — от урановых рудников Норильска, от торфяных болот Мордовии, от мокрых шахт и заснеженных приисков Колымы».
* * *
За время моей голодовки, как выяснилось, кое-кого из «Индии» успели уже разогнать по этапам: ушли на восток и мои партнеры — Цыган и Резаный — и больше я не встречал их никогда. Не встречал и не слышал о них. Куда занесла их нелегкая? Что с ними сталось? Дождались ли они свободы или, может быть, где-то навек упокоились, сгинули без следа? Сибирь велика и сурова, и насчитывает немало гиблых мест…
Из числа старых знакомцев встретились мне здесь только трое: Рыжий, Ленин и еще один, по кличке Девка — молодой, синеглазый, с ангельским лицом. Он сидел за «мокрое дело» — за убийство — и был приговорен к 20 годам, но это его, казалось, ничуть не заботило. Растянувшись на нарах, заложив за голову руки, он обычно спал — спал крепко и подолгу. А когда пробуждался, лениво мурлыкал сентиментальные песенки. Ленин и Рыжий с утра до вечера резались в карты, а я сочинял стихи.
Вернее — не стихи. До серьезной поэзии я еще не дорос в ту пору, да и, в общем-то, весьма мало думал о ней.
Меня прельщали воровские песни, «блатная музыка», надрывный и сочный арестантский фольклор.
Он имеет прочные традиции и глубокие социальные корни. В нем отражена жизнь уголовного мира, дана история советских тюрем и лагерей, по сути дела, вся история нынешней России!
История эта начинается с Соловков.
Первый крупный концентрационный лагерь возник в начале двадцатых годов на Соловецких островах… Расположенный в Белом море, архипелаг этот принадлежал знаменитому древнему монастырю. Затем монахов потеснили; на острова свезли заключенных, в монастырских кельях разместилось лагерное начальство.
О Соловках сложено в народе множество песен. «Завезли нас в края отдаленные, — повествуется в одной из них, — где болота да водная ширь. За вину, уж давно искупленную, заключали в былой монастырь».
«За вину, уж давно искупленную…» — эта строка не случайна! Возникновение первого всероссийского концлагеря совпало с первыми «изоляциями» — так на заре советской власти именовались повальные, массовые репрессии, периодически потрясавшие всю страну. Законодательство тех лет предусматривало возможность уголовной ответственности для лиц, не совершивших никакого конкретного преступления, но — как сказано в уложении о наказаниях — «представляющих общественную опасность по своей прошлой деятельности».
Под эту рубрику, естественно, подпадало множество разного рода людей… И конечно же — блатные! Во время таких изоляций их брали беспричинно и не считаясь ни с чем. Арестовывали даже тех, кто пытался «завязать» — отойти от преступной жизни…
Все это также нашло отражение в песнях.
Вот как поется об этом в Одессе: «Гром прогремел. Золяция идеть. Губернский розыск рассылаеть телеграммы. Что вся Одесса переполнута ворами. Сплошь преступный илимент. Настал критический момент!»
В конце двадцатых годов на Соловках вспыхнул бунт — был совершен грандиозный групповой побег. На рыбных промыслах, доставшихся лагерю по наследству от монахов, было захвачено несколько парусных ботов; восставшие ушли в море, пересекли демаркационную линию и высадились в Норвегии.
Отчаянный их побег окончился, к сожалению, плачевно. Норвежцы отказали беглецам в убежище и всех поголовно выдали советским властям!
Случай этот, тем не менее, встревожил правительство. Соловки показались местом ненадежным, расположенным слишком близко от западных границ. Лагерь понемногу начали расформировывать — перебрасывать людей в другие края. Большинство заключенных попало на строительство Беломорско-Балтийского канала.
Беломорская трасса протянулась на многие сотни верст — по завалам и топям Карелии, Это был страшный лагерь! В памяти арестантов и в их фольклоре навсегда сохранились такие участки стройки, как Войта и Медвежьегорск. «А да канале есть Медведь-Гора. Сколько там пропавшего ворья! На пеньки нас становили, раздевали, дрыном били, хоронили с ночи до утра…»
Таково было начало! Все это — первые изоляции и лагеря — явилось своеобразной репетицией, пробой сил, начальной школой террора…
И вскоре по всей республике, а в основном у дальних окраин материка, образовались гигантские лагерные управления. Потаенные Княжества чекистов, бесчисленные Штаты зловещей страны Гулаг.
Наиболее крупным из них был «Дальстрой» — в него входила часть Якутии, Колыма, Чукотка. Территория его во много раз превышала Европу.
И больше всего песен посвящено ему, Дальстрою, особенно Колыме! «Клубился над морем туман. Вскипала волна штормовая. Вставал впереди Магадан — столица Колымского края». Песня эта, бесспорно, лучшее из того, что создано на данную тему. Здесь чувствуется точный вкус и немалое мастерство.
Лагерные эти мотивы, однако, не исчерпывают всего многообразия фольклора — далеко нет. Помимо тюремной и каторжной лирики (в сущности, это плач по свободе!) существует также лирика бродяжья, скитальческая, подлинно блатная. Немалое место занимает здесь изображение воровского быта и самого ремесла.
Произведения как бы делятся по профессиональным признакам… Существуют песни майданников — поездных воров, баллады взломщиков сейфов и касс — медвежатников, частушки карманников-ширмачей и романсы убийц.
«Сколько я за жизнь за свою одинокую, — поется в одном таком романсе, — сколько я душ загубил! Кто ж виноват, что тебя, черноокую, крепче чем жизнь полюбил».
Столь же колоритны и выразительны куплеты карманников. В некоторых из них звучит веселое озорство. Вот, например, строки, обращенные к «фрайеру», у которого похитили кошелек: «Так тебе и надо, не будь же ты болван. Не ходи ты по базару наблюдать аэроплан!» Другие преисполнены скорбного лиризма: «Девушек любить — с деньгами надо быть. И я выбрал путь себе опасный».
Не менее разнообразен и репертуар майданников; тут воспеваются поезда, вокзалы, просторы родины. «Летит паровоз по зеленым просторам. Летит он неведомо куда… Назвался, мальчишка, я жуликом и вором и с волей распростился навсегда».
Я увлекся фольклором давно и успел попробовать себя во всех жанрах. Но сильнее всего привлекала меня поэзия дорог и скитаний.
Профессия майданника, пожалуй, романтичнее всех прочих; именно с ней я был связан на воле. И благодаря этому успел объездить — из края в край — всю нашу страну. И этой теме посвящено большинство моих сочинений… Кстати сказать, почти все они созданы были в заключении — в этапе, в пути, в часы томительного и вынужденного бездействия, или в штрафных изоляторах, или же в тиши арестантских больниц.
Это, в общем, закономерно. Творчество требует сосредоточенности, отрешенности от быта, от суеты… А где еще сыщешь большую отрешенность, чем в карцере или в этапном эшелоне?!
Так было всегда. И теперь — на вагонных нарах — я курил, прислушиваясь к гулкому ритму колес, и бормотал про себя слова новой зреющей песни.
«Вот лежим мы сумрачно и немо, — бормотал я, — смотрим в зарешеченное небо. За окном вагона — дымный вечер. От любви далекий путь излечит! Крестный путь. Крутой и скорбный путь… В зябкой тьме, в грохочущем вагоне, ты навек о прошлом позабудь. От тоски беги, как от погони».
Слова вроде бы получались. Но песня эта все же вызревала трудно и медленно. Мысли были неровны, чувства смутны; на сей раз полностью отрешиться от быта я не мог. Шла война, и все вокруг было заражено и отравлено ею.
Имелись у меня и другие, более конкретные причины для беспокойства.
* * *
На Холодной Горе, расставаясь со мною, капитан Киреев сказал: «Гусь ушел. Можете спать спокойно». Что ж, я действительно спасся тогда от грозного врага! Но спокойного сна все-таки не было.
Дело в том, что у меня имелся еще один враг. И в чем-то он даже казался мне опаснее Гуся.
Опасней хотя бы потому, что находился рядом со мною, числился не врагом моим, а соратником, товарищем по партии, причем — старшим товарищем!
Вы, наверное, удивитесь, когда я его назову… Речь идет о Ленине.
Приземистый, лысый, с широким выпуклым лбом, он вполне оправдывал свою кличку — и не только благодаря внешним признакам. Он был на редкость сметлив и опытен. Знал назубок все наши порядки и правила. Убедительно и ловко выступал на общих сходках — толковищах. И считался «авторитетным». А звание это заслужить нелегко. И значит оно много. В сущности, это то же, что член ЦК.
Он давно уже настойчиво и, по-моему, беспричинно цеплялся ко мне; упорно называл меня интеллигентом, и слово это звучало в его устах как-то уж очень сомнительно, нехорошо… И разговаривал он со мною кривясь, с ухмылочкой, с недоброю хитрецой, как бы намекая на что-то, словно бы зная какую-то тайну…
Я все время ощущал его подозрительность, его скрытую враждебность. Ловил на себе косые, странные, испытующие взгляды. И это наполняло меня безотчетной тревогой.
Я чувствовал: добром это у нас не кончится. Нет, не кончится. Рано или поздно что-то стрясется, что-то должно будет произойти.
Кровяная пена
Этап был нелегким; он тянулся четырнадцать дней.
Эшелон наш миновал центральную Россию, перевалил через Урал, проехал Читу и Хабаровск… Наконец он прибыл в бухту Ванина (на побережье Татарского пролива), и теперь мы поняли, куда нас гонят.
Ванинская пересылка была известна всему Дальнему Востоку; она являлась основной перевалочной базой Колымы!
Здесь прерывалась сухопутная трасса, кончалась «большая земля». Дальше — до самого Магадана — заключенных везли морем, в тесноте и смраде трюмных отсеков.
А пока нам было велено выгружаться… Конвой пересчитал зеков, выстроил и подвел к воротам пересылки.
Затем начальник конвоя ушел со списками на вахту; предстояла передача этапа местной администрации, а процедура эта — мы знали — долгая! Разминаясь, ежась от раннего холода, мы толпились возле зоны, разглядывали слонявшихся там людей. Сквозь колючую проволоку были видны темные их фигуры, очертания дальних бараков, гребни крыш, окрашенные зарей.
* * *
Внезапно толпа всколыхнулась, подернулась зыбью; невнятный ропот прошел по ней; так в непогоду начинает шуметь и тревожиться лес…
Проталкиваясь из задних рядов, появился Рыжий. Приблизился ко мне взъерошенный, с потемневшим лицом и сказал хрипловато:
— Тухлое наше дело, Чума. Зона-то ведь — сучья!
— Откуда ты знаешь? — спросил я быстро.
— Все точно! Ребята тут кое-кого распознали… Вроде бы и Гуся видели, — он поежился, выкатывая глаза. — Так что жди приключений.
— Ай-яй-яй, — пробормотал стоящий неподалеку сутулый и сумрачный уркаган по прозвищу Леший. — Что ж теперь будет, а?
Я познакомился с Лешим в пути совсем недавно; его подсадили к нам в вагон на Урале, в Свердловске, и всю дорогу он помалкивал, угрюмо сторонился бесед. Теперь вдруг разговорился:
— Нам здесь быстро концы наведут. Это уж как пить дать… Не-ет, раз такое дело — в зону идти нельзя. Нипочем нельзя!
— Вот и Ленин то же самое говорит, — кивнул Рыжий.
— А сколько всего здесь блатных? — поинтересовался я.
— Хватает, — моргнул Рыжий, — эшелон большой — вагонов тридцать. И в каждом — рыл по пять, не менее того. Вот и считай.
— Да, это сила, — сказал Леший. — Тут уже начальству, хошь не хошь, а придется призадуматься…
— Оно думать не любит, — возразили в толпе, — оно стрелять любит.
— Это вряд ли, — ответил Леший, помедлив. — Стрелять в открытую, на глазах у всей пересылки, на это они не осмелятся. Да и какой им прок? Мы ж не бунтуем! Будем проситься в карантин — он стоит отдельно, на отшибе.
Так и было решено. И когда заключенных стали, наконец, заводить в ворота — блатные сбились в кучу, уперлись и заявили, что в общую зону они не пойдут.
Конвой всполошился. Раскатисто и гулко ударила автоматная очередь. Кто-то из солдат решил, очевидно, припугнуть, нас, а может, сам испугался.
Стрелял он, однако, над головами, — ввысь, в зарю, в блистающий краешек солнца, встающего из-за проволочной ограды.
И тотчас же выстрелы смолкли. Леший оказался прав: учинять расправу принародно, на глазах у всей пересылки, охранники все-таки не осмелились.
— Ладно, черт с вами, — заявил после долгих переговоров начальник этапа. — Не хотите на общих основаниях, запрем в карантин. Но сначала надо пройти санобработку… Баня-то хоть вас, оглоедов, не пугает?
* * *
В баню мы отправились охотно. Поспешно разделись там, посрывали, с себя пропотевшее и засаленное барахло и затем, запасшись у дежурного мылом, ринулись, топая и гогоча, в сырую, душную полутьму.
Странное зрелище представляли собою моющиеся зеки! Тела их были худы и белесы, лица, наоборот, черны… Резкий этот контраст производил впечатление чего-то нереального; словно бы здесь, в арестантской бане, собрались призраки. Костлявые призраки в темных масках…
Таким вот призраком был и я.
Сидя на лавке, я старательно мылся и сокрушенно ощупывал себя — худую свою грудь, крутые дуги ребер, впалый живот. Голодовка не прошла для меня даром. Она сделала свое дело, обглодала и напрочь высушила меня. А чего я, в сущности, добился? Уберегся от украинской сучни, зато попал к дальневосточной… И неизвестно еще, что ожидает нас, что нам здесь грозит?
— А что нам грозит? — услышал я вдруг чей-то голос. — Ну, есть здесь сучья кодла. Подумаешь! Нам ли ее бояться?
Слова эти прозвучали как бы в ответ на мои мысли. И я обернулся тотчас же.
У соседней лавки — в горячих клубах пара — сгрудилось несколько человек. Я различил среди них Рыжего (он и действительно был пламенно рыж, и с головы до пят осыпан густыми веснушками), увидел нежный профиль Девки и бугристую лысину Ленина.
Здесь же сидело двое не знакомых мне парней. Один из них, склоняясь над шайкой, намыливал голову, другой (тоже весь в мыле) курил, скрестив по-татарски ноги, жадно сосал отсыревший окурок и рассуждал басовито:
— Их много? Ну-к что ж. Нас тоже немало… Дай Бог! — скуластое, изрытое оспой лицо его покривилось в усмешке. — Чего ж это нам в карантине прятаться, под замком сидеть, как в тюрьме? Мы в карантинах еще насидимся.
— Нет, ребята, — проговорил отфыркиваясь, другой — тот, что мылил голову, — как хотите, а я — за общую зону! Если будем держаться вместе, всей оравой…
— А почем ты знаешь, как там получится? — вздрагивающим голосом спросил его Ленин. — Растасуют нас по отдельным баракам — и все. И кранты. В первую же ночь передавят как кроликов!
— А-а-а, — отмахнулся Рябой и выплюнул окурок. — Больно уж вы пужливые!
— А ты, я вижу, храбрый, — зачастил, задергался Рыжий. — Только чем она пахнет, эта храбрость? Ох, Рябой, что-то ты крутишь…
Разговор этот, видимо, начался давно и сейчас доходил уже до крайнего накала; спорящие горячились, нервничали, перебивали друг друга.
Я не дослушал их, отвлекся. Подошла моя очередь брать кипяток, и я пошлепал к крану и долго стоял там, нацеживая воду. Она текла неровно, с перебоями, плюясь и обжигая руки.
Я стоял, пригнувшись, держа на весу тяжелую дубовую шайку. Неожиданно за спиной у меня послышалась глухая возня, торопливая и яростная ругань.
В следующую секунду я увидел Рябого. Он бежал, увертываясь от ударов, прорываясь к дверям.
Кто- то замахнулся на него сбоку, и он отшатнулся стремительно. И поскользнувшись — с коротким сдавленным воплем — рухнул навзничь на мокрый пол.
Падая, он, вероятно, повредил себе ногу. Приподнялся, попытался встать и не смог.
Появился Девка. Он улыбался, этот красавчик! На щеках его подрагивали ямочки, синие глаза были чисты и безмятежны… Выхватив из рук моих шайку (она была уже налита до половины), он шагнул к Рябому, сказал, пригибаясь:
— К сучне захотел? К своим?
И с маху, точным движением, плеснул в лицо его кипятком.
Я зажмурился, отворачиваясь. А когда открыл глаза — передо мною копошилась груда лоснящихся тел. Здесь я снова заметил Девку; он ударил упавшего ребром тяжелой шайки. И потом еще раз. И еще.
Люди словно бы остервенели, впали в странную истерику. Волна жестокого безумия захлестнула их… Захлестнула и тотчас же кончилась, сошла на нет.
Наступила тяжкая, давящая тишина.
И в этой тишине прозвучал задыхающийся, ломкий голос Рыжего:
— Конец…
— А тот, другой? — спросили его.
— Тоже, — ответил Рыжий. — Оба готовы… О Гос-споди! Толпа поредела, рассеялась по сторонам. Теснясь и толкаясь, люди ринулись в предбанник одеваться.
Стал виден Рябой. Он лежал недвижимо. Одна его рука была простерта к двери, другая — окоченелая и скорченная — прикрывала лицо. Из пробитого черепа сочилась кровь, смешивалась с мыльной пеной и окрашивала ее в радужные тона.
Вдруг мне почудилось, что Рябой шевельнулся… Но нет, он был мертв! Это шевелилась пена; она кипела и ползла, пузырясь, и опадала на пол багряными яркими хлопьями.
Марсианин
История эта наделала шуму, из Владивостокской прокуратуры прибыла специальная следственная комиссия. Было создано «Дело о групповом убийстве в бане». Троих ребят, принимавших участие в избиении, отправили закованными в наручники во внутреннюю тюрьму.
Каждому из них предстояло получить теперь «довесок» — новый дополнительный (и немалый) срок.
Все остальные попали вместо карантинной зоны в БУР (Барак Усиленного Режима). По существу, это был самый обычный карцер. И уже чувствовал я, что карцеры будут теперь сопутствовать мне постоянно и вся моя лагерная жизнь пройдет отныне под этим знаком!
Вечером мы долго не спали с Лениным, толковали о случившемся.
— Как же это все-таки произошло? И главное — за что? — спросил я, с отвращением припоминая подробности убийства — шевелящиеся тела, кровяную радужную пену. — За что их? Неужели за одни только слова? За сомнения?
— Сам не пойму, — наморщился задумчиво, собрал складками кожу на лбу. — В общем, если бы Рябой не побежал тогда, ничего бы и не было. Ну, поорали бы малость. Ну, может, дали бы разок по шее, — эка важность! А он вдруг рванул к дверям… С этого и началось.
— Кошмар, — пробормотал я.
— Да уж конечно, — согласился он, позевывая. — Хорошего мало. Но с другой стороны, что Бог ни делает…
— Бога ты сюда не приплетай! — сказал я.
— Нельзя? — спросил он с юмором. — Ладно, не буду. Мне все едино — что Бог, что сатана! Я человек простой, необразованный. Да и вообще, дело не в том.
— А в чем же?
— Дело в том, что время сейчас особое, смутное… Война! — он посмотрел на меня, сощурясь. — Верно я говорю, интеллигент?
— Н-ну, верно.
— Верно, — повторил он медленно. — Ну, а раз война — всякие сомнения уже пахнут предательством. Кто знает, что у этого Рябого было на уме? Ты знаешь?
— Нет, — я пожал плечами. — Откуда?
— И я не знаю, — сказал он. — И никто. А сейчас самое главное — знать именно это! Знать, чем дышит человек, на что он годится, к кому можно без опаски повернуться спиной.
— Это, пожалуй, самое сложное, — возразил я. — Чем дышит человек? Поди разберись.
— Можно, — сказал Ленин, — можно и тут разобраться. Есть слова, есть поступки, по ним и надо судить. Вот, скажем, ты…
— А что — я? — мгновенно настораживаясь, спросил я. — Что?
Я все время чувствовал, что Ленин исподволь, но неуклонно добирается до меня. Кружит, делает петли… И круги эти постепенно сужаются.
— Что, собственно, можно сказать о моих поступках?
— Да, в общем, ничего существенного. Так только — мелочи. Взять хотя бы ту же баню… Ты как себя повел?
— Никак…
— В том-то и суть!
— Ну, хорошо, — сказал я тогда, — а ты? Как ты себя повел?
— Так я — причем? — удивленно развел он руками. — Я был в стороне.
— Ну а я рядом. И что же? Там было много народу. Кто успел — тот сделал. Я не успел.
— Вот, вот. Сделал Девка. А почему? Шайка с кипятком-то ведь была у тебя в руках!
— Так уж вышло. Девка подскочил, выхватил…
— Нет, голубок. Ты сам ему отдал! Я хоть и оказался в стороне, но все видел, — Ленин придвинулся, задышал мне в лицо. — Не осмелился, не рискнул плеснуть; предпочел, чтобы марались другие!
— К чему ты все это говоришь? — спросил я негромко. — Хочешь обвинить меня в чем-то? Давай!
— Обвинить пока трудновато, — усмехнулся он, — но подозрения — это правда — имеются.
— Так изложи их! — я приподнялся, глядя в круглые его, ледяные глаза. — Изложи свою мысль, черт тебя возьми! В чем ты меня подозреваешь?
— В том, что ты не наш…
— Кто же я, по-твоему?
— Хрен тебя знает. Марсианин… Из другого мира! Не из блатного — во всяком случае!
— Эт-то еще надо доказать! — заявил я. — Сам знаешь: без уличающих фактов…
— Кое-какие уже есть, — сказал он, — да, кое-какие. — Ты вот говоришь, что твоя мать проститутка, а отец ростовский босяк. Правильно? Что ты вырос в притоне… Так?
Все это я, действительно, говорил когда-то. И не раз. И теперь мне пришлось согласиться с Лениным.
— Допустим, — сказал я, изучая его и готовясь к очередному подвоху.
— Тогда растолкуй — откуда эта начинка? Вся эта твоя образованность, интеллигентность — откуда они? Кто приучил тебя к книжкам, к сочинительству — отец-босяк? Или мать-проститутка? Культурный был у тебя притон…
Я растерялся на мгновение; слишком внезапно нанесен был этот удар! Однако молчать нельзя было. И подавшись к нему, сказал:
— Почем ты знаешь, может быть, я гений! Вроде Максима Горького. Слышал о таком писателе? Он тоже вырос в притонах. Но, даже если я и выдумал эти дурацкие притоны, что из этого?
— Если выдумал одно, вполне можешь и другое… Все остальное.
— В остальном ты ничего не можешь мне предъявить! Меня многие знают. Знают по делам, по свободе! Все эти домыслы — на песке. Доказать ты ничего не сможешь. А вот я, например, могу тебя публично обвинить в том, что ты специально работаешь на сучню — подкапываешься под честных урок, порочишь их, ослабляешь наши ряды.
— А ты ловок, — сказал он протяжно. — Да-а-а, ловок… Интересно было бы с тобой колупнуться всерьез.
— Ну что ж, — сказал я, — рискни.
— Рискну, — спокойна ответил он, — только не сейчас. Потом как-нибудь. Посмотрю еще на тебя. Поприглядываюсь.
* * *
Ленин, в общем, угадал все точно. Я и в самом деле был Марсианином — был чужим здесь, пришедшим со стороны! Но ему я, конечно, не мог тогда признаться в этом…
Теперь, наконец, пришла пора оглянуться на прошлое. Впереди еще длинная водная дорога, многие сотни морских миль. Кораблю предстоит пройти Татарский пролив, затем — пролив Лаперуза. Миновать туманные берега Японии, скалистый и ветреный Сахалин. А потом — пересечь Охотское море, седое, мутное, дышащее осенней стужей.
Там корабль еще долго будет идти, поднимаясь к шестидесятой параллели, будет вздрагивать и скрипеть, зарываясь в пену, переваливаясь в соленых бурунах… И, воспользовавшись случаем, я хочу припомнить свое детство и юность и рассказать обо всем подробно.
Рассказать о том, как рухнула и распалась моя семья, как я начал бродяжничать. Как и с чего это все началось.
Шторм над Россией
Подмосковье
Если лагерную мою жизнь проще всего изобразить графически — углем, черной тушью, — то детство и юность мои живописны, пестры, исполнены сочных бликов и ярких тонов.
Стоит только прикрыть глаза, на мгновение заслонить их ладонью, и тотчас же передо мной возникают подмосковные сосны — сквозная, синяя, прошивая солнцем хвоя, оранжевые стволы и белый песок…
Под шумящими этими соснами, в дачном поселке Кратово, прошли все мои ранние годы. Обширный наш поселок принадлежал всероссийскому обществу старых большевиков и политкаторжан; здесь жили семьи участников революции, ветеранов подполья и героев гражданской войны.
Одним из организаторов этого общества был мой отец — Евгений Андреевич Трифонов.
Я вижу его отчетливо, как живого. Вижу, как он улыбается, морща брови, поблескивая стеклышками пенсне; как грустит он и гневается (лицо его при этом твердеет, становится угловатым, словно бы вырубленным из камня). Вижу, как идет он по улицам поселка — размашисто, чуть косолапо, по-кавалерийски, плотно вбивая в пыль каблуки армейских сапог.
Кадровый офицер, он презирал штатскую одежду, все эти галстуки и пиджачки. Он всю жизнь носил военную форму. Только ее! И таким остался в моей памяти навечно: гимнастерка, орден Боевого Красного Знамени (у него был орден за номером 300), скрипучая портупея, кобура на ремне.
Поясной этот ремень — широкий, желтый, с металлической пряжкой, на которой поблескивала выпуклая звезда, — пожалуй, запомнился мне сильнее всего. Отец нередко сек им меня, наказывал за провинности: за разбитое из рогатки стекло, за костер, который я разложил в дровяном сарае, играя в индейцев…
Тщедушный, маленький, лопоухий, я уходил после порки, держась обеими руками за саднящий, ноющий зад; на нем еще долго потом багровел отпечаток пятиконечной звезды.
Я уходил, преисполненный горя и обиды… Но, впрочем, долго обижаться на отца не мог: он ведь учил меня за дело! И говорил, посмеиваясь:
— Провинился — терпи. Ты же казак! Терпи, атаманом будешь.
И еще он говорил:
— Вообще, не бойся битья. Не смей бояться. Помни — от этого не умирают.
И еще:
— Умей держать удар, принимай его без опаски. И уж если случится драка — не плачь, не беги. Отбивайся, как можешь. И самое главное, не бойся! Хитрить в схватке можно, трусить нельзя.
Он много так беседовал со мной и с братом моим Андреем, но чаще со мной. Может быть, потому, что мне чаще попадало…
— Чему ты учишь ребенка? — порою спрашивала его Ксеня; смуглолицая и хрупкая эта женщина заменяла нам мать. Она была хорошей мачехой, отнюдь не такой, о каких рассказывают в сказках. Она относилась к нам с заботой, жалела и воспитывала нас, как могла.
— Разговоры о драках, о битье, по-моему, только портят малышей.
— Ничего, — отвечал отец, оглаживая ребром ладони рыжеватые свои, коротко подстриженные усы, — ничего! Когда-нибудь все это еще пригодится.
— Но когда? И почему? — удивлялась Ксеня. — Жизнь теперь, слава Богу, тихая… Ты все меряешь своим прошлым, а оно, я уверена, не повторится! Поговорил бы лучше о книгах, о литературе.
— Что ж, — усмехался отец и легонько ладонью ворошил мои вихры, — можно и о литературе… Если сравнить се с дракой, то возникает парадокс. Качества, необходимые в первом случае, абсолютно неуместны во втором; они как бы взаимно исключают друг друга. В драке нужны злость и хитрость, а в искусстве, в творчестве, наоборот, — доброта.
* * *
С этим периодом совпадают первые мои стихотворные опыты… Стихи почему-то получались у меня тогда на удивление мрачные, исполненные пафоса и сатанинской гордыни.
Одно из стихотворений случайно попалось отцу на глаза; начиналось оно такими строками:
Я шел сюда, чтоб выше быть
Всех остальных людей,
Я никогда не мог забыть
Тех, славы полных, дней.
Подозрительно долго разглядывал отец мои каракули; я следил за его лицом. По мере чтения оно становилось все более жестким, угловатым… «Ну, будет порка!» — подумал я с беспокойством. Но нет, он не тронул меня. Он вообще ничего не сказал, отворотился, нахмурясь, и подошел к окну, и так молчал какое-то время, жуя папиросу, барабаня пальцами по стеклу.
О чем он размышлял? Что его так огорчило? Может быть, странное, несколько параноическое направление моих мыслей?…
* * *
Мы с братом росли без матери; родители наши разошлись давно, в начале тридцатых годов. Мать вышла замуж за другого, жила где-то в Москве, и я ее плохо помню в этот период.
За годы, проведенные в Кратове, я видел мать всего лишь раза три; она приезжала к нам неожиданно, тайком от отца, и встречи наши были коротки и печальны.
Она приезжала не одна; се сопровождал какой-то мужчина — молчаливый, высокий, причесанный на косой пробор.
Я смотрел на него, как смотрят на дерево — снизу вверх, запрокинув лицо. В этом ракурсе он казался мне непомерно большим и странно суженным наверху; громоздкое туловище, длинный пиджак и крошечная, гладко прилизанная голова…
— Шурик, — говорила мать, прижимаясь к нему, — не правда ли, прелестный пейзаж! Прямо левитановский, — она улыбалась, и рот ее вздрагивал, и щеки блестели от слез. — Речка, сосны, смолистый воздух… Детям здесь хорошо.
Об этих ее посещениях отец узнавал от своих друзей (он обычно возвращался из Москвы вечером, с девятичасовой электричкой). Однажды я подслушал его разговор с соседом по даче, пожилым и грузным украинцем, работником военной прокуратуры.
— Была, говоришь? — спросил отец, тяжело облокачиваясь на штакетник. — С ним была, с этим?
— С ним, — кивнул сосед, помолчал, разжигая трубку, и потом вполголоса добавил: — Слушай, Женя, мы с тобой старые кореша; знаем друг друга с девятьсот пятого года, вместе каторгу отбывали, войну прошли — так?
— Так, — согласился отец. — Но к чему это предисловие? — он усмехнулся и тщательно протер пенсне. — Хочешь что-то сказать?
— Хочу спросить. Ты уж извини, брат… Но объясни мне: как ты все это допустил — с самого начала, а?
— А что я мог поделать?
— Почему ты его сразу — этого хлыща, этого пройдоху — не отвадил, не изломал на куски? Ну, когда он в первый раз появился. Я же знаю, как ты рубаешь; из одного двух делаешь. Помнишь, тогда, под Ростовом…
— Так ведь то в бою, — медленно, хрипло, с трудно сдерживаемым вздохом, проговорил отец. — Тогда все было иначе… И в общем, если вдуматься, дело здесь не в нем, а в ней. В ней одной.
— Что ж, это тоже верно, — сказал сосед и посипел задумчиво трубкой. — На войне все было иначе. И ты ей тогда нужен был, вот в чем вся суть! Как ни говори, а в ее положении выскочить за комиссара — это было спасение. Ты ж ее защитил, увез от беды! И родне ее потом помогал; выхлопатывал визу в Париж…
Были и другие, памятные мне разговоры. И так — постепенно, исподволь — я узнавал подробности о своих родителях. И если теперь собрать воедино все, что я услышал и понял, а затем и прочел, то получается история весьма романтичная…
Я постараюсь изложить ее покороче и побыстрей, иначе тема эта может разрастись и увести нас в сторону от сюжета. Когда-нибудь я, возможно, посвящу ей отдельную книгу. Но сейчас у меня задача иная. Итак, о моем отце.
* * *
Донской казак по происхождению, он с ранних лет покинул родную станицу; ушел в Ростов, бедовал там и бродяжничал. Некоторое время был связан с «серыми» — так именовались в старом Ростове слободские бандиты-налетчики, а затем примкнул к большевистскому подполью. Сблизиться с подпольем помог ему брат Валентин (также ушедший смолоду из станицы). В 1903 году Евгений Андреевич вступил в РСДРП. И спустя два года уже принимал участие в ростовском вооруженном восстании — командовал боевой дружиной на Темерникских баррикадах (в ту пору ему исполнилось двадцать лет). После разгрома восстания братья были схвачены и заточены в Новочеркасскую военную тюрьму. После суда Валентина сослали в Зауралье, в Тюмень, а Евгений, приговоренный к 15 годам каторжных работ за убийство жандармского офицера, вместе с партией кандальников отправился по этапу в Восточную Сибирь.
Там, на каторге, он начал писать и стал поэтом. Он создал книгу стихов «Буйный хмель», впоследствии принесшую ему известность и оставшуюся в литературе как своеобразный и, пожалуй, единственный в своем роде образец тюремной и каторжной лирики начала нашего века. Отдельные стихи на эту тему были тогда, конечно, не редкостью — они встречались у многих поэтов, но целая книга, специальный сборник, имеется только у него… (И сейчас, когда я пишу эти строки, я думаю о том, как много общего в наших с ним судьбах! Мои скитания тоже ведь начались на юге, на Дону, среди ростовских бродяг и уголовников. И по тем же самым каторжным пересылкам, по тем же этапам прошел я в свое время! Одно и то же количество лет провели мы в тайге, и первый мой поэтический сборник, вышедший в Сибири, состоял в основном из стихов, написанных в заключении и в ссылке…)
Книга «Буйный хмель» создавалась свыше десяти лет — в лесных острогах, на завьюженных рудниках. И наконец незадолго до освобождения (свободу отцу принесла амнистия, объявленная в честь трехсотлетия Дома Романовых) он высылает стихи в Питер, брату Валентину Трифонову.
Он пишет на узких полосках бумаги убористым, очень четким почерком. (В детстве я любил, забравшись украдкой в отцовский кабинет, рыться в его архивах и разглядывать эти листки.) Пожелтевшие, ветхие, они все помечены лиловатым овальным клеймом: «Просмотрено в Александровской тюрьме».
Их сохранилось немало, этих посланий — грустных и задумчивых, насмешливых и строго деловых. «Уничтожь все даты под всеми стихами, — советует он брату. — Когда исполнишь указанное, отошли рукопись Горькому». Однако к Горькому рукопись не попала — грянула февральская революция. В ту пору было не до стихов, не до литературных бесед.
Валентин находился в подполье, вел партийную работу, а Евгений был уже на пути в Петроград…
Здесь, в столице, он сходу включается в события, становится начальником городской рабочей милиции, членом Главного штаба Красной гвардии. Затем входит в состав знаменитой «инициативной пятерки», подготовляющей захват Зимнего дворца. А потом — после переворота — отправляется на фронт в качестве военного правительственного комиссара Южнорусских областей.
Гражданская война, как известно, началась на юге России и в первую очередь охватила казачий Дон. Главнокомандующим Донской белой армией был в ту пору генерал Святослав Варламович Денисов (родной дядя моей матери). Красные казачьи части возглавлял мой отец.
Комиссар Трифонов и генерал Денисов столкнулись на поле боя, не ведая того, что вскоре им суждено будет, так сказать, породниться… Но, даже если бы и знали они, все равно вражда, разделявшая их, была свирепой и непримиримой. Об этой войне написано много; повторяться нет смысла. Замечу только, что бои велись долго, с переменным успехом. Наконец белая армия дрогнула, фронт откатился, город прочно заняли большевики.
Штаб военного правительственного комиссара разместился в просторном барском особняке, принадлежавшем новочеркасскому нотариусу Владимиру Аполлоновичу Беляевскому.
К тому времени семья Белясвских уже начала рушиться; неожиданно скончались от сыпняка дочери Владимира Аполлоновича — Варвара и Вера. Потом и сам он слег, разбитый параличом, и больше уже не поднялся… Он умер, так и не успев вывезти семью за границу.
Елизавета Варламовна, жена его (или, вернее, вдова) долгое время ютилась на чердаке своего собственного дома; выселенная по приказу властей, она жила там с двумя оставшимися дочерьми — старшей Татьяной и младшей Ликой.
Я часто пытался вообразить их тогдашнюю жизнь… Наверное, все, что творилось вокруг, казалось им дурным сном. И сам особняк их выглядел дико и непривычно: дворянское гнездо превратилось в казарму! Ни днем ни ночью теперь не затихал здесь гул голосов, бряцало оружие, стрекотали штабные «Ундервуды». Изредка во двор врывались вестовые на храпящих, запорошенных пылью конях. Они привозили донесения с фронта. Для Беляевских донесения эти были безутешны — фронт отходил все дальше и дальше.
Так они жили, три этих женщины. А затем семью постиг новый удар. Осенью 1919 года внезапно сбежала из дома Лика: ее увез Евгений Андреевич Трифонов — ночью, тайком, на казачьей тачанке.
Событие это вызвало в Новочеркасске немалый переполох. Связь красного комиссара с дворянкой, племянницей самого Денисова, была скандальной и озадачила всех. Что ж, это понятно. Революция не терпит полутонов. Она отчетливо и безжалостно делит мир на два лагеря, на два цвета. И отец мой, и мать — оба они как бы совершали отступничество, изменяли классовым идеям эпохи. Именно потому им и нужна была тайна. (Как выяснилось впоследствии, знала обо всем и активно содействовала влюбленным одна лишь сестра Евгения Андреевича — Зинаида Болдырева, проживавшая в Новочеркасске по соседству с Беляевскими. В доме у Зинаиды Андреевны они и встречались, и готовили свой побег.) Отец увез мою мать в степь, в родную станицу, и укрыл там на время. Он сделал это не зря: нужно было выждать, пока утихнет шум, улягутся людские толки…
Вскоре они окончательно покинули эти места. Шла война, гремела из края в край, и отец колесил по ее дорогам; командовал 9-й кавалерийской дивизией в Конармии Буденного, сопровождал на Дальнем Востоке «Золотой поезд» с казной, отбитой у Колчака, сражался в Средней Азии с басмачами. Среднеазиатская эта кампания была, в сущности, последней; гражданская междоусобица кончилась, наступила мирная жизнь.
В середине двадцатых годов отец переселяется в Москву… Война отгремела, кончилась, но покоя нет ему и теперь. Да, в сущности, он и не ищет покоя; профессиональный военный, он по-прежнему служит в армии, инспектирует войска. И одновременно занимается литературным творчеством — публикует книги под псевдонимом Евгений Бражнев.
Всю жизнь свою тянулся он к литературе. Он не мог не писать, но писать было некогда; лишь урывками, изредка брался он за перо. И все же в мирную эту пору им создано немало: биографический роман «Стучит рабочая кровь», пьеса «Четыре пролета», книги о гражданской войне «Каленая тропа» и «В чаду костров». И во всех его произведениях (так же, как и в первом, каторжном сборнике) видна судьба его, звучит эта эпоха — кровавая, яростная и неповторимая вовек.
Как же жила все эти годы моя мать? Что сказать о ней? Судьбы женщин, как правило, не столь богаты внешними событиями. Участь у них иная. И мир их иной — сокровенный и странный…
После бегства из дома она утратила со своими родственниками почти всякую связь; Елизавета Варламовна прокляла ее в гневе и долго потом не могла простить. Встретились они уже в Москве — и ненадолго. В 1925 году, после многих мытарств, бабушка и тетя получили, наконец, долгожданную визу; выехали во Францию и остались в этой стране навсегда.
Я родился через год после их отъезда. Самые ранние мои младенческие воспоминания связаны сначала с Финляндией, а затем с Москвой, но тут все непрочно и зыбко. Образ матери предстает мне как бы в тумане, а затем и вовсе тускнеет, удаляется, гаснет… Она ушла, бросила нас — как я уже говорил — в начале тридцатых годов. И именно после этого отец женился на Ксени и переехал с нами в Кратово.
Вот я закрываю глаза и опять мне видится далекое Подмосковье. Косогоры, стога, одуванчики у дороги. Росяная, осыпанная бликами опушка бора. Оранжевые стволы и белый песок.
Я рос там, играл — строил песочные города — и не думал о переменах. Жизнь казалась мне безмятежной и прочной. Я и не знал, не ведал, что она, по сути дела, вся держится на песке; что в любой момент она может рухнуть, развеяться — от внезапного ветра, от первого дуновения беды.
Беда
Лето 1937 года было знойным и ветреным. Пыльные смерчи крутились по улицам поселка, шумя и сшибаясь, раскачивались над крышами сосны. И высоко и пронзительно ныли телеграфные провода.
Ветер выволакивал из-за леса лиловые тучи; он словно бы пас их, свистал и подстегивал и стремительно гнал в вышину. Косматые, отягченные влагой, они росли и затмевали небо. И нередко по вечерам на поселок обрушивалась гроза.
Звенящая пелена дождя возникала тогда за окнами нашего дома. Время от времени с коротким грохотом сумрак распахивался, таял и тут же смыкался, густея. И с каждым сполохом грозы темнота становилась все плотней.
В один из таких вечеров отец явился домой с запозданием — усталый, вымокший и необычайно угрюмый.
— Господи, — сказала Ксеня, — что случилось? На тебе лица нет…
И потом — принимая из рук его тяжелую, сырую шинель:
— Ты ел что-нибудь?
— Н-нет, — ответил отец, — не хочется… Вот водки — выпью!
— Но что все-таки случилось?
— Арестован Валентин, — сказал, запинаясь, отец. — Странные вещи творятся в Москве…
Голос его пресекся; он словно задохнулся на мгновение и сильно — торопливым движением — рванул тугие крючки воротника.
— Валентин? — ахнула Ксеня, бледнея.
— Да. Сегодня.
Тут он заметил меня (взлохмаченный и босой, я выглядывал из детской) и приказал — неожиданно резко и громко:
— Эт-то что такое? А ну, в постель! Живо! — и пошел, тяжело ступая, по коридору.
Я долго не мог уснуть; сквозь неплотно притворенную дверь сочился свет, доносились всхлипывания Ксени, тревожные, приглушенные голоса.
Именно тогда впервые услышал я слово «террор».
— Понимаешь, я был в академии, готовился к докладу, — рассказывал отец. — И вдруг звонок. Насчет Валентина… Ну, я сразу — в ЦК. А там говорят: ваш брат оказался врагом…
— Но как же так? — удивлялась Ксеня. — Какой же он враг? Известный революционер, крупный дипломат. Живет в доме правительства… Нет, тут, наверное, ошибка.
— Дом правительства, — протяжно сказал отец. И сейчас же я представил себе обычную его хмурую усмешку. — Этот дом уже наполовину пустой… Взяли не только Валентина, взяли многих! Такого террора страна еще не знала.
— Но почему, почему, — не унималась Ксеня. — Откуда это идет?
— Сверху, конечно.
— Погоди. Ты говоришь — сверху. Но ведь арестовывают как раз тех, кто принадлежит к самой верхушке…
— Есть еще политбюро, — жестко выговорил отец, — есть Сталин.
— Сталин, кажется, знаком с Валентином?
— Знаком… Когда-то встречался с ним в подполье, даже жил у него одно время — в Питере, на конспиративной квартире.
— Неужели же он не верит…
— Он вообще не верит никому. И это самое чудовищное. Никому и ничему! И особенно преследует тех, кого знает лично.
— Господи, Господи, — забормотала Ксеня. — Что же теперь будет? Значит, тебя тоже могут арестовать…
— Могут.
Отец умолк. Звякнула посуда. Послышалось бульканье льющейся жидкости.
— Конечно, могут, — повторил он затем. Со стуком поставил стакан. Чиркнул спичкой, прикуривая. — У меня, признаться, уже начались кое-какие неприятности…
— Ты ничего не утаивай, — голос Ксени дрогнул, упал до шепота. — Рассказывай обо всем, ладно?
— Ладно. Ну, так вот. Сейчас происходит чистка командных кадров. Уже заготовлены списки неблагонадежных… И там, по слухам, есть и моя фамилия.
Он еще помолчал, постукал пальцем о край стола: — Любопытные, между прочим, списки! По сути дела, в них — вся старая ленинская гвардия…
— Так что же он, этот Сталин? — внезапно и звонко спросила Ксеня. — Сумасшедший, злодей? Кто?
— Не шуми, — сказал отец. — Не знаю. Ничего не знаю… Но все, как видишь, идет к одному… Если террор не прекратится, наступит и моя очередь, это ясно. Рано или поздно доберутся, возьмут. Да иначе и быть не может… Что я — хуже других?!
Вдруг он встал, заспешил и, пройдя на цыпочках по коридору, набросил на плечи шинель.
— Куда ты? — испуганно шепнула Ксеня.
— К Никифорову, — пояснил он хмуро. — Хочу поговорить насчет Валентина; он, по-моему, в Бутырках находится. А комендант Бутырской тюрьмы — старый друг Никифорова, понимаешь? Они вместе еще в ЧОНе служили… Зайду, попрошу: пусть узнает что-нибудь, справки наведет…
— Но ведь поздно уже — два часа ночи! Все давно спят.
— Спят? — усмехнулся отец. Посмотри-ка, глянь в окно! Спокойно спать теперь могут только дураки или доносчики.
Он ушел. Я разбудил Андрея; мы приникли к окошку и замерли, удивленные.
Ночная тихая улица была залита светом!
Гроза давно иссякла, и небо очистилось; голубые млечные огни роились над крышами, мигали в сосновых ветвях и смешивались с густыми поселковыми огнями.
Все окна вокруг были ярко освещены, и каждое окрашено по-своему. И в пылающих этих квадратах (оранжевых, белых, зеленых) маячили тени, двигались зыбкие силуэты людей…
И это было красиво и страшно.
* * *
О судьбе Валентина отец так и не смог ничего узнать; младший брат его исчез бесследно — и навсегда. Где он погиб? Когда? При каких обстоятельствах? Вероятно, его, как и многих, расстреляли в подвалах Лубянки — тотчас же после ареста. А может быть, все было иначе… Может, он умер от пыток — мучительно и не сразу — и долго где-нибудь лежал, томимый болью, с отбитыми почками, с переломанными позвонками. О чем он думал в последний свой час? Что ему привиделось перед кончиной — донские синие плесы? Родная станица? Семья? Или крутые, окропленные кровью, пути революции — былой ее пламень и нынешний мрак…
Отец мой метался по Москве — и чувствовал себя как в пустыне, как в безлюдной степи. Официальные запросы оставались без ответа, а надежных друзей, к которым можно было обратиться за помощью, становилось все меньше. Вскоре их почти совсем не осталось. Большинство из них сгинуло, подвергшись репрессиям, а другие — те, кто сумели уцелеть, постепенно начали сторониться его…
Он был в опале. Это знали все! Дела его были нехороши, будущее — туманно. Устав от сомнений и маяты, отец подал командованию рапорт с просьбой направить его в Испанию (там в горах Гвадалахары, в окопах Валенсии и Арагона, сражалось немало старых его соратников). В просьбе этой было отказано. Тогда он решил уйти в отпуск — и был отпущен безоговорочно и сразу.
И с этих пор началась у нас странная жизнь — тревожная, призрачная, бессонная.
Все ночи теперь отец проводил в своем кабинете; курил и расхаживал, поскрипывая сапогами.
Он ждал ареста! Знал, что в любую минуту за ним могут прийти (приходили, как правило, по ночам), и потому не спал. Не желал быть захваченным врасплох. Хотел достойно встретить беду и разделить участь брата.
А беда была близко; она бродила где-то за порогом, и любой сторонний звук — шорох шин за окном, шага на лестнице, дребезг звонка — все напоминало о ней, дышало ею…
Молчаливый, затянутый в ремни, он ходил до рассвета — размеренно, грузно, сцепив за спиною руки по старой тюремной привычке. Эту привычку он приобрел в казематах Николаевской России. Прошло почти тридцать лет, и вот сейчас он как, бы вновь вернулся в прошлое.
Однажды, пробудясь случайно перед зарей, я услышал негромкий глуховатый басок; отец читал в одиночестве стихи из книги «Буйный хмель» — он вспоминал свою молодость. «От окна и до дверей, — читал он в раздумье, — шесть шагов в докучном круге. Медлит ночь в холодной скуке. Тихо в камере моей! Лишь шаги по гулким плитам отмеряют бег минут… И ничто, ничто уж тут не напомнит о забытом. Было прежде что-нибудь? Есть ли что-нибудь на свете? Эти стены, камни эти! Грязь и холод, мрак и жуть».
В этот момент — далеко на лестнице — заскрипели ступени. Спустя минуту оглушительно грянул звонок.
Отец затих на полуслове. Затем раздались четкие, медленные, очень медленные его шаги… Они до сих пор звучат у меня в памяти! И поныне видится мне ночная сцена в прихожей.
Щелкнул замок, дверь распахнулась, и на пороге в полутьме обозначилась плотная фигура в шинели…
Отец вгляделся и шумно перевел дыхание… Это оказался наш сосед, работник военной прокуратуры.
— Уж не за мной ли? — спросил отец. Улыбнулся угрюмо и тут же погасил улыбку.
— Что ты, Женя, что ты, — растерянно ответил тот, — помилуй Бог. Да мы и не занимаемся этим, мы же ведь не оперативники! Просто заметил тебя в окне — ну и решил…
— Стряслось что-нибудь?
— Да так… Тоска… Ты уж извини, брат. У меня с собой бутылочка перцовки — не возражаешь, а?
— Н-ну, что ж, — сказал отец, царапая ногтями тесный воротник гимнастерки, — ладно. Проходи. Только тихо. Не разбуди домашних.
— А я не сплю, — отозвалась вдруг Ксеня и появилась из спальни, запахивая халат. — Ступайте в кабинет. Сейчас я вам закуску соберу.
Она произнесла это спокойно, будничным тоном, но в глазах ее, в лице, в неверных движениях рук — во всем угадывался затаенный, еще не схлынувший страх.
Так жила в ту пору наша семья. Да и не только наша!
Смятением и бессонницей болен был весь поселок. Над ним рокотали и пенились грозы, плескался ветер, сменялись дни… Вернее, не дни, а ночи (счет времени был тогда особый, все измерялось ночами). И в каждом доме ждали беду. И в каждом окне был виден свет — мерцала тоска, брезжили надежды…
Цветные эти квадраты (оранжевые, белые, зеленоватые) пылали ярко и беспокойно. И меркли один за другим.
Поселок медленно угасал. Волна арестов катилась по Кратову, захлестывала дома и затопляла их тьмою.
Она все ближе подступала к нам. Все меньше оставалось в ночи светящихся окон…
И наконец настал черед отца. Нет, он не был арестован; он умер сам, от инфаркта. Всю жизнь он носил военную форму — только ее! И умер в ней; принял удар как в строю, как на поле сражения.
* * *
Спустя много лет (когда я вырос уже и достаточно пошатался по свету) мне довелось увидеть, как люди загодя готовятся к смерти.
Случилось это в Карском море, в пору равноденственных штормов (в тех широтах они на редкость длительны и жестоки!). Потрепанный, потерявший управление, траулер наш погибал; его несло на Таймырские скалы. Беда — по счастью — миновала нас вскоре. Но был момент, когда она казалась неотвратимой…
И вот тогда, собравшись в кубрике, матросы начали переодеваться.
Деловито, с какой-то сумрачной торжественностью, облачались они в чистые рубахи, вывязывали галстуки, извлекали из сундучков парадные костюмы; они поступали так в соответствии с древней морской традицией… И глядя на них — и тоже переодеваясь — я почему-то вспомнил вдруг своего отца.
Вспомнил, как он — каждый вечер с наступлением темноты — наряжался в парадную форму; как старательно чистил он сапоги, затягивал портупею, нацеплял все свои регалии и именное, отделанное золотом и каменьями, оружие… В ту пору в Кратове я, признаться, немало дивился этому. И теперь наконец-то понял, в чем суть! Он выполнял тот же самый ритуал; готовился к гибели, как и эти матросы.
Невиданной силы шторм бушевал над ним, над страной, крушил все вокруг и гнал корабль на скалы…
Навсегда, на всю жизнь, запомнил я кратовские ночи: тревожный посвист ветра за окнами, дождливую мглу, пылающие и медленно гаснущие огни. И гулкие бессонные шаги отца. И отчаянный Ксении крик:
«Кто же он, этот Сталин? Сумасшедший? Злодей? Кто?»
И задыхающийся, негромкий голос отца:
«Не знаю…»
И нередко теперь, думая об отце, я ловлю себя на мысли: как знать, может быть, ранняя, безвременная кончина была для него благодеянием, своеобразной милостью судьбы?
Он не увидел, не узнал всех последствий террора — и слава Богу! Все равно ведь он никогда бы не смог примириться с происходящим; не вынес бы, не стерпел, сам не захотел бы жить дальше… Сталь гнется только до известного предела, а затем ломается — мгновенно и напрочь.
И, судя по всему, тогда, в Подмосковье, он уже ощущал в себе этот надлом.
Лес рубят — щепки летят
После похорон отца кратовская наша семья распалась. Ксеня заболела, слегла; она так и не смогла оправиться от потрясения и, в общем, пережила его ненамного.
Вскоре мы с братом перебрались в город — к матери.
Мы уезжали из Кратова поздней осенью. Протяжливо, навевая тоску, гудели, ныли телеграфные струны. Низкое, негреющее солнце катилось над оградами. Белесые тени ползли по безлюдным, неметеным улицам поселка.
Поселок казался вымершим… За последнее время здесь все изменилось, стало чужим и до странности неуютным. Сады и усадьбы пришли в запустение, дома стояли заколоченные. И в старом нашем доме тоже царила теперь печальная пустота.
* * *
Описывать все московские впечатления нет нужды. Достаточно, я думаю, отметить здесь самое яркое, самое существенное. Достаточно выделить то, что оставило в душе моей наиболее отчетливый след.
Таких картин немало. Память сохранила их с поразительной ясностью.
Мне вспоминается первый наш вечер по приезде в Москву: слезы матери, потускневшее ее лицо, невнятные, путаные слова.
— Лес рубят — щепки летят, вот мы и есть такие щепки! — говорит она, расхаживая по комнате, зябко кутаясь в мохнатую шаль. — Все рухнуло, прахом пошло. Никого не осталось… Тот самый Шура — помните, с которым я приезжала в Кратово — он тоже исчез, все равно что умер.
— Это как же так? — недоумеваю я. — Куда ж он девался?
— Арестован, — бросает из угла Андрей. (Он уже большой, мой брат; он кончает семилетку, втихомолку покуривает и знает настоящие, взрослые слова.)
— Взяли, наверное, замели…
— Ах, да нет, — отмахивается мать. — Шура теперь за границей, в Америке. Стал невозвращенцем. Бросил меня одну. А что я — одна — могу? Как жить дальше, как вас кормить? Не знаю, не знаю. Разве что пойти на службу? Но это опасно — из-за анкеты. Придется объяснять все подробно… Да и куда идти? — она горестно всплескивает руками. — Я ведь ничего не умею, не знаю… Нет, это не выход. Это не выход.
И внезапно слабым, замедленным каким-то движением поворачивается она к большому настенному зеркалу, пристально всматривается в него, поправляет прическу и бережно — кончиками пальцев — проводит по скулам своим и губам.
* * *
И еще мне видится вечер — зимний, долгий, томительный.
Примостясь у окна, я листаю толстый том Вазари — коротаю время в тишине. Я в квартире один. Брат где-то шляется (последнее время он часто стал пропадать из дому), а матери уже нет здесь; она живет теперь в другом месте — у нового своего мужа.
Я скучаю, трещу страницами, уныло поглядываю в окошко. Уже поздно. Заиндевелые стекла залиты плотной морозной синевой; там, в клубящейся мгле, громоздятся московские крыши — белые изломы и острые углы, заиндевелые шпили башен, ватные дымки над трубами.
Внезапно в дверь стучат. «Наверное, Андрюшка, — думаю я. — А может, мама? Что-то она совсем нас забыла; который день не появляется…»
Топоча, врываюсь я в прихожую, отмыкаю дверь и вижу перед собой чужого, незнакомого человека.
Сняв шапку, отряхивая ее от снега, он ступает через порог и вежливо осведомляется: можно ли увидеть Елизавету Владимировну?
Я объясняю, что ее нет, что она живет по другому адресу.
— Вы что, мамин друг? — спрашиваю я затем.
— В общем, да, — говорит он, — да, конечно. Но главным образом, я друг того дяди, который жил здесь раньше. Ты его, надеюсь, хорошо помнишь?
— Да не особенно, — отвечаю я медленно, — видел когда-то… Давно уже… Но его ведь тоже нет!
— Знаю, — вздыхает незнакомец, — знаю, что нет. Сухолицый и подвижный, он оттесняет меня, проходит в комнату и усаживается там плотно, скрипнув стулом.
— Его нет, зато остались все мы — старые его друзья. А дружба, брат, это великая вещь! Я, например, частенько его вспоминаю. И другие, наверное, тоже?…
Он внимательно смотрит на меня, улыбается, сощурясь.
— После его отъезда кто-нибудь навещал вас, приходил к маме, беседовал о нем, а?
Я молча пожимаю плечами. Разминая пальцами папиросу, гость подбадривает:
— Не бойся, чудак, говори. Ну! Что же ты? Ведь было же много общих друзей. Вот, к примеру, Анисимов…
Он называет еще несколько фамилий; все они мне незнакомы и так я об этом и заявляю.
— Что ж, — кивает он, — ладно. Я, в общем-то, не настаиваю.
Он закуривает, затягивается и затем, округляя губы, выталкивает колечко белесоватого дыма.
— Ну а письма, — спрашивает он погодя, — какие-нибудь записки, послания приходили от него? Я почему спрашиваю? Просто любопытно, как он там, в Америке, что с ним… Неужто он, за все это время, так ничего о себе и не написал? Не подал ни единой весточки?
— Не знаю, — говорю я, — поинтересуйтесь у матери… Она — я уже объяснял — живет не здесь.
— Н-ну, спасибо, — произносит он, вставая. — Обязательно поинтересуюсь… Она что же, бывает у вас не часто?
— Да как когда, — отвечаю я с мгновенной и острой обидой, — иногда по неделям исчезает. Ждешь ее, ждешь…
— Ай-ай-ай, — он кладет мне на голову сухую жесткую ладонь. — Что же это она? Нехорошо. Такие отличные ребята… Ты ведь учишься?
— А как же, — говорю я и добавляю с гордостью: — В художественной школе имени Репина.
— Хочешь быть художником?
— Ага.
— А брат?
— Он еще не решил… Его вообще-то путешествия увлекают.
— Ну вот, — бормочет он, — ну вот. Отличные ребята. Гость идет к дверям. И вдруг — помедлив — вполоборота:
— Как же вы все-таки тут живете? Кто вам хоть готовит? Неужели — сами?
— Да нет… К нам домработница приходит.
— Домработница? — он задумывается на миг, сужает глаза. — Ее как звать?
— Настя.
— Настя, — повторяет он. — Так. А фамилия?
— Не знаю.
— Что же это ты, брат? — скупо улыбается гость. — О чем тебя ни спроси — ничего ты не знаешь. Кто в доме бывал, не знаешь. Насчет писем — тоже. А еще в художники метишь! Человек искусства должен быть наблюдательным, должен подмечать любую мелочь.
Я прощаюсь с ним и долго потом не могу разобраться в своих ощущениях. Нежданный этот посетитель мне кажется странным; что-то есть в нем занятное, необычное и вместе с тем отталкивающее, вызывающее инстинктивную настороженность.
Так, в первый раз, — в двенадцатилетнем возрасте, — встречаюсь я со следователем и узнаю, что такое допрос!
* * *
Время мчится стремительно и неудержимо; мелькают дни, чередуются даты. И вот уже мне — шестнадцать!
А вокруг грохочет война.
Столица затемнена, охвачена паникой, голодом и огнем… Школа моя эвакуировалась, но занятия я все же не прекращаю. Теперь я хожу в мастерскую Дмитрия Стахиевича Моора.
Он уже немолод, прославленный этот график и плакатист; обмякшее его лицо перепахано глубокими морщинами, седая грива волос лежит на воротнике рабочей блузы. Временами его сотрясают жестокие приступы кашля, и тогда он долго не может прийти в себя, отдышаться… Он немолод и нездоров, но по-прежнему энергичен, работает день и ночь. Выполняет срочные заказы Воениздата, рисует для Окон ТАССа.
Я помогаю ему, как могу, но, в основном, приглядываясь, учусь. Постигаю законы рисунка, тайны линии и пятна. Иногда, в минуты передышки, он беседует со мной о смысле искусства.
— Живопись — это роскошь, — говорит он, похрипывая одышкой, — графика — необходимость! В этом вся суть. Графика служит людям непосредственно и повседневно. Любой из окружающих нас предметов сотворен при ее помощи. Рисунок обоев и тканей, роспись на чашке, форма пепельницы и обложка книги — все, буквально все, сделано нашими руками! Мы придаем вещам красоту, упорядочиваем этот мир. Он хаотичен, неустроен и плох… Чем бы он был без нас?
* * *
Мир неустроен и плох — старик здесь прав! И я это знаю тоже, знаю по личному опыту.
Вся моя короткая жизнь — по сути дела — состоит из бед и потерь. Из одних лишь потерь. Я размышляю об этом, держа в руках извещение о смерти Андрея.
Он ушел на фронт в самом начале войны и вот погиб. Погиб почти сразу, в первом же своем бою. «Пал смертью храбрых» — так указано в официальном этом письме.
Строчки рябят и туманятся в моих глазах… Я порывисто сминаю бланк. Потом, спохватившись, разглаживаю его, расправляю и, аккуратно сложив, прячу в боковой карман пиджака.
Теперь я один. Совсем один в этом мире! Он неустроен и плох — и вряд ли когда-нибудь станет лучше. Тягучий вой сирены вспыхивает за окном, начинается воздушная тревога. Я выключаю свет и отдергиваю оконную штору. Передо мной в клубящейся мгле громоздятся московские крыши. Теперь они черны, обуглены, обагрены пожарами. Хлопья пепла кружатся над ними. И в вышине, рассекая ночь, маячат четкие кресты прожекторов.
* * *
Между мной теперешним и мной тогдашним, конечно же, колоссальная разница, дистанция огромного размера. Это естественно. И все же, воскрешая мысленно далекий свой образ, я порою удивляюсь: куда он девался, тот тихий мальчик — мечтательный, застенчивый, отнюдь не склонный к какому бы то ни было насилию? Где он? Когда его подменили? (А подмена произошла разительная.) И как это все случилось?
Первым толчком к перемене послужил, как мне кажется, мой арест… В 1942 году я получил повестку с предложением явиться на работу — на авиационный завод. Получил и выбросил, забыл о ней. А забывать было нельзя!
В ту пору уже действовал знаменитый закон о всеобщей и обязательной трудовой повинности. И нарушение его, как, впрочем, и всех законов военного времени, каралось весьма жестоко.
Фантазер и книжник, что я знал обо всем этом?! Мир воображаемый был мне ближе, чем мир реальный. Я выдумывал красочные страны и населял их добрыми людьми.
Реальная жизнь оказалась иною. Через месяц после ареста меня судили и, приговорив к двум годам лишения свободы, отправили в местный московский лагерь.
Лишенные неба
Странным и жутким показался мне первый этот концлагерь. И не только потому, что он был первый, нет! Никогда потом, за всю свою жизнь, не встречал я ничего похожего.
Дело в том, что лагеря, как такового, не было; была своеобразная каторжная тюрьма, расположенная в здании краснопресненского литейного завода.
Так, уклонившись от работы на одном заводе, я угодил под конвоем на другой — гораздо худший… В этом как бы сказалась ирония судьбы или, может быть, специфический милицейский юмор?
Заключенные жили тут, лишенные прогулок и свежего воздуха, лишенные неба. Вместо неба над головами нависали прокопченные каменные своды. Люди были окружены этим камнем, отрезаны им от мира, погребены под ним.
Один из просторных заводских цехов был переоборудован и превращен в жилую камеру. В другом — поменьше — помещалась столовая. А дальше, в том же самом строении, в конце коридора, гремел и дымился литейный цех.
Здесь, в удушающем зное, в угарном смраде и пыли, кипела отчаянная работа — варился металл, отливались армейские мины, формовались заготовки для орудийных деталей.
Работа была тяжкой и изнурительной. Я приноровился к ней нескоро, но все же постепенно освоился, попривык. Заключенный, в конце концов, приспосабливается ко всему!
Гораздо труднее мне было освоиться с людьми.
* * *
В нашей камере народ подобрался весьма разношерстный. Помимо «политических» и всякого рода «бытовиков» (таких же, в принципе, как и я сам), здесь помещалось немалое количество блатных.
Блатные держались обособленно, замкнуто, и занимали отдельный — самый дальний от входа угол. Тут же, около них, ютилась и молодежь: беспризорники, шпана, начинающее ворье.
Молодая эта поросль встретила меня недружелюбно и насмешливо. В ее глазах я был чужаком, фрайером, «фаршированным оленем» — так в воровской среде называют интеллигентов.
И если взрослые блатные относились к таким «оленям» с известной долей равнодушия, то в поведении молодых сквозило странное высокомерие и жестокое озорство.
Верховодили шпаной и задавали ей тон двое парней. Один из них — по кличке Малыш — был высок, костляв и, видимо, очень силен. Другой — Гундосый — являл собою полную его противоположность. Низкорослый, вертлявый, с нечистою кожей и рассеченной заячьей губой, он имел весьма мерзкий вид… Движения его были суетны, речь нечеткой и шепелявой. И когда он говорил, в углах его рта постоянно пузырилась клейкая слюна.
Этот парень был здесь самым главным моим врагом.
Едва лишь я появился в камере, он подозвал меня к себе, осмотрел, ухмыляясь, с ног до головы и затем сказал, кривясь и пришептывая:
— За что тебя?
— Да ни за что… По указу.
— Понятно, — он помолчал. — Ну и как — боязно?
— Н-нет, — сказал я тоскливо. — Чего это мне бояться?
— Правильно, — хихикнул он. — Здесь такие же люди, как и на воле. Даже лучше, пожалуй. За правду страдают… Да ты и вообще, я вижу, не из пугливых. Верно?
— Н-ну, верно, — кивнул я.
— Паренек веселый — ведь так?
— Ага…
— Ну, раз веселый — давай играть!
Мне было тогда не до игр. Но разве мог я, воодушевленный похвалою, отказать ему в пустячной этой просьбе? Он предложил поиграть в чехарду, и я согласился нехотя.
— Нагибайся, — сказал он. Разбежался, прыгнул и оседлал меня, гогоча.
Удивленный и разгневанный, я попытался сбросить его со спины, но безуспешно. Гундосый держался цепко.
— Вези, — приказал он и больно ударил меня ногою. — А ну? Кому говорят?!
«Что же делать? — думал я, дрожа и озираясь, и видя вокруг одни лишь хохочущие, глумливые рожи. — Что делать?»
Впоследствии, повзрослев, я научился, как надо поступать, если кто-то набрасывается сзади; прием этот страшный. Нередко он бывает смертельным. Противника схватывают за ноги и опрокидываются с ним навзничь, на спину, давя его всей тяжестью тела… Я многому научился впоследствии! Однако в тот момент я был беспомощен, растерян и слаб, постыдно слаб.
— Вези! — брызжа слюной, повторил Гундосый.
В голосе его зазвучали истеричные, угрожающие нотки… И я повез его. Дотащил до противоположного конца камеры и потом — обратно. И еще раз. И еще.
И когда меня, наконец, оставили в покое, я добрел, пошатываясь, до нар, рухнул на них и долго там лежал, задыхаясь от обиды и от отчаяния.
Даже теперь — спустя почти тридцать лет — у меня, при одном воспоминании об этом, невольно вздрагивают руки от бессильного гнева.
Достоевский сказал однажды: «Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе». Не знаю, прав ли он здесь… Во всяком случае, я пишу без стыда, с полной беспощадностью к себе. Пишу для того, чтобы как можно достовернее воссоздать минувшее, воссоздать все те обстоятельства, которые впервые привели меня к мысли об убийстве, о мести.
Сладостная эта мысль родилась и окрепла не сразу. Ей предшествовал целый ряд подобных случаев.
Последняя пакость Гундосого была связана с хлебом.
* * *
Я уже упоминал о том, что лагерь наш был особый, не похожий на другие. Кормили здесь тоже весьма оригинально. Главным приварком являлась гречиха; из нее делали каши, готовили супы. Ее можно было получать в столовой сколько угодно, в любом количестве. И все же мы голодали.
Роскошная эта крупа была несъедобной!
Гречиха шла в пищу необработанной, в скорлупе. Ее нельзя было переварить. И поэтому зеки пробавлялись, в основном, кипятком и хлебом.
Пятисотграммовую рабочую пайку здесь выдавали по частям: триста граммов утром и двести — во время ужина… По примеру многих, я уносил вечернюю порцию с собой и съедал ее в камере на нарах.
И вот однажды, незаметно подкравшись сзади, Гундосый толкнул меня и вышиб пайку из рук. Она упала и покатилась по цементному заплеванному полу… Я торопливо присел и потянулся за хлебом. И в этот момент Гундосый с размаху ударил меня по пальцам кованым каблуком сапога.
— Поиграемся теперь в эту игру, — сказал он, хихикая. — Попробуй-ка еще разок… Возьми. Ну?
С минуту я сидел на полу, оторопев и скорчившись от боли, потом поднялся, постанывая, и вдруг кинулся на своего врага.
Я кинулся, простирая к нему уцелевшую левую руку, целясь в ненавистное это лицо, в мутные глаза, в слюнявый пакостный рот.
Однако добраться до него я так и не успел: меня перехватил Малыш, уцепил за плечо и рванул к себе. И в следующую минуту я получил ослепляющий, хлесткий удар. Не знаю, чем бы все это кончилось… Но тут вмешались старшие.
Из угла, где размещались блатные, появился высокий темноволосый мужчина в распахнутом ватнике и тельняшке.
— Об чем шум? — спросил он, приблизившись.
— Да так, — завертелся Гундосый, — играем…
— Только не заигрывайтесь, — веско сказал блатной. — Ясно?
— Ясно, — потупился Гундосый.
— Ну, если ясно — лады.
Он посмотрел на меня, на хлеб, валявшийся у ног, и, по-воротясь к Гундосому, добавил, грозя корявым пальцем:
— Пайку не трожьте! Даже помыслить не смейте! Помните закон. И вообще, оставьте-ка этого мальца в покое. Что вы к нему прискребаетесь?
Так закончился этот вечер.
А на следующий день я разыскал в цехе небольшую узкую пластинку металла и старательно, тайком от всех, смастерил из нее нож.
Я точил свой нож и мысленно видел Гундосого. Видел, как входит лезвие в трепещущее его горло, как хрипит и захлебывается он в крови…
* * *
Я намеревался расправиться с Гундосым немедленно, этой же ночью, но не успел — помешала воздушная тревога.
Она началась сразу же, после отбоя, и продолжалась на этот раз долго.
Охранники (как всегда в таких случаях) поспешно замкнули все двери, отключили свет и ушли — схоронились в бомбоубежище. Мы же остались во тьме, взаперти, в полнейшей изоляции.
Где- то торопливо били, захлебывались зенитки. Трещало пламя. Поминутно ухали гулкие взрывы. Судя по ним, немецкие бомбардировщики прорывались к Красной Пресне, к нашему району.
Внезапно в небе почти прямо над головами возник сверлящий, режущий, нестерпимый свист. Он близился, нарастал, заполняя собою все помещение. Он ощущался почти физически, от него раскалывался мозг.
— Фугаска, — ахнул кто-то.
И в этот момент раздался тяжкий, тугой, сокрушительный удар. Здание дрогнуло и шатнулось. С потолка — с закопченных каменных сводов — посыпалась едкая пыль.
Мы не видели неба, но зато слышали его отчетливо!
Он был грозен, этот голос неба, грозен и напрочь лишен милосердия…
Кто- то всхлипывал во мраке. Кто-то бился в истерике возле двери.
— Сволочи, ах сволочи, — донеслось до меня гнусавое бормотание, — заперли, сбежали. А если прямое попадание, тогда как? Если вдарит в самый завод — куда нам деваться? Мы же тут, как в склепе. Замурованы. Похоронены заранее, наверняка…
«Гундосый, — догадался я и ощутил вдруг неизъяснимое торжество. — Боишься, ублюдок. Боишься, трус. Смерти боишься!»
Сам я, как это ни странно, почти не испытывал сейчас обычного своего страха перед бомбежкой. Я думал о мщении! Мысль эта как бы окрыляла меня, поддерживала и оттесняла все прочие мысли.
Я уже не был прежним мальчиком, я незаметно мужал — приучался к жестокости.
Преодолей себя
Минуло еще трое суток.
Я выжидал, готовился, был по-звериному насторожен и терпелив. И, наконец, мой час настал!
В полночь, когда в камере все уже спали, я поднялся с нар, извлек из тайника свой ножик и, пригибаясь, стараясь не шуметь, двинулся в дальний угол к блатным.
Я был уже возле Гундосого, у самого его изголовья, когда меня охватил вдруг страх. «Что я делаю? — мелькнула мысль. — И что потом со мною будет?»
Странная болезненная истома овладела мною; ноги обмякли, сделались ватными, ладони взмокли от пота.
И тут, в полумраке камеры, возникла передо мною фигура отца.
Коренастый, затянутый в ремни, он приблизился неторопливо и усмехнулся, поблескивая стеклышками пенсне.
— Главное — не бойся, — сказал он, оглаживая усы ребром ладони. — Хитрить в схватке можно, трусить нельзя!
Я растерянно покосился на Гундосого. Он лежал, запрокинув голову и не шевелясь. Он сопел и булькал во сне, и чмокал мокрыми своими губами. Тощая, жилистая шея его была обнажена, ждала удара… Но нанести удар казалось мне невозможным; это было свыше моих сил.
— Отец, отец! — воззвал я в смятении. — Ты говорил о схватке. Но ведь никакой схватки нет! Видишь — он спит. Он беззащитен, беспомощен…
— А ты разбуди его!
— Да, но тогда…
— Вот тогда-то все и решится. Переломи себя. Преодолей! Это необходимо.
— Необходимо — для чего?
— Для того, чтобы стать настоящим. Иначе, что ж… Подумай о том, какая участь тебя ждет! Жалкая участь — издевательства, побои.
— Ну и что? — возразил я с внезапным лукавством. — Ты же сам втолковывал — от битья не умирают.
— Зато от позора умирают — я знаю!
— Но ведь не все же…
— Конечно, — он сурово качнул головой. — Далеко не все; только лучшие.
— А если я не такой?
— Ты мой сын!
— И все-таки поднять на человека руку…
— Я пока не говорю об убийстве… Разбуди его, заставь посмотреть в твои глаза. Вот что главное! Отныне пусть он сам боится — он тебя, а не ты его.
— Ну а если он не испугается?
— Тогда все равно — деваться некуда. И отступать уже нельзя… Рискуй до конца!
Отец произнес это и канул в сумрак, растворился в нем без следа. Образ его явился мне ненадолго, но вовремя! Я ощутил его поддержку и сразу же окреп, обрел душевную прочность.
И, уже не колеблясь, не раздумывая по-пустому, шагнул я к Гундосому — склонился к нему.
Но тут неожиданно проснулся лежащий рядом с ним Малыш, завозился, зевнул тягуче и приподнялся, опираясь на локоть.
Взгляды наши пересеклись.
Он поглядел на меня туманно и тупо, еще не очнувшись окончательно и с трудом отделяя явь ото сна… Затем перевел взгляд и заметил в руке моей узкий, тускло и хищно поблескивающий нож.
Глаза его приняли осмысленное выражение. Лицо напряглось. И тотчас же, перегнувшись через Гундосого, он подался ко мне и стремительно схватил за ворот рубашки.
Я знал его хватку! Знал, сколь опасна костлявая эта пятерня. И не медля — с силой — полоснул по ней отточенным лезвием.
Малыш вскрикнул, отдернул руку и выругался хрипло.
Удар был хорош! Нож рассек ему кисть глубоко и косо. Тугая черная струя крови хлынула на нары и залила лицо Гундосого.
Тот вскочил, вопя и размазывая кровь по лицу. Заметался по нарам… Затем ошалело ринулся к дверям.
Минуту спустя загремел замок. Угрюмый заспанный надзиратель спросил с порога:
— Чего надо?
— Там… — трясясь и тыча пальцем в глубину камеры, лопотал Гундосый, — там…
— Что «там»? Ты толком говори.
— Н-не знаю.
— Не знаешь? — медленно проговорил надзиратель, изучая его лицо. — А кровища откуда? Вы что, оглоеды, уж не резню ли затеяли?
— Да нет, гражданин начальник, какая резня? — испуганно засуетился Гундосый. — Это кровь из носа. Сама пошла…
— Так чего же ты стучишь?
— Хотел лекарство попросить.
— Какое же может быть лекарство ночью? — хмуро отозвался надзиратель. — Ты что, ополоумел? Давай утирайся и спи! А то я тебе такое лекарство пропишу, десять лет помнить будешь.
— Это конечно, — поспешно согласился Гундосый. — Да вы, гражданин начальник, не сомневайтесь. Тут у нас порядочек.
Он уже успокоился, немного пришел в себя и теперь по мере сил старался исправить свою оплошность, но было поздно.
С точки зрения уголовников, поступок его был непростителен; искать защиты у надзирателей могут, по тюремным понятиям, только фрайера или суки. Но уж никак не блатные! И в сущности, после этого случая Гундосый кончился, погиб; воровская карьера его рухнула бесповоротно.
Взрослые урки начали пренебрегать Гундосым, молодые друзья — относиться к нему с подчеркнутой иронией. Вскоре Малыш перебрался на другие нары и таким образом окончательно порвал со старым своим другом.
Зато ко мне он проникся вдруг странной приязнью.
— А ты чумовой, — заявил он наутро, встретившись со мной в столовой, — решительный… Скажи-ка, если бы я тебя тогда не засек, зарезал бы его?
— Вероятно, — пожал я плечом.
— Зарезал бы, — уверенно и благодушно сказал Малыш. — Я твою морду видел! Конечно, зарезал бы… А может… — он прижмурил глаза. — Может, заодно — и меня, а?
Я уже начал улавливать, постигать специфику этого мира и потому ответил небрежно:
— Если бы понадобилось — запросто.
— «Молодец, — захохотал Малыш и похлопал меня по спине забинтованной рукой. — Так и дыши… Нет, ты действительно — чума!
С тех самых пор навсегда прилипла ко мне шальная эта кличка Чума.
В воровской среде кличка как бы заменяет визитную карточку. Обладатель такой карточки — личность уже не простая, заметная.
Так, одним ударом — одним коротким взмахом ножа — я изменил свою лагерную судьбу; избавился от врага, от мучителя и одновременно укрепил свой престиж.
Жизнь понемногу прояснялась, становилась все более сносной. Казалось, основные беды кончились, миновали… Но это только казалось!
Под гром салюта
Как- то раз зимой во время утренней проверки я почувствовал вдруг недомогание, жаркий озноб, противную горькую сухость во рту. Стало трудно дышать. В груди моей и спине при каждом вздохе возникала сверлящая, пронзительная боль.
Пришел врач (по-лагерному „лепила“). Торопливо обстукал и выслушал меня, сунул под мышку мне градусник, и потом, посмотрев на него, уныло поднял брови.
— Придется госпитализировать, — сказал он надзирателю. — Ничего не попишешь — плох. И весьма.
— А что у него? — спросил с сомнением надзиратель.
— Что-то с легкими, — ответил, поджимая губы, врач. — Вероятно, плеврит, если я, конечно, не ошибаюсь…
Он не ошибся, этот лепила! У меня и действительно оказался двухсторонний „экссудативный“ плеврит — болезнь затяжная и скверная.
И вскоре меня отправили отсюда, перевели в бутырскую центральную тюремную больницу.
Болел я долго и тяжело. Сказались чудовищные условия лагерной моей жизни; адская смена температур (зной литейного цеха и холод сырой, неотапливаемой камеры), и непосильный труд, и длительное недоедание.
Едва соприкоснувшись с жизнью, я уже устал от нее. Устал, не успев распознать ее по-настоящему, не разглядев, не распробовав.
Плеврит мой вылечили к весне, но я по-прежнему был плох и почти не вставал с постели. Я лежал, дыша осторожно и трудно. И часами с тоскою разглядывал беленый, испятнанный сыростью потолок.
Пятна были обильны и разнообразны; одни из них напоминали диковинные растения, другие — гигантских насекомых. Порою мне начинало казаться, будто насекомые эти шевелятся, движутся…
Тогда я отворачивался и смотрел в окно. За ним в вышине серело дымное ветреное небо.
Иногда по вечерам в небе вспыхивали победные салюты.
Короткий орудийный гром раскатывался над округой. Темнота расступалась и становилась радужной. Густые зыбкие гроздья огней взлетали в зенит, на миг повисали там и рассыпались пестрым праздничным дождиком.
Начиная с зимы сорок третьего года салюты стали возникать все чаще и все пышнее. Война переламывалась. Фронт отходил на Запад.
Больничная наша камера реагировала на это бурно и по-разному.
Здесь находилось немало бывших солдат. Немало тех, кто в самом начале войны попал, отступая, в немецкое окружение. Все они сидели теперь за измену родине, за шпионаж и сотрудничество с врагом!
И все-таки неправедно осужденные, обиженные, посаженные, в сущности, ни за что, люди эти по-прежнему оставались патриотами. Фронтовые победы искренне радовали их, салюты заражали шумным весельем.
Были тут и настоящие изменники — перебежчики, „полицаи“. К военным событиям они относились по-своему, с тоскливым беспокойством и явной тревогой.
Некоторые из них упорно продолжали верить в немецкую мощь, в несокрушимость третьего рейха; перемены на фронте казались им делом временным и случайным.
— Показуха, — насмешливо выпячивая губы, сказал однажды вечером пожилой, заросший седой щетиной полицай, — дешевая трескотня… У нас только и умеют, что пыль в глаза пущать.
— У нас еще и драться умеют, — отозвался высокий, бледный до синевы, парень. Одна рука его была закована в гипс и покоилась на широкой марлевой перевязи; другой он ухватился за решетку окна. Он стоял, жадно вглядываясь в мерцающее, расцвеченное салютными брызгами небо.
— Неплохо умеют, сам видишь!
— Это-то умеют, — согласился седой, — да что толку? Все одно — бардак… Нет, ребята, с немцами нам не сравняться, — он помотал головой. — Нипочем не сравняться. У них порядок, дисциплина, настоящая власть. У них — сила!
— А все же бегут! — улыбнулся парень. — Как же так?
— А очень просто, — прозвучал из угла сипловатый раскатистый бас. — Немецкий порядок разбился о русский бардак…
— А-а-а, — отмахнулся полицай. — Это все ненадолго. Они еще вернутся! Оклемаются, отдышатся малость и беспременно вернутся. Наверстают свое. Вот тогда посмотрим, что вы скажете, герои, как запоете!
— Замри, паскуда, — грозно, медленно проговорил парень и порывисто шагнул к седобородому. — Закрой свою помойку! Понял? И если еще вякнешь…
— А чего ты прешь, чего залупаешься? — удивился тогда полицай. — О чем хлопочешь? Думаешь, ты лучше меня? Мы же с тобой одинаковы, сидим по той же статье, срока имеем общие.
И опять громыхнул из угла чей-то насмешливый бас:
— Всем — поровну! Основной закон социализма!
* * *
Блатные обычно не ввязывались в скандальные эти споры; салюты вызывали у них свои, особые ассоциации…
Мой сосед по койке — старый карманный вор Архангел — рассуждал, прислушиваясь к торжественному эху орудий:
— Хорошо сейчас на воле. Ах, хорошо! Фрайера суетятся, гужуются, водочку пьют… А когда фрайер веселый, работать одно удовольствие. Он, сирота, ничего в этот момент не чувствует, не видит — сам в руки просится! Бери его за жилетку и потроши по частям. Я завсегда, как только подпасу приличного сазана, в глаза ему смотрю. Внешность изучаю. Ежели он навеселе — значит мой! Ежели, наоборот, нервный, злой — стало быть надо поостеречься. Злой — он трудный для дела. Чутье у него, как у собаки. Тут особая психология, это проверено давно! И вот почему я войну не люблю, она всех в тоску вгоняет, нервными делает… Ну, ничего. Дай Бог, доживем до победы. До мирных дней! До полного веселья!
Я слушал его безучастно и словно бы издалека. Я все время лежал в забытьи; не хотелось ни говорить, ни двигаться. И, как это ни странно, почти совсем не хотелось есть.
По сравнению с тем, что давали в лагере, здешняя больничная кухня выглядела, поистине, княжеской! Обед состоял из трех блюд. (Я получал особую, усиленную норму — для тяжелобольных.) На третье выдавали компот, его я и пил в основном. Остальное, урча и отдуваясь, торопливо приканчивал мой сосед.
Болезней у Архангела было много — хронический сифилис, ревматизм, выпадение кишки и еще что-то, сейчас уже и не упомню… Однако роскошный этот букет, казалось, ничуть ему не мешал; он был на редкость жизнерадостен, говорлив и исполнен волчьего аппетита.
Он подчищал за мной блюда старательно и регулярно. Но однажды скорбно сказал:
— Тебя, конечно, мне сам Господь Бог послал… Двойной харч — это по нынешним временам счастье. Особый факт! Но все-таки ежели подумать, жалко тебя! Ты ведь так не протянешь долго. Загнешься, отбросишь копыта.
— Да? — я улыбнулся слабо. — Ну и что?
— Как что? — рассердился он. — Как то есть что? Пока есть возможность, пользуйся, кормись… Шевели рогами!
— Не хочу, — проговорил я сонно, — не хочу шевелить… Я отвернулся и задремал, накрывшись с головой одеялом. Разбудил меня врачебный обход. Открыв глаза, я увидел над собой людей в белых халатах; один из них — низенький, одутловатый, в мягких старческих морщинах — спросил, глядя куда-то вбок:
— Ничего, говоришь, не ест?
И голос Архангела ответил тотчас же:
— Видит Бог, гражданин доктор. Только компот сосет. Да еще чаек… Ну и передачки кое-когда. И все! Догорает парнишка, на глазах доходит.
— А ты, значит, все это время за двоих старался, — усмехнулся врач, — и помалкивал…
— Так ведь сказал же, — с обидою возразил Архангел, — сам сказал!
Врач присел ко мне на кровать, пощупал пульс и ловко, привычным жестом вывернул мне веки.
— М-да, — пробормотал он, — собственно говоря, этого давно следовало бы ожидать.
Затем, отойдя в сторону, он о чем-то долго говорил со своим спутником. До меня долетали отрывки приглушенных фраз: „Пеллагра“. „Потеря жизненных сил“. „Подлежит актировке“…
Когда обход кончился, Архангел сказал:
— Хорошая карта тебе выпала, шкет. Добрая карта! Если уж они заговорили об актировке, дело верное. Пойдешь на свободу! Ну а я… — он умолк, опустил брови и потом добавил, кривясь: — А я тут буду гнить. Разве это справедливо?
* * *
Через неделю после памятного нашего разговора я был вызван на врачебную комиссию. Осматривало меня на этот раз много людей. И опять услышал я непонятное и пугающее слово: „пеллагра“.
А затем на исходе апреля мне было объявлено о том, что я „сактирован“ — досрочно освобожден из-под стражи в связи с болезнью и потерей трудоспособности.
Я выслушал эту новость в тюремной канцелярии. Начальник зачитал вслух приказ о моем освобождении, потом сунул мне какие-то бумаги; я должен был прочесть их и расписаться.
Когда формальности были закончены, явился санитар и отвел меня вниз, в сырой и сумрачный подвал, где помещалась вещевая каптерка.
Там он сразу же приказал мне раздеться:
— Скидавай все начисто! Отходился в казенном…
Я послушно снял с себя шершавое больничное белье, стряхнул с ног тапочки и, ощутив под подошвами ледяной и скользкий кафель, сразу съежился, озяб.
— А… мое барахло? — спросил я, мелко постукивая зубами.
— Жди, — сказал он, сгребая белье в охапку, — выдадут.
— Сколько ж надо ждать?
— А уж это не знаю. Не моя забота… Здесь ваших тряпок навалено знаешь сколько? Тысячи! Пока разыщут, сверятся — на это тоже время надо.
— Но ведь холодно…
— Потерпишь, — сказал с коротким смешком санитар. И он ушел, звонко цокая по кафельному полу.
Все это время я говорил и двигался, как в полусне, еще не вполне осознавая реальность происходящего. Холод привел меня в чувство. И только теперь заметил, что я здесь не один!
Поодаль, на лавке, сидел такой же голый, как и я, арестант. Он сидел вполоборота ко мне, скорчившись и подтянув колени к подбородку.
Тщедушный, стриженный под машинку, с выпирающими ключицами, с просвечивающей кожей, он показался мне совсем зеленым юнцом. „Господи, — подумал я, — подростков сажают, почти детей“.
В зубах у подростка дымилась папироса. Мне вдруг нестерпимо захотелось курить. Вприпрыжку, поджимая зябкие ноги, я направился к нему и подошел вплотную.
— Эй, — сказал я, — лишней папиросы не найдется? Он скользнул по мне взглядом, прищурился, затянулся, кутаясь в дым. Потом, опустив ресницы, сказал застуженным, ломким каким-то тенорком:
— Последняя…
— Ну, так оставь затянуться!
— Ладно, — кивнул подросток и, оторвав зубами мокрый краешек мундштука, протянул мне окурок.
Он держал его деликатно — кончиками пальцев. И я невольно обратил внимание на форму его руки. Рука была узкой и слабенькой, и какой-то почти неживой.
— Затянись! — сказал подросток. — Отведи душу, если не брезгуешь.
Я взгромоздился рядом с ним на лавку, скрестил ноги по-турецки и так сидел некоторое время, помалкивая, мусоля тлеющую папиросу.
— На волю? — поинтересовался он затем. — Или на этап?
— На волю, — ответил я. — А ты?
— Тоже.
— Что-то они долго возятся. Не могут вещички наши найти, что ли?
— Так ведь на волю, — сощурился он. — Тут они не спешат…
И еще раз, искоса оглядев меня, спросил негромко:
— По болезни?
— Да… Сактировали. В общем, подвезло. Поперло!
— И меня, — сказал он жалобно. — И меня — по болезни…
— Да уж ясно!
Я провел ладонью по стриженой его голове, по склоненной детской тоненькой шее.
— Это сразу видать… Где ж это тебя так заездили? Ничего не осталось.
— Ничего не осталось, — повторил он и всхлипнул. Лицо его исказилось. По запавшим щекам протянулись ломкие полоски слез.
— И ничего уже больше не будет… Ничего, ничего!
— Ну, ну, — проговорил я растерянно, — перестань. Что ты, как баба? На свободу ведь идешь — радоваться должен!
Он затих под моей рукой. И легонько, доверчивым движением, прислонился ко мне плечом.
И в этот момент в глубине комнаты из-за перегородки раздался зычный голос каптера:
— Евдокимова Анна! Подходи — получай вещи! Товарищ мой вздрогнул и распрямился внезапно. И как только он поднялся с лавки, я понял, что это вовсе не парень.
Ошибиться было невозможно… Но, боже мой, как мало женского оставалось в иссохшем этом теле! Угловатое, лишенное плоти и сочности, оно вызывало щемящее чувство жалости.
Девушка, очевидно, и сама это сознавала; растерянно прикрываясь руками, она отвернулась от меня, потупилась с горькой гримаской и стремительно пошла, почти побежала к перегородке, туда, где маячила громоздкая, облаченная в халат фигура каптера.
Спустя минуту вызвали и меня.
Слежавшийся, мятый, пахнущий плесенью и мышами костюм налезал на меня с трудом… Но когда я надел его, оказалось, что он чересчур просторен и болтается, как на вешалке; плечи пиджака провисали, брюки сидели мешком.
Зато Анна — в пестреньком платьице и платочке — стала неожиданно нарядной и даже обрела кокетливый вид.
Легкий оранжевый этот платок освежал ее лицо и удачно сочетался с цветом глаз. Я только сейчас рассмотрел их по-настоящему; они были карие, большие, с золотистыми, дымно мерцающими искрами.
— Послушай, — сказал я, — ведь я поначалу не разобрался… А ты — интересная!
— Была когда-то, — вздохнула она, — ничего была девочка. В порядке. За это и погорела.
— А кстати — за что? По какой ты статье сидела — я и забыл спросить.
— Статья знаменитая, — ответила она, — С. О. Э. Знаешь?
— Нет.
— Будет врать-то!
— Честное слово, не знаю. Так все же — за что тебя?
— За проституцию, — сказала она просто. — А что было делать? Мама в сорок втором потеряла карточки, начался голод… Ну, я и пошла. С военными. С кем попало. Вот и пришили статью: „Социально опасный элемент“.
— А здесь, — начал я, — в больнице…
— Я знаю, о чем ты думаешь, — хмуро усмехнулась она. — Нет, у меня не то… Врачи говорят — каверны в легких, — и опять лицо ее ослабло, исказилось жалобно. — Это сейчас хуже любого сифилиса. Теперь у меня одна дорога — на Ваганьковское кладбище.
— Эй, фитили! — хрипло гаркнул каптер. — Хватит митинговать. Выходи давай, топай!
И вот наступил долгожданный миг свободы.
Я думал, что будут какие-нибудь новые процедуры, дополнительные сложности, но нет, все получилось на удивление легко и буднично.
Вахтер молча сверился со списком, затем отворил стальные клепаные ворота, пропустил нас и захлопнул их с тяжким грохотом.
— Тебе куда? — отойдя от ворот, спросил я Анну.
— Тут, недалеко, — махнула она рукой, — на Каляевской улице.
— Проводить?
— Да нет, ни к чему, — ответила она. — Как-нибудь погодя — если живы будем. — И потом, шатнувшись, подняв руки к лицу, сказала: — Ой, я совсем как пьяная! Дойдем-ка, миленький, вон до того угла…
На углу мы простились с ней. Но расстались не сразу. С минуту мы еще стояли здесь, озираясь, вбирая в себя забытые уличные запахи и цвета.
День незаметно кончился, угас, и все вокруг — очертания зданий и силуэты бегущих по тротуарам людей — все уже было смягчено и затушевано сумраком. Линии утратили четкость, краски стали влажны и расплывчаты.
А может быть, мир предстал нам таким из-за наших слез?
Анна плакала в голос, навзрыд. Я стоял рядом с ней, поддерживал се под локоть и чувствовал, как в глазах у меня тоже набухает соленая жгучая влага.
И чтобы избавиться от влаги, не дать ей пролиться, я торопливо запрокинул голову к небу.
Наконец-то, после полутора лет заключения, мне снова довелось увидать его — увидать целиком, от края до края… Небо было огромным и легким. Оно пахло весной, источало томящую вечернюю свежесть. Оттуда лились потоки голубого света — густели и затопляли округу. И вдруг простор окрасился по-иному, наполнился отблесками огня, стал ярким и радужным.
Это над нами — надо всей Россией — ударил новый победный салют!
Возвращение
Добрался я до дому уже поздним вечером, в потемках. Погода к ночи испортилась. Вспыхнул ветер. Упругий, пахнущий талым снежком, он настиг меня в двух шагах от подъезда, хлестнул в лицо и чуть не сшиб меня с ног.
Тюремный каптер, выдававший вещи, назвал нас с Анной „фитилями“. Он сказал точно; на арестантском жаргоне так называют слабых, беспомощных, „догорающих“. На этот счет существует немало всяческих анекдотов. Вот, к примеру, диалог двух лагерных фитилей: „Эх, — говорит один из них, — душа разгула просит! Пойдем, что ли, к бабам…“ — „Пойдем, — отвечает другой, — если ветра не будет“. Диалог этот вспомнился мне не случайно. Таким „догорающим“ был сейчас я сам!
Пошатываясь, цепляясь за стену дома, я с трудом преодолел последние метры пути, вошел в знакомый подъезд и лицом к лицу столкнулся с матерью.
Когда утих первый взрыв эмоций, она сказала, утирая платочком взмокшие от слез ресницы и щеки:
— Я уж думала, что с тобой что-то случилось по дороге. Хотела разыскивать.
— А ты разве знала? — изумился я. — Они ведь ничего заранее не сообщают.
— Я сегодня как раз звонила туда.
— Вот как? Туда можно звонить? Это что же — всем разрешается?
— Ну, насчет всех не знаю, — улыбнулась она. — Мне этот звонок один знакомый устроил… Из министерства. Я хотела справиться о твоем здоровье и заодно узнать: можно ли принести в передаче немного крымского кагора… Кагор очень полезное вино — лекарственное.
Насчет моей матери я, вообще говоря, никогда не испытывал ни малейших иллюзий. Но одно ее качество я все же должен здесь отметить. Передачи в тюрьму она приносила мне добросовестно и в любую погоду. Подумать только: в военной Москве — голодной, выстывшей и обнищалой — она ухитрялась находить молоко и фрукты. И даже крымский „лекарственный“ кагор!
Помнится, в самые первые дни ареста (я сидел тогда в районной милиции — дожидался отправки в тюрьму) мне однажды передали сверток с продуктами. В нем оказались яблоки, сахар, колбаса. Передача для заключенного — праздник. Для меня же этот праздник был особенно радостным: я ведь его совсем не ждал! Растроганный, я бросился к окошку (оно, по счастью, было без намордника) и, уцепившись за решетку, подтянувшись на руках, окинул улицу быстрым взглядом.
Улица была малолюдна, заснежена, бела. Над ней вилась рассветная мутная метель. И в косматых струях, в морозном волокнистом дыму, увидал я маленькую женскую удаляющуюся фигурку. Женщина брела, наклоняясь и увязая в сугробах. Затем она встала и обернулась, заслонясь рукавом от летящего снега, и я узнал ее — узнал мгновенно! И подумал вдруг с горечью о том, что раньше, когда я был на воле, она никогда так не заботилась обо мне, не хотела сделать ни одного лишнего шага…
И теперь, разговаривая с ней в подъезде, я подумал о том же. Чем объяснить эту ее странность, непостижимую эту переменчивость?
А может быть, такова вообще женская сущность?
Мы стояли возле кабины лифта. Я потрогал дверцу, спросил:
— Работает?
— Что ты, — ответила она, — какие теперь лифты! Ты прямо как с луны свалился.
— Именно — с луны, — пробормотал я. — По блатным поверьям, если человек умирает — он отправляется на луну… Я, в сущности, там уже и был. И спасся чудом.
— Ну и слава Богу, — сказала она. — А теперь пойдем! Ты что-то плохо выглядишь. Тебе надо лечь.
И потом, поднимаясь впереди меня по темной, замызганной лестнице:
— В квартире кое-какие перемены… Так что не удивляйся!
— А в чем дело?
— Здесь теперь еще одна семья живет.
— Как же так получилось? — огорчился я.
— Ну, мой милый, — она пожала плечами. — Тебя ведь не было. Квартира пустовала. Вот и решили нас уплотнить.
— Но ты-то была!
— Ах, что я, — отмахнулась она. — Ты сам знаешь, как мне трудно. Не могу же я разорваться на два дома!
— Значит, уплотнили, — сказал я, — так. И большая семья?
— Да немалая, — она запнулась, утомясь, прислонилась к перилам и медленно перевела дух. — Какой-то тип со своей матерью, с женой и маленькой дочкой.
— Кто же он такой?
— Не знаю. Имя его — Петр Яковлевич Ягудас. Судя по всему, хохол. А по профессии — жулик. Явный жулик! Ходит в военном, носит звание майора, а к армейским делам никакого отношения не имеет; занимается Бог знает чем.
— Чем же все-таки?
— Какими-то темными торговыми махинациями… Да ты сам увидишь и все поймешь; теперь ты в этом должен хорошо разбираться.
* * *
„Уплотнили“ нас, как выяснилось, весьма основательно! Из трех комнат оставили в моем распоряжении всего лишь одну. Здесь была теперь сгружена мебель со всей квартиры — стулья, шкафы, этажерки. Поначалу я долго путался среди этого скопища; ушибался, постоянно что-то ронял. Вещи мешали двигаться, не давали дышать.
Потом сосед предложил мне распродать излишек мебели. Я согласился. Он быстро нашел покупателей. И вскоре комната очистилась — обрела жилой и нормальный вид.
Я неплохо заработал на этой распродаже и оказался на какое-то время избавленным от нужды.
Ягудас стребовал с меня за комиссию пять процентов. „Это немного, — заявил он, — полагается больше. Но ведь мы, как-никак, — соседи! Свои люди! Да и вообще, моя партийная совесть не позволяет грубо наживаться на несчастии других…“
Дородный, пухлолицый, с обвисшими лоснящимися щеками и тонким, почти безгубым ртом, он был довольно-таки колоритной фигурой, этот мой сосед!
Он весь дышал благородством — тем самым театральным благородством, что отличает мошенников и картежных шулеров. Двигался он с подчеркнутой корректностью, говорил неторопливо и веско. И рассуждения о партийной совести являлись его постоянной излюбленной темой…
Чем он занимался, я так и не смог постичь. Дела Ягудаса были таинственны, знакомства — самые разные…
Нередко в гости к нему приходили военные; такие же вальяжные, как и сам он, такие же сытые, и все — в офицерских чинах.
— Мы коммунисты! — доносилось из-за стенки. — А это не фунт изюму. Чем коммунист отличается от нормального человека? Тем, что у него особая совесть — коммунистическая, а не мещанская! А это значит — что? Это значит, что для нас самое главное — идея. Мы все борцы за идею, солдаты партии… Одни на фронте, другие в тылу — это неважно! Да и неизвестно еще, где труднее, где больше риску. На фронте и дурак может прославиться, а у нас, в тылу, героизм незаметный, скромный…
Появлялись в доме и штатские люди — пронырливые, шустрые, с внимательными и скользкими глазами. С ними Ягудас беседовал глухо и коротко. И лишь изредка сквозь невнятное бормотание прорывались медленные его слова:
— Как я сказал, так и будет. По себестоимости, понял? И ни копейки больше! И ты меня на совесть не бери. В том месте, где была совесть, знаешь, что выросло? Знаешь, какой орган? Вот то-то…
И почти каждая такая тирада заканчивалась стереотипной фразой:
— Мы коммунисты!
„Кто же они, эти люди? — думал я, ворочаясь в постели. — Спекулянты? Мошенники? Или, может быть, взаправду партийцы новой формации?…“
* * *
Я о многом размышлял в эту пору — о себе, об окружающем мире. Чем больше я приглядывался к миру, тем отчетливее убеждался в том, что он нечист и лишен справедливости. Он создан не для слабых людей. В нем царят все те же уголовные правила; свирепые лагерные законы!
Времени для всех этих мыслей у меня было достаточно. Я жил тогда в одиночестве, друзей и знакомых не было. Родственники почти все находились в эвакуации, далеко от Москвы. А мать, походив ко мне с недельку и успокоясь, опять, как обычно, исчезла и занялась своими делами.
Я отлеживался в одиночестве, поправляясь. Рылся в книгах, размышлял о прожитом, сочинял стихи…
С семьей Ягудаса я почти не общался. Одна лишь дочка его — девятилетняя Наташа — изредка забредала в мою комнату.
— Ты почему все время лежишь? — удивленно и жалостно допытывалась она. — Ты — больной?
— Да нет, — говорил я, откладывая книгу и улыбаясь, — теперь уже почти нет…
В другой раз она спросила:
— Дядя, ты — темный?
— Как, то есть, темный? — не понял я.
— Ну, темный человек. Так все говорят.
— Кто это — все?
— Папа, мама, бабушка — все. Говорят, ты — темный. И этот… Как же? Погоди… — она умолкла, помаргивая, и затем с усилием выговорила: — Ка-тор-жник!
— Вот как? — нахмурился я. — А о чем еще они говорят?
— Еще о жилплощади.
В эту секунду дверь скрипнула и приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулось трясущееся лицо старухи.
— Наташка! — прокричала она хриплым басом. — Ты что это, подлая, шляешься тут, покою людям не даешь? А ну, марш сюда! Ах ты, негодница, чтоб тебя громом разорвало!
Поздним вечером (я уже раздевался, готовился ко сну) в дверь постучали. „Ягудас, — решил я, — пришел, наверное, оправдываться. Девчонка проболталась — теперь ему неловко… Будет хитрить, изворачиваться. Что ж, ладно. Потолкуем“.
Но это оказался не Ягудас.
В полутемной прихожей стоял почтальон. Он извлек из сумки плотный белый конверт, протянул его мне и сказал:
— Распишитесь в получении!
— Что это? — спросил я озадаченно.
— Повестка из военкомата.
Нечистая сила
Меня призвали в армию в июле сорок четвертого года (в ту пору мне как раз сравнялось 18 лет). И сразу же — едва лишь я явился в военкомат — зачислили в кавалерийскую часть.
Один из членов отборочной комиссии — сивоусый майор в черкеске, сплошь увешанной орденами, знавал, как оказалось, моего отца; где-то служил с ним, бывал на его лекциях в академии… Улыбаясь, цедя сквозь усы сигаретный дым, он сказал, внимательно разглядывая меня:
— Потомственный донец, чистых кровей… Казуня! Правда, очень уж приморенный, жидковатенький, — майор сощурился при этих словах. — Не в папашу, нет… но ничего. Оклемаешься. Харч у нас подходящий. Главное — чтоб порода была!
Благодаря его стараниям, я получил назначение в восьмой казачий корпус и вскоре выехал с шумной партией новобранцев.
Так, не успев окрепнуть после отсидки, еще не отдышавшись, не придя в себя, я угодил в казарму, оказался в строю. Майор полагал, что я мечтаю о службе, о воинских подвигах. А я хотел только одного — покоя!
Покоя не было, впрочем, и воинских подвигов тоже. Фронт к тому времени был уже далеко; он пересекал Западную Европу, гремел где-то у германских границ. И запасной, недавно сформированный корпус наш все время находился во „втором эшелоне“ — двигался вслед за войной.
Настоящих сражений мы так и не повидали. Нам досталась участь иная; унылая гарнизонная жизнь в захолустных местечках Молдавии и Полесья, редкие стычки с нацистскими партизанами, патрульная служба и уставная муштра.
Муштра была тягостной и однообразной. Каждый день, с темна до темна, до тех пор, покуда трубачи не просигналят зорю, маялись мы на занятиях в пешем и конном строю. Это изнуряло меня, изматывало, но, тем не менее, приносило свою пользу. С течением времени я научился неплохо владеть холодным оружием, основательно усвоил правила рукопашного боя.
Эскадронный командир, калмык Сараев, прозванный у нас „нечистой силой“, сказал мне после очередного занятия:
— Хоть ты и дерьмо, такое же, как все остальные, но рубку любишь, нечистая сила, стараешься! Есть в тебе хорошая злость. Это видно. Хвалю!
И в следующий раз показал мне несколько хитрых приемов в обращении с шашкой и с кинжалом.
Кинжалу он придавал немалое значение. Особенно ценил он умение метать оружие — „доставать им издалека“. И всякий раз, уча меня, как это делать, Сараев говаривал, перефразируя известное суворовское изречение: „Пуля — дура, клинок — молодец“.
Личность эта была любопытная: плотный, низенький, кривоногий, он чем-то напоминал паука. И ходил он, как паук, раскачиваясь, широко и цепко ставя ноги. Да и характер у него тоже был соответствующий: недобрый, замкнутый, вспыльчивый… Он жестоко гонял нас на учениях, придирался к каждому пустяку и не прощал оплошностей.
— Как сидишь? — яростно, выкатывая глаза, кричал он на кого-нибудь из нас во время манежной езды. — Как сидишь, нечистая сила? Не заваливайся. Не подворачивай носки. Шенкелями работай, шенкелями! Сидишь, как собака на заборе, смотреть противно.
И затем безжалостно вкатывал провинившемуся внеочередной наряд.
— Все вы дерьмо, — частенько рассуждал он с брезгливой гримасой. — Если уж есть в мире что-нибудь стоящее, так это лошадки! Душа у них чистая, без пакостей, без обману. Потому и люблю их… Человек — навоз. Человека надо рубить, а лошадку — холить.
Лошадок он, и в самом деле, любил горячо и самозабвенно и, когда смотрел на них, коричневое, дубленое лицо его странно смягчалось: морщины распускались, взор увлажнялся, теплел.
Таким я несколько раз видел Сараева у коновязи; он кормил хлебом мышастого своего текинца и бормотал что-то, нашептывая — почти пел еле слышно — в бархатное его, чутко вздрагивающее ухо.
И таким он запомнился мне в последний раз — в тот самый день, когда эскадрон наш внезапно и стремительно был переброшен по тревоге в соседний район.
Растянувшись по шляху, сотня шла на рысях; дробно цокали копыта, поскрипывали седла, клубилась горячая пыль. День был безоблачный, залитый зноем. Пахло медом и спелыми травами. По сторонам дороги плескались густые синеватые, припорошенные пылью посевы овса.
Я ехал в первых рядах — с краю взводной колонны. Отсюда мне видна была плотная спина эскадронного командира; взмокшая от пота гимнастерка, лоснящийся, покрытый пеной круп его жеребца.
На развилке дороги Сараев остановился, круто поворотил коня и крикнул, поднимая руку:
— Эскадро-о-он, стой!
К нему наметом подскакал политрук. И я услышал короткий их разговор.
— Передохнуть надо, — сказал эскадронный, — жара… Пускай лошадки остынут маленько, да и подкормятся. Гляди, какие овсы! Это ж для них праздник!
— Но ведь мы не поспеем, — усомнился политрук. — Приказано явиться к месту назначения в 14.00, а сейчас… — он задрал рукав гимнастерки, коротко глянул на часы, — сейчас начало второго. А до места еще километров пятнадцать, не менее того.
— Ничего, — отмахнулся калмык, — как-нибудь доберемся. Они там в штабах, нечистая сила, выдумывают хрен знает что… А мне коней палить из-за этого?
Мы спешились, разнуздали коней и пустили их в поле… И пока они паслись там, Сараев молча стоял на обочине, покуривал и улыбался, морща губы.
К месту назначения эскадрон прибыл с запозданием. Часть, с которой мы должны были соединиться, давно ушла уже, не дождалась нас. И на следующий день командир исчез. Его арестовали за нарушение приказа и предали военно-полевому суду. Что с ним сталось — я не знаю, больше я его не видел никогда.
* * *
И еще о нечистой силе. На этот раз — о самой настоящей, всамделишной, с которой мне пришлось повстречаться в Беловежской пуще.
Произошло это вечером, под осень, в лесной деревушке; конный патруль (в котором я был старшим) случайно наткнулся на нее и теперь рысил по сонной улице — мимо плетней и темных хат… Приятель мой — чубатый ефрейтор Асмолов — сказал, оглядываясь и вздыхая:
— Тихо. Как дома. Как у нас на хуторе. Бывало, выйдешь с гармошкой… Ах, хорошо! Никакой тебе войны, никакой службы, — он поерзал в седле и потом, натягивая повод, проговорил с надрывом: — Самогоночки бы сейчас. Первачку!
И всем нам тотчас же захотелось выпить.
Мы долго рыскали по деревне, стучали в окна, просили продать хоть одну бутылочку… Самогонки не было нигде. Наконец какой-то старик сказал нам:
— Тут, панове, пусто: вшистко уже забрано… Немец был — брал. Бандиты приходят — берут. Ваши жолмеры — тоже.
— Как же быть, черт возьми, — озадаченно пробормотал я, — мы за ценой не постоим. Может, все-таки есть у кого-нибудь? Подумай, батя, напрягись!
— Уж и не знаю, панове…
Старик ухватил пальцами бороду — помял ее в раздумье, опустил клочковатые свои брови:
— Разве что — у ведьмы…
— У какой еще ведьмы? — удивлённо, с ухмылкой спросил Асмолов.
— Да есть тут одна, — сказал старик, — ворожит, зелье варит.
— Где ж она живет?
— Тут недалеко — за оврагом.
— Проводишь нас? — спросил я, оглаживая ладонью шею коня. — Заодно и выпьем вместе.
— Нет, — поспешно сказал старик, — нет. Боюсь.
— Чего ж ты, чудак, боишься?
— К ней ночами завсегда змей летает.
— Зме-е-ей? — недоверчиво протянул кто-то за моей спиной и гулко хохотнул. — Хитришь ты, мужик! Говоришь, что самогонки нет, а сам, видать, пьян. Набрался — до зеленого змия.
— А ты не смейся, — строго ответил старик, — не смейся. Вот поезжай — побачишь!
— Да куда ехать-то? — спросили его. — Ты толком объясни.
— Направо, — сказал старик, — свернете в проулок — будет заброшенный стодол. За ним овраг. А на другой стороне, на выселках — ведьмина хата! Вона една там — не спутаетесь.
— Ну как? — я обернулся к ребятам. — Поедем к ведьме?
— А что же? — сказал Асмолов, поправляя погонный ремень. — За водкой — хоть в преисподнюю! Да и любопытно, вообще-то… Командуй, старшой!
Был уже поздний час, когда мы прибыли на выселки.
Далеко, за гребнем оврага, тлела косая розовая полоска зари. На фоне ее „ведьмина“ хата казалась плоской и черной, словно бы нарисованной; она походила на иллюстрацию из детских полузабытых книжек.
В одном из окон хаты теплился оранжевый огонек, а вокруг кишели синие мохнатые тени.
Тени клубились в кустарнике и стекали в провал; он был до самых краев затоплен непроницаемой тьмою. Он дышал гнилью и холодом. И проходя над ним, осторожно ступая по шатким мосткам, кони опасливо прядали ушами и всхрапывали, грызя удила.
— Ну и местечко! — процедил Асмолов. — Не нравится мне здесь, ребята…
Он потащил из-за спины карабин, сухо клацнул затвором.
— Ты чего? — повернулся я к нему. — Нечистой силы испугался?
— Да просто так, — оскалился он, — на всякий случай. Мы медленно приблизились к хате, спешились и с минуту толпились у окошка, заглядывали в него. Там в полутьме полыхали багровые отсветы; что-то двигалось там, шуршало… Но что — разобрать было невозможно.
— Вот чертова старуха, — сказал Асмолов, — колдует. Ну, ну!
И размашисто — прикладом карабина — постучал в оконную раму.
Чье- то темное лицо приникло изнутри к стеклу, помаячило и скрылось. Потом заскрипел дверной засов. Мы придвинулись к крыльцу и увидели ведьму.
Она была в точности такой, какие изображаются в старых сказках: горбатая, сморщенная, с вислым носом, с высокой суковатой клюкой, зажатой в сухонькой птичьей лапке.
Ведьма осмотрела нас исподлобья и спросила, подмигнув:
— Горилочку шукаете, служивые?
— А есть? — придвинулся к ней Асмолов.
— Имеется, — кивая и шамкая, ответила она. — Все имеется. И горилочка, и, к примеру, лучок, огурчики. Почекайте трошки.
Она юркнула за дверь. Но тут же выглянула снова:
— Только уж вы не обманите меня, сироту…
— Что ты, бабка, — сказал Асмолов, закидывая за плечо карабин. — Что ты!.. — он уже успокоился и повеселел заметно. — Расплатимся честно — не сомневайся. Сколь тебе надо?
— Пол-литра — два карбованца.
— Держи! — он зашуршал бумажками. — Об чем разговор? Давай литр. И заесть что-нибудь. В кишку покидать.
Потом мы пили, расположившись на краю оврага. Ночь кружилась над нами, обволакивала тишиною. И было хорошо лежать так — под чистыми звездами, в скользких, шелковых травах.
— Не знаю, какая она ведьма, — сказал Асмолов, с хрустом прожевывая огурец. — Да вообще все это ерунда. Наживается на людской темноте! Но самогонку она делает классную, тут уж ничего не скажешь! Первачок у нее…
Он осекся внезапно — привстал и закаменел. Челюсть его отвисла. Огуречные семечки посыпались изо рта.
— Глядите, братцы, — прошептал он погодя, — там, над хатой… Что это?
Сверкающий огненный вихрь возник во тьме — закружился над крышею хаты. И исчез в дымовой трубе. Какое-то время мы все молчали, пораженные. Затем я сказал, запинаясь:
— Неужели и вправду — змей?
Было странно и дико видеть все это на исходе великой войны, в середине двадцатого века. Я чувствовал себя, как в скверном сне. И такое же чувство испытывали другие.
Хотелось очнуться, избавиться от наваждения… И, вероятно, поэтому казаки задвигались вдруг, зашумели все разом, заговорили нарочито громко и оживленно. И тотчас же, отзываясь на голоса, заржали пасшиеся неподалеку кони.
— Ерунда, — тряхнув курчавым чубом, повторил Асмолов. — Старухины фокусы.
— Как же она, по-твоему, ухитряется? — воскликнул угрюмый парень по прозвищу Бирюк. — Огонь-то ведь не из трубы шел, а наоборот… С неба. Я видел, братцы. Все точно видел!
— Черт ее знает, — смущенно развел руками Асмолов.
— Вот именно, — усмехнулся я.
— Проверить бы эту ведьму, — поднявшись и отряхивая гимнастерку, проворчал Асмолов, — разъяснить ее. Чем она там занимается?
Грузно, вперевалочку, направился он к хате, но не дошел, остановился в замешательстве. Казаки засмеялись. Тогда Асмолов сорвал с плеча карабин и выстрелил наугад в небо, в лиловую, мерцающую над крышей звезду.
Он выстрелил — и звезда погасла. Зеленоватое сияние разлилось на востоке, потянуло росистой свежестью; начинался рассвет.
* * *
Так вот она и катилась, моя армейская жизнь; в ней, как я уже говорил, не было ни крупных дел, ни серьезных событий. Война почти не затронула меня — прошла стороной.
Серьезные события начались в мирную пору — после того как я демобилизовался из армии и вернулся в Москву.
Побег
Я вернулся повзрослевший, грубоватый, окрепнувший… Увидев меня, мать всплеснула руками.
— Ты стал совсем как отец, — сказала она, — та же походка, тот же взгляд. Только вот боевых наград не выслужил.
— Не повезло, — отшутился я.
— Скорее всего, наоборот, повезло, — возразила она серьезно. — Могло ведь так случиться, как с Андреем. Его, ты знаешь, наградили, — она всхлипнула. — Посмертно…
И затем, помедлив, спросила:
— Что же ты теперь собираешься делать? Будешь учиться или работать где-нибудь?
— И то и другое, — сказал я.
— Правильно, — одобрила она, — пора становиться на ноги по-настоящему! О тебе, кстати, все время вспоминает Дмитрий Стахиевич Моор. Сходи к нему непременно. Он теперь лауреат Сталинской премии, член правления Союза художников… Словом, человек большой — посодействует!
С помощью старого моего учителя я вскоре поступил на работу в рекламный отдел крупнейшего в Москве автомобильного завода им. Сталина (ныне он переименован и называется заводом Лихачева). И тогда же стал посещать студию изобразительных искусств ВЦСПС, где преподавали — помимо Моора — такие превосходные мастера, как Алякринский, Ряжеский, Юон.
Все вроде бы складывалось благополучно. После многих бед и мытарств жизнь начала наконец входить в берега.
Работа хоть и была скучновата, но все же устраивала меня (я занимался цветными рекламными каталогами, предназначенными для Америки), учеба в студии шла вполне успешно. На выставке зачетных работ по классу иллюстративно-плакатной графики несколько моих эстампов были одобрены худсоветом и замечены критикой. Одну из акварелей, изображавшую салют — россыпь ярких огней по синему полю, приобрела за хорошую цену дирекция Трехгорного текстильного комбината. И спустя недолгое время в продаже появилась нарядная, сделанная по моему рисунку ткань.
Одновременно с этим я получил издательский заказ — первый в своей жизни и довольно крупный профессиональный заказ на серию иллюстраций к сборнику известного фольклориста и сказочника Афанасьева.
— Ты, старик, в люди выходишь! — уважительно и чуточку ревниво заявил с улыбкою молодой художник Алеша Крайнев, служивший вместе со мною в рекламном отделе. — Половина Москвы в твоих ситцах ходит, отовсюду заказы сыплются… Лафа! Только не возгордись, смотри не вздумай задаваться.
С ним и еще с одним рисовальщиком — худым и носатым Давидом Гатлобером — я сдружился сразу же, как только поступил на службу. Нас сблизили общие интересы, одинаковые творческие замыслы. Да и в прошлом у нас тоже было немало сходного.
Так же, как и я, оба этих парня испытали на себе тяготы сталинских репрессий (Давид потерял в тридцать девятом году брата, Алексей — родственников со стороны матери). И оба недавно только демобилизовались из армии. Будучи по возрасту старше меня, они успели понюхать пороху, прошли с войсками по всей Европе и повидали иную, вольную жизнь. И теперь, беседуя со мною, друзья частенько вспоминали виденное; вспоминали и сравнивали с окружающим нас бытом. И весьма откровенно критиковали его.
В разговорах такого рода я, как правило, почти не участвовал — размышлял о другом. Все помыслы мои были отданы искусству; только это занимало меня тогда. Только это! В экономике я разбирался слабо, политики чурался, избегал ее; она казалась мне делом темным и низменным, не стоящим внимания истинного художника.
Однако избежать политики мне не удалось; она сама — внезапно и грозно — напомнила о себе…
* * *
Придя как-то утром на работу, я не застал там ни Гатлобера, ни Крайнова; столы их пустовали весь день, а вечером, перед уходом, одна из сотрудниц отдела шепнула мне:
— По-моему, их арестовали.
— Откуда ты знаешь? — насторожился я, также переходя на шепот. — Ты их, что ли, видела?
— Ну да! Они же были здесь утром, как раз перед самым твоим приходом. Ну буквально минут за пять… Только вошли, поздоровались — и сразу их вызвали.
— Куда?
— В контору. К инспектору по кадрам.
— Ну, — облегченно вздохнул я, — это еще не так страшно.
— Ты думаешь?
— Конечно. Непонятно только, что они там делают до сих пор?
— А их там уже нету, — глуховато, с запинкой выговорила девушка. — Я видела курьера из конторы; он рассказал. Их, оказывается, ждали… И с ходу взяли под конвой.
— Но за что? — спросил я. — За что?
— Кто его знает… Говорят — за болтовню, за крамольную агитацию. Вроде бы они в какой-то подпольной организации состояли. Чушь, конечно, но все равно жаль их. Такие славные мальчики.
В эту ночь я долго не мог уснуть; бродил по комнате и беспрерывно курил, исполненный мрачных предчувствий.
„Если уж ребят заподозрили в крамоле — дело гиблое, — думал я. — Теперь им хана. Да и мне, пожалуй, тоже. Я ведь с ними дружил. Чекисты начнут проверять все их связи, все знакомства — и выйдут на мой след“.
Предчувствия не обманули меня; через день после описываемых здесь событий, когда я набрасывал, склонясь над столом, новый рекламный эскиз, меня внезапно позвали к телефону.
Мягкий, развалистый голос сказал в самое ухо:
— Вы сейчас свободны?
— Да не совсем, — ответил я. — А кто это?
— Инспектор по кадрам, — ответили мне.
На секунду я почувствовал стеснение и тяжесть в груди. Сердце глухо стукнуло и замерло, и потом зачастило неудержимо. „Ну вот, — мелькнула мысль, — вот и началось!..“
— Мне нужно потолковать с вами, — внятно произнес инспектор. — Сейчас идет перерегистрация паспортов, а с вашим паспортом кое-какие неясности… — он помолчал, соп-нул в трубку. — Итак — жду!
— Хорошо, — отозвался я, умеряя дыхание, стараясь говорить как можно небрежней. — Ладно. А… когда?
— Желательно — поскорей. Вы сейчас что делаете?
— Да тут один эскиз заканчиваю.
— Эскиз? — он опять приумолк, зашуршал бумагами. — Это надолго?
— Минут на двадцать, не больше.
— Вот через двадцать минут и приходите.
Голос его неуловимо изменился — посуровел слегка, обрел необычную густоту:
— Только не задерживайтесь, не заставляйте ждать. Являйтесь точно. Ясно?
— Ясно, — пробормотал я, бросая трубку на рычаг. — Все ясно…
Я закурил и осмотрелся — обвел взглядом просторное, залитое светом помещение отдела. Я понимал, что вижу его в последний раз… И прощался с ним мысленно. С ним, с благополучной жизнью, со всеми своими иллюзиями и мечтами.
Однако затягивать прощание было нельзя. В моем распоряжении имелось всего лишь двадцать минут. Двадцать минут, отпущенных мне судьбою; последний ее подарок, единственный, крошечный шанс. За это время я должен был пересечь заводскую территорию, благополучно выбраться наружу и раствориться, исчезнуть в уличной толчее.
Беспечно посвистывая, вертя в пальцах сигаретку, я направился к выходу. Плотно притворил за собою дверь. Оглянулся — коридор был тих и безлюден. И я побежал по нему осторожно, крадучись, все убыстряя шаги.
* * *
Ночевал я на вокзале — идти к себе домой не рискнул. Рано утром, невыспавшийся, грязный, в мятом костюме, я разыскал телефон-автомат и набрал домашний свой номер.
Ответил мне Ягудас; голос его был нетерпелив и вкрадчив.
— Ты откуда звонишь? — поинтересовался он.
— От друзей, — пояснил я уклончиво. — Загулял вчера, выпил. Ну и остался у них ночевать.
— Где же ты все-таки?
— Да какая разница? — сказал я. — Это неважно… Интересно другое. Ко мне вчера приходил кто-нибудь?
— Приходил, — негромко и как-то нерешительно отозвался он.
— Кто?
— Какой-то друг.
— Как он себя назвал?
— Да никак. Сказал, что друг. И все. Подождал немного и ушел; пообещал заглянуть сегодня утром. У него к тебе срочное дело есть… Потому я и спрашиваю: где ты?
Он помедлил выжидательно. И потом:
— Если этот твой друг явится еще раз, что ему передать?
— Передайте привет, — сказал я.
Ягудас хитрил, недоговаривал, это было ясно. Те немногие приятели, с которыми я общался, были знакомы ему; неизвестный этот „друг“ принадлежал, конечно же, к иной категории… И теперь караулил меня, поджидал. Он находился в контакте с Ягудасом! И вот почему сосед мой так настойчиво допытывался: откуда я звоню…
* * *
Я вышел из телефонной будки с отчетливым ощущением близкой опасности. За мной охотились, обкладывали — как волка во время облавы. Надо было спасаться, бежать… Но как? И куда? Я был без документов (паспорт мой остался на заводе, в отделе кадров) и почти совсем без денег. Растерянный, я топтался в зале ожидания среди горланящих, суетящихся, спешащих куда-то людей… Суета их, на первый взгляд, казалась бессмысленной. Но все-таки каждый, в отличие от меня, имел здесь определенную, точную цель. Каждый спешил по своему маршруту, по делам или к родственникам.
К родственникам! Я словно бы вдруг очнулся от дремоты. Странно, что эта мысль не пришла мне раньше. У меня ведь тоже есть родственница — старшая сестра отца Зинаида Андреевна Болдырева. Она безвыездно живет в Новочеркасске, знает меня понаслышке и теперь, без сомнения, будет рада увидать меня и приветить.
На исходе дня я уже сидел в купе скорого поезда „Москва-Ростов“.
На билет ушли все имеющиеся у меня деньги — все, до копейки! Однако обстоятельство это мало меня беспокоило. „Двое суток пути, — рассудил я, — срок небольшой. Как-нибудь перебьюсь, поголодаю, не страшно. Главное, добраться до Новочеркасска! Там, у тетки, поправлюсь, отъемся на донских хлебах… Когда-то она помогала моим родителям, теперь поможет мне“.
Раздобыть еду
Новочеркасск открылся мне на заре; он выплыл из пепельной мглы — просторный, разбросанный по склону горы, позлащенный утренним солнцем… И вскоре я уже шагал по улицам бывшей столицы Всевеликого Войска Донского.
Адрес тетки я знал весьма смутно. Помнил только, что дом ее находится где-то в самом центре города — на одной улице с особняком Беляевских. Знал также, что улица эта называлась в свое время Ратная, а теперь переименована в Красноармейскую. Сведения были скудны, однако для Новочеркасска их оказалось вполне достаточно.
Первый же встреченный мною старик (в полинявшей казачьей фуражке и шароварах, заправленных в толстые вязаные чулки) охотно и обстоятельно растолковал мне, как пройти к дому Болдыревых.
— Когда-то богатый особнячок был, видный, — заметил он, посасывая гнутую хрипучую трубку, — а теперь и смотреть не на что, — он наморщился и сплюнул в пыль. — Срамота, грязь… Был один хозяин, теперь их сорок… Все хозяева! Некого на хрен послать.
Дом и действительно вид имел неопрятный, запущенный; фасад его был в потеках, в ржавых пятнах сырости, парадный вход заколочен досками. На резной решетке двора моталось белье, развешенное для просушки. Здесь же толпились бабы — галдели, перебранивались, сорили подсолнечной шелухой.
— Зинаида Болдырева? — задумчиво в ответ на мой вопрос протянула одна из них. — Что-то я не соображу. Я ведь тут недавно… Это кто же такая?
— Бывшая хозяйка этого дома, — сказал я. — Неужто не знаете?
— Ах, бывшая, — засмеялась она. — Ну, как же, как же! Знаю. Андреевна… А вам она зачем?
— По делу, — сказал я сухо.
— Ну, так ступайте наверх.
— Куда же? — спросил я, окидывая взглядом окна второго этажа.
— На самый верх, — пояснила баба. И опять засмеялась, обнажая крупные желтые лошадиные зубы. — Ихние хоромы — под крышей, на чердаке!
Я поднялся на чердак по скрипучей узенькой лестнице. С трудом разыскал в полумраке дверь. Толкнул ее и ощутил густой, невыразимо сладостный запах жареной картошки.
Я словно бы опьянел от этого запаха (я ведь не ел почти трое суток!) и, войдя в просторную, чисто прибранную комнату, как-то сразу ослаб; прислонился к дверной притолоке, смахнул рукавом испарину со лба. Голова у меня кружилась. И вероятно поэтому я не сразу заметил стоящую в глубине комнаты женщину.
Невысокая, седая, в брошенном на плечи платке и темном, старушечьем платье, она стояла возле стола — возле сковородки с шипящей, розовой, подернутой паром картошкой.
— Здравствуйте, — сказал я. — Вот мы и увиделись наконец. Я Трифонов. Сын Евгения Андреевича.
— Сын Евгения? — она вздрогнула, судорожно нашарила на столе пенсне и поднесла его к глазам. — Это какой же сын — Андрей, что ли?
— Нет, — косясь на сковородку и глотая слюну, ответил я, — нет, другой.
С минуту она изучала меня, разглядывала пристально, настороженно. Потом сказала, щурясь и поджимая губы:
— Сын Евгения… А скажи-ка, где вы жили в Москве?
— Смотря когда, — пробормотал я.
— Что значит — когда? — нахмурилась она. — Я спрашиваю, где вы вообще жили?
— В разных местах, — ответил я, испытывая растерянность и неловкость. Встреча эта представлялась мне иной; я не ожидал подобного допроса. — При отце мы почти все время проживали за городом.
— За городом?
— Ну, да. На станции Кратово. Это по Казанской дороге. А потом я к матери перебрался.
— А какой у нее адрес?
Я назвал улицу и номер дома. Она промолчала и затем знакомым, совершенно отцовским жестом сняла пенсне. Подышала на него. Медленно протерла стеклышки.
Я ожидал, что она улыбнется, пригласит меня сесть, поинтересуется, не голоден ли я… Но вместо этого она спросила:
— А документы у тебя есть?
— Послушайте, тетя, — проговорил я. — Вы что не верите мне или боитесь чего-то?
— Да нет, — замялась она, — не в этом дело. Просто хочу посмотреть — на всякий случай.
— На какой это случай? — перебил я ее.
— Ну, мало ли… Вдруг придут проверять!
— Вот тогда я и покажу документы. Или вам нужно сейчас?
— Да, — сказала она, — да. Сейчас!
Я посмотрел ей в лицо и понял, что надеяться здесь не на что; она не примет меня, не спасет, не укроет. Она боится! Боится всего. Она больна этим страхом. И давно уже ничему не верит.
И тогда, не говоря больше ни слова, я повернулся, резко рванул дверь и вышел на лестницу, сопровождаемый хмельным и томительным ароматом еды.
* * *
Медленно, на ватных ногах, добрел я до вокзала, потолкался там, нашел на перроне несколько окурков и долго, с жадностью хлебал папиросный дым… Потом влекомый толпою мешочников вскочил в вагон ростовской электрички.
Я не знал, куда и зачем еду. Теперь мне все было безразлично. Отчаявшийся и бездомный, я чувствовал себя в тупике, в безвыходном положении. Устроиться на работу я без паспорта не мог. Жить мне было негде и не на что. Оставалось одно: идти сдаваться в милицию… И кто знает, возможно, я так бы и поступил, если бы не память. Слишком сильны и отчетливы были мои воспоминания о лагере, о тюремной больнице! Нет, возвращаться к этому я не мог, не хотел. „Лучше уж подохнуть, — думал я, стоя в тесном, битком набитом тамбуре, — подохнуть под забором, под любым кустом, где угодно, но только не в камере, а на воле“.
В сущности, это была мысль о самоубийстве, еще не окрепшая, не вызревшая, но все же вполне определенная мысль!
Как это ни удивительно, окончательно созреть и оформиться ей помешал голод.
Была суббота — базарный день. И люди, ехавшие со мною (это были, в основном, жители Новочеркасска и окрестных станиц), спешили в Ростов, на „Привоз“ — на центральный рынок. Все разговоры в вагоне велись о продуктах, о товарных ценах. И, невольно прислушиваясь к ним, я тоже решил побывать на „Привозе“. „В конце концов, — подумал я, — подохнуть никогда не поздно. Это успеется. Самое главное сейчас — раздобыть еду!“
* * *
Я долго в этот день мыкался по базару — приглядывался, ждал удобного случая… Случай, однако, не подворачивался; местные торгаши были люди опытные, зоркие, способные сами обмануть кого угодно.
У меня не хватало должной сноровки, я сознавал это! И не знал, что же мне делать дальше? Обессилев от напрасных трудов, я остановился, прислонясь к телеграфному столбу. Губы мои запеклись и потрескались, глаза щипало от пота. Сквозь зыбкую, застилающую взор пелену я видел край дощатого ларька, груду ящиков и мешков, а рядом с ними — красное распаренное лицо старухи, торгующей рыбными котлетами.
— А вот они горяченькие, — монотонно выкликала она, — из налима, из чебака, из сомины! Без обману! На подсолнечном масле!
Товар старухи шел нарасхват. Карманы потертого ее жакета распухли от денег. Один из карманов, судя по всему, был прорван и деньги попали за подкладку; она провисла от тяжести, топорщилась, бросалась в глаза…
Кто- то легонько тронул меня сзади за рукав. Я обернулся и увидел худощавого паренька — курносого, с белыми бровями, с растрепанной челочкой, косо прикрывающей лоб.
— Пасешь? — спросил он, подмигивая; он явно принимал меня за своего. — Молотнуть хочешь, а?
В ту пору я еще плохо знал воровской жаргон; далеко не все понимал в нем, но общий смысл этих слов уловить было все-таки можно.
И я сказал, стараясь выглядеть человеком бывалым, знающим дело:
— Молотнуть можно, конечно. Гроши приличные — сами в руки просятся…
— Давай вместе, — быстро проговорил паренек. — Хочешь, а?
С этого момента, собственно говоря, и началась моя блатная биография.
Первая кража
Первая кража, как и первая любовь, событие особое, памятное, оставляющее в душе неизгладимый след. Потому он так прочно и врезался мне в память, давний этот июньский день!
Я помню его превосходно, во всех подробностях. Помню, как новый мой приятель сказал шепотком:
— Становись на отмазку… Отвлекай! И я ответил в растерянности:
— Как ее, собаку, отвлечешь?
— Ну, как, — он дернул плечом. — Сам соображай. Поторгуйся, придерись к чему-нибудь… Только не тяни, не медли.
Он весь был как на пружинах, озирался, дергался, говорил торопливо и глухо:
— Работа пустяковая — сделаем быстро! А потом встретимся на берегу, у затона, там, где вся кодла собирается… Спросишь Леньку Хуторянина, тебе каждый покажет.
Я молча кивнул. Подошел к старухе вплотную и небрежно спросил ее, поигрывая бровью:
— Почем продаешь, мамаша?
— Червончик пара, — отозвалась она, — горяченькие, без обману…
— Без обману, говоришь? — прищурился я. — Все вы тут горазды на слова, а сами тухлятиной торгуете!
Лицо ее перекосилось, брови гневно поднялись, глаза вышли из орбит.
— Это кто, — спросила она, подбоченясь, — это кто тухлятиной торгует?
Она наступала на меня, захлебываясь, путалась в словах:
— Это я-то? Да ты… Тухлятиной? Да ты в своем ли уме? Ах ты…
Пока она бушевала, парень с челочкой не дремал. Незаметно подкравшись к ней, зайдя со спины, он опустился на корточки. В руке его блеснула бритва… Все последующее произошло в одно мгновение.
Аккуратно, кончиками пальцев приподнял он полу старухиного жакета, нащупал цветастую, отягченную деньгами подкладку, слегка оттянул ее книзу, примерился глазом и стремительным, плавным движением полоснул по ней лезвием бритвы.
И сейчас же на землю, в пыль, густо посыпались скомканные червонцы.
Откуда-то возник еще один паренек — смуглолицый, в клетчатой, сбитой на ухо кепочке. Присел рядом с Хуторянином и помог ему собрать рассыпанные деньги. Затем оба они шмыгнули за угол ларька.
Уходя, смуглолицый оглянулся, мигнул мне значительно и указал ладонью куда-то вдаль. Проследив за направлением его руки, я увидел голубую, мерцающую полоску воды.
Ребята звали меня туда, к излучине Дона! Пора было смываться… Отмахиваясь от разъяренной торговки, я сказал примирительно:
— Ну, чего ты, старая, развопилась? Остынь. Я же ведь не о тебе лично говорю, я — вообще… — и отступил поспешно — окунулся в толпу.
Минуту спустя, когда я выбирался уже из рыбных рядов, послышался истошный, пронзительный бабий вопль. Торговка обнаружила пропажу и убивалась теперь, голосила на весь „Привоз“.
Боюсь, что я разочарую моралистов и блюстителей нравственности: никаких угрызений совести я в этот момент не испытывал — наоборот! Я был ожесточен, предельно озлоблен. Озлоблен на весь мир, на всех людей.
„Меня никто не жалел, — угрюмо думал я, — никто, никогда! После того как умер отец, я ни от кого не видел добра — ни от близких мне людей, ни от чужих. Все они — дерьмо, все одинаковы! С какой стати я буду им сочувствовать? Проклятые, они заслуживают не жалости, а мести“.
Так я размышлял, продираясь сквозь базарную толпу, и потом шагал по берегу Дона. Я шел к блатным. Путь мой был ясен; сама судьба указала мне его.
Я ступил на эту стезю случайно, но менять ее отныне не собирался! Единственное, что меня беспокоило, — это предстоящее знакомство с „кодлой“, с таинственным воровским миром. Как там отнесутся ко мне, как примут? Да и примут ли?
* * *
Я разыскал блатных довольно быстро; они размещались за бугром, на пляже — на песчаной косе, омываемой мутной, радужной от мазута водою.
Кодла была в сборе! И выглядела она со стороны весьма мирно. Развалясь на песке, урки выпивали, закусывали, некоторые из них загорали, подставляя солнцу расписные, татуированные плечи и животы. Иные сидели, собравшись в кружок; там шла игра, трещали карты, раздавались отрывистые, странные, похожие на заклинания слова: „Иду по кушу. Не заметывай! Четыре сбоку — ваших нет!“
Здесь же слонялись и женщины, очевидно, воровки или же проститутки, а может быть, просто подруги блатных.
Внезапно из-за днища опрокинутой барки выглянула белесая, с растрепанной челочкой голова.
— Эй, ты, — крикнул Хуторянин и свистнул в согнутый палец. — Где это ты застрял? Иди, давай получай долю!
Я приблизился к барке, и тотчас же у меня схватило от голода кишки, рот наполнился вязкой, тягучей слюной… Ребята пировали!
На разостланной газете у их ног были навалены помидоры, куски колбасы, ноздреватые, крупные ломти хлеба. Лоснилась желтоватая тарань. Зыбко поблескивала початая бутылка водки.
— Я уж было подумал — тебя прихватили, — проговорил Хуторянин. — Смотрю: нету и нету… Так как — все нормально?
— Нормально, — усмехнулся я, вспоминая торговку, перекошенное ее лицо, пронзительный, судорожный голос.
— Ну и лады, — сказал он, — отдыхай… Может, захмелиться хочешь?
И, не дожидаясь ответа, быстро (он все делал быстро!) схватил бутылку, плеснул из нее в стакан и широким жестом придвинул мне закуску.
Молча, благодарно принял я из рук его стакан водки, выпил, перевел дух и хищно впился зубами в пахучую, нежно похрустывающую горбушку.
Покуда я ел, ребята помалкивали, курили, затем один из них (тот, кто был в клетчатой кепочке) сказал с едва уловимым акцентом:
— Давай, дорогой, рассчитаемся.
Он пошуршал в кармане, достал оттуда пачку смятых червонцев, разгладил их, разровнял и сунул мне в ладонь.
— Держи! Девять красненьких. Всем поровну — так?
— Так, — согласился я. И замолчал, посуровел, разглядывая замусоленные эти бумажки — первую блатную добычу, первый свой воровской гонорар.
— Это все, конечно, зола, — проговорил Хуторянин, по-своему расценив мою задумчивость, — но ничего! Курочка по зернышку… К вечеру пробежимся еще разок — и лады. Базар у нас здесь бога-а-тый.
Он выразительно щелкнул пальцами. И вдруг спросил, глядя на меня в упор:
— Ты откудова залетел?
— Из Москвы, — ответил я, весь подобравшись внутренне, боясь хоть в чем-нибудь оплошать.
— Чалиться где-нибудь приходилось?
— Конечно, — сказал я. Слово „чалиться“ было мне знакомо, означало оно — сидеть, быть в тюрьме… Я запомнил его давно и накрепко.
— Где же ты побывал?
— Да почти везде, — процедил я, лениво оттопыривая губу. — В Бутырках, на Красной Пресне.
— Я тоже в Москве подзасекся разок, — протяжливо и гортанно сказал смуглолицый. — Только я не на Пресне был, а в Таганке… Знаешь Таганку?
— Знаю, — соврал я, — тюрьма знаменитая.
— Ну, давай знакомиться!
Он протянул растопыренную, раскрытую для пожатия пятерню. Представился:
— Кинто, — и посмотрел на меня выжидательно.
И вот, в тот самый момент, когда я уже готовился пожать ему руку и мысленно, наспех подыскивал собственное свое прозвище (хотелось назваться как-нибудь позамысловатей, поблатней), откуда-то сбоку прозвучал шепелявый, медленный, странно знакомый голос:
— Чума, ты, что ль? Вот не ожидал!
Я поднял голову — и увидел Гундосого.
Сын босяка — это красиво!
Первым моим чувством было смятение. Встреча с давним этим врагом не сулила мне ничего хорошего…
Кривя в ухмылочке мокрые свои губы, Гундосый спросил:
— Ты что, Чума, тут делаешь?
— Сам видишь, — сказал я, — выпиваем…
— Ну так пойдем со мной, — заявил он, — выпьем еще и, кстати, потолкуем. Как-никак, давние знакомые.
Я медленно встал и побрел за ним, увязая в раскаленном песке. Тон его озадачил меня. В нем не чувствовалось прежнего высокомерия; слова звучали мягко, почти дружелюбно.
„Что- то тут не так, — лихорадочно соображал я, — что-то за всем этим кроется… Непонятно только — что?“
Когда мы отошли, он сказал, искоса оглядывая меня:
— К шпане, значит, прибился? Блатную жизнь полюбил? За-а-абавно!
— Так уж вышло, — я пожал плечами, — Такая выпала карта… И переигрывать поздно.
— И… не страшно? — поинтересовался он.
— А чего бояться-то? — беспечно ответил я.
— Ну, как же! Наша жизнь — не мед. Нет, не мед. Всякое бывает.
— Ерунда, — отмахнулся я. — Ты же знаешь, я не из пугливых. Помнишь ту ночь — на Красной Пресне?
Мгновенная судорога передернула его лицо. Верхняя рассеченная губа дрогнула и приподнялась, придавая ему сходство с каким-то мелким зверьком.
— Слушай, — сказал он, — к чему ворошить старое? Он подался ко мне, придвинулся вплотную:
— Ты вот что… Хочешь со мной дружить? Хочешь, чтоб я тебе помог?
— Что-о-о? — я даже попятился, удивленный. — Дружить?
Я ожидал всего что угодно, но только не этого! И колеблясь, томясь, опасаясь подвоха, спросил Гундосого:
— Это… серьезно?
— Конечно, — ответил он, — тут, милок, не до шуток. Если желаешь — помогу! Замолвлю за тебя слово. Блатные пока ничего про тебя не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда — сам понимаешь…
И, выдержав паузу, померцав глазами:
— Так как? — повторил он. — Хочешь?
— Ну, ясно, — сказал я, — еще бы! Только ты объясни: чего ты сам-то хочешь?
— Дело простое, — с натугой выговорил он. — Про тот случай — на Пресне — забудь! Не поминай ни единым словом нигде, ни с кем. Понял?
— Понял, — сказал я, не в силах скрыть торжествующей улыбки.
Вот, значит, как все обернулось! Любопытные сюрпризы иногда устраивает судьба. Гундосый утаил от ребят давнюю ту историю с надзирателем и оказался теперь в моих руках.
Наши шансы, таким образом, уравнялись. И неизвестно еще, кто кого должен отныне бояться по-настоящему!
Что- то в моем лице не понравилось ему, вероятно, улыбка. Очень уж она была откровенной! И он сказал, угрожающе понизив голос:
— Имей в виду, Чума! Начнешь трепаться — будет плохо. Наживешь беду.
— И ты тоже, — ответил я мгновенно и добавил с острым, мстительным удовольствием: — Имей в виду, Гундосый! Блатные ничего пока не знают. Но могут ведь и узнать! А тогда — сам понимаешь…
— Н-ну, что ж, — он насупился, сильно потянул воздух сквозь сцепленные зубы. — В конце концов, погорим оба… Какой с этого прок? Что ты здесь выгадаешь?
— Да в общем-то ничего, — признался я.
— Тогда порешим по-доброму?
— Ладно, — сказал я, — порешим…
— Ну вот и порядок!
Гундосый выплюнул изжеванный окурок, утер рот ладонью, затем сказал, пришептывая и мигая:
— Теперь и в самом деле пора выпить! Только не здесь. Жара, пылища… Вот что, — он хлопнул меня по плечу, — пошли на „малину“! Кстати, познакомлю тебя кое с кем… На всякий случай, давай договоримся заранее: ты из воровской семьи, вырос в притоне. Мать — шлюха, отец — босяк, из старорежимных, из тех, кого раньше называли „серыми“. Согласен?
— Господи, — сказал я, — ты прямо как в воду смотрел; почти все совпадает! Отец когда-то и в самом деле босяковал здесь, был самым настоящим „серым“.
— Тем лучше, — подмигнул Гундосый. — Сын босяка — это красиво! Это звучит!
Воровская малина помещалась на одной из глухих окраинных улиц — в подвале углового двухэтажного здания.
В полутемном этом подвале было прохладно и душно. Синими полосами стлался над головами густой табачный дым. Прерывисто тенькала гитара, и женский голос пел с хрипотцой:
Ты не стой на льду — лед провалится,
Не люби вора — вор завалится.
Вор завалится, будет чалиться.
Передачу носить не понравится.
Хихикая и потирая ладони, Гундосый сказал:
— Гужуются урки!
И потащил меня к столу. Там сидело двое: грузный немолодой уже мужчина с усами в пестрой ковбойке и другой — долговязый, сутулый, с длинным лицом, с уныло поджатыми губами.
— Привет, Казак, — сказал Гундосый. — Когда приехал?
— Утром, — отозвался человек в ковбойке, — с тбилисским, десятичасовым.
— Сделали дело?
— Да не совсем, — поморщился он и тут же спросил, коротко кивнув в мою сторону: — Кто?
— Залетный, — поспешил объяснить Гундосый. — Я его знаю — всю его породу… Честная семья, истинно воровская!
Склонившись к Казаку, он что-то сказал негромко. Слов я не уловил; гитарист в этот момент взял новый аккорд, тронул басы. Под низкими сводами подвала поплыла протяжная мелодия „цыганочки“. И тот же сипловатый голос завел, затянул:
Миленький, не надо, родненький, не надо.
Ой, как неудобно — в первый раз!
Прямо на диване, с грязными ногами,
Маменька узнает — трепки даст.
Плавное течение мелодии внезапно пресеклось, сменилось упругими плясовыми ритмами. Рокот гитары стал суше и звончей. И мгновенно в песню включился новый голос — мужской:
Я не буду, я не стану,
Я не вырос, не достану…
Гитара смолкла на миг. Еле слышно дрогнула одинокая струна. И в звенящей этой тишине призывно и отчетливо отозвалась женщина:
Врешь, ты будешь!
Врешь, ты станешь!
Я нагнусь, а ты достанешь.
— Делай, Марго, — закричали из угла, — давай, Королева! Огня больше, огня… Топни ножкой!
Стремительно зазвучали струны, грянула и рассыпалась дробь каблуков. Там в углу началась беспорядочная пляска… Малина гуляла! Она полна была адского веселья, угара и грохота.
Разворошив седоватые свои усы, Казак вложил в рот два пальца, пригнулся, багровея. И тотчас комната огласилась режущим, разбойничьим свистом.
Сутуловатый и тощий его собеседник (он был весьма метко прозван Соломой) сказал с укоризной:
— Что с тобой, друг мой? — и отодвинулся, потирая ухо. — Ты не на Большой Грузинской дороге. Ты — в обществе. Уймись!
Казак вытер пальцы о рубашку, сказал, покряхтывая:
— Вот ведь что делает, чертова баба! Разве удержишься?
— Да-а, — проговорил кто-то за моим плечом, — хорошо поет Королева. Только вот хрипит — Это зря…
— Ну, не скажи, — возразил Солома. — В этом тоже свой смак имеется. Вся заграница так хрипит. Весь Запад.
— Какая еще заграница? — прищурился Казак. — Откуда ты ее выдумал? Ох, любишь ты, Солома, треп разводить!
— Постой, постой, — сказал Солома. — Поч-чему — треп? Я говорю, как человек искусства, — он поднял палец. — Как старый онанист и ценитель Есенина!
Пока шел этот разговор, Гундосый исчез куда-то и вскоре явился, нагруженный свертками и бутылками, водрузил все на стол и потянул меня за рукав:
— Садись, Чума! Выпьем за все хорошее…
Когда мы приняли по первой порции, Солома поворотился ко мне и медленно спросил, крутя в пальцах стакан:
— Чем промышляешь, малыш?
— Да по-разному, — замялся я.
— С кем партнируешь?
— С Хуторянином и с Кинто.
— Ага, — сказал он одобрительно, — эти годятся. В люди выходят, правила чтут… Что ж, малыш, желаю удачи!
Потом к столу подошла Марго — черноволосая, с мощной, туго обтянутой грудью, уселась подле меня, закинула ногу на ногу, сцепила пальцы на поднятом, заголенном колене.
— Что-то я, мальчики, усталая нынче, — сказала она, потягиваясь всем своим крупным телом. — Хотя, конечно… Вторые сутки глаз не смыкаю…
— Много работаешь, — ухмыльнулся Гундосый.
— Да уж, известное дело, — равнодушно ответила Королева, — немало. А как же иначе?
И, подрожав ресницами, обведя взглядом стол, она легонько толкнула меня локтем:
— Налей-ка водочки, кучерявый.
От выпитого, от усталости, от всех треволнений безумного этого дня меня как-то быстро сморило. Безмерная сонливость овладела мною. Навалясь на край стола, я опустил голову и задремал незаметно.
Какое-то время еще слышался топот, звон посуды, гул голосов. Изредка — и словно бы издалека — просачивались сквозь шум невнятные фразы:
„В Тбилиси, ребята, дело тухлое“.
„Я как старый онанист и ценитель Есенина…“
„Ты с чего это хрипишь, Марго? С перепоя или от сифилюги?“
Потом все спуталось, слилось, подернулось вязкою пеленою.
Последнее, что мне запомнилось, было круглое, облитое загаром колено Марго, раскачивающееся в двух сантиметрах от моего лица.
* * *
Так я вошел в блатное общество!
Приняли меня здесь вполне благосклонно (сын босяка — это красиво!) и с ходу зачислили в разряд „пацанов“ — так на жаргоне именуется молодежь, еще не обретшая мастерства и не достигшая подобающего положения.
По сути дела „пацан“ — то же самое, что и комсомолец. Перейти из этой категории в другую, высшую, не так-то просто. Необходимо иметь определенный стаж, незапятнанную репутацию, а также рекомендации от взрослых урок.
Процедура „возведения в закон“ ничем почти не отличается от стандартных правил приема в партию… Происходит это, как водится, на общем собрании (толковище). Представший перед обществом „пацан“ рассказывает вкратце свою биографию, перечисляет всевозможные дела и подвиги, причем каждое из этих дел подвергается коллективному обсуждению. И если блатные сходятся в оценке и оценка эта положительна, поднимается кто-нибудь из авторитетных урок, из членов ЦК и завершает толковище ритуальной фразой:
— Смотрите, урки, хорошо смотрите! Помните — приговор обжалованию не подлежит.
Впоследствии это произошло и со мной (на Кавказе, в городе Грозном — среди местных майданников). Однако прежде чем я стал законным уголовником, мне пришлось немало поколесить по югу страны…
Самой важной для меня проблемой в ту пору был выбор ремесла, выбор должной профессии.
Законы ремесла
Блатных профессий, в принципе, множество — им несть числа. Но если попробовать все же классифицировать их, нетрудно выделить из общей массы три самых основных вида краж: квартирную, карманную и железнодорожную. В классический этот перечень входит также взлом сейфов и касс.
Начал я, как вам уже известно, с карманной кражи. И потому она стоит в моем списке первой.
Да и вообще, по воровским понятиям, дело это — не из последних, отнюдь нет. Непросвещенные простачки считают карманное ремесло пустячным и незначительным; они исходят здесь из конечного результата… Результат в каждом отдельном случае действительно невелик. Тем не менее в блатной среде ценится не столько этот результат, сколько само искусство.
Карманники — по сути дела — блатная богема! Зарабатывают они не шибко много, зато их деятельность (в отличие от всякой иной) требует особой сноровки, редкостной изощренности и поистине артистического чутья.
Пошатавшись по ростовским малинам, я узнал немало талантливых ширмачей. Название это, как считают многие, происходит от слова „ширма“. Дело в том, что залезать в чужой карман без прикрытия, без ширмы, невозможно, слишком рискованно. Карманник ведь орудует средь бела дня, на глазах у людей.
Таким защитным прикрытием может служить, в принципе, что угодно: фуражка, платок, газетный лист. Некоторые, правда, обходятся безо всяких этих атрибутов, работают, заслоняя одну руку другой. Но как бы то ни было, ширма необходима любому!
Нахичеванский карманник Козел пользовался, например, журналом „Коммунист“, причем складывал и держал его таким образом, чтобы виден был заголовок. В строгом полувоенном защитного цвета кителе, в квадратных очках (с простыми оконными стеклами) и со свежим номером журнала в руках Козел производил на публику довольно внушительное впечатление. Всем своим обликом он напоминал секретаря райкома партии и в итоге действовал на редкость успешно.
Промышлял он, в основном, в магазинах и кинотеатрах; „рабочий час“ его был, таким образом, поздний.
Зато те, кто связан был с трамваями, автобусами или метро, выезжали на дело по утрам, спозаранку, и затем — на исходе дня.
Среди вагонных ширмачей были, между прочим, три воровки — Мымра, Шушера и просто Варька. Они ездили вместе. Работа их отличалась некоторым своеобразием. Традиционную „ширму“ заменяла здесь грандиозная Варькина задница.
Наметив в трамвайной толкучке подходящего фрайера (как правило, солидного, в возрасте, но не слишком старого!), Варька подступала к нему вплотную, поворачивалась тылом и начинала активно прижиматься к нему, тереться… Так она трудилась до тех пор, покуда жертва ее не ослабевала окончательно и не впадала в беспамятство.
Тем временем Мымра и Шушера — обе тощие, жилистые, шустрые, как мыши, — деловито и тщательно обшаривали карманы ошалевшего пассажира.
Скульптурное это Варькино украшение пользовалось среди местного ворья популярностью. О нем даже пелось в частушках! Впоследствии украшение это послужило ей и в другом сугубо личном плане… Но — не будем отвлекаться. Продолжим наш перечень.
К числу прославленных на Юге карманников следует также отнести и виртуозного вора Левку Жида.
Мастер этот был превосходный! С поразительной легкостью и быстротой он мог снять с кого угодно часы, отстегнуть золотые запонки, вскрыть на ходу любую дамскую сумочку. Работая, он походил на фокусника, на циркового иллюзиониста. Да, в сущности, он и был таковым! И все же срывы и неудачи — неизбежные в любом деле — случались и у него. В такие моменты Жид говорил мне с грустью:
— Опять пустой номер вышел… Что поделаешь — не везет! Все время какое-то хамье попадается. Эх, сейчас бы мне богатого спекулянта или шпиона! Самого завалящего… Обожаю шпионов! — и добавлял, лениво посасывая сигаретку: — В нашем деле что плохо? Часто гореть приходится… То по шее дадут, то сволокут в отделение. Потому я и мечтаю о шпионах — с ними легко! Милицию они не любят так же, как и мы. И вообще — люди тихие, запуганные, тележного скрипа боятся… Но, между прочим, всегда при деньгах! — тут он жмурился и вздыхал тягуче. — Идеальные клиенты. Только где их сыскать? Как встретить?
Я понимал: он шутит, кривляется. Но все же в болтовне его имелась одна дельная мысль: карманным ворам действительно „гореть“ приходилось весьма часто. Их беспрерывно то били по шее, то волокли в отделение; это как бы входило в издержки ремесла, и, конечно же, не могло мне понравиться! Тем более что чаще всего попадала в передряги базарная шпана — та самая, с которой я как раз и был непосредственно связан.
Стоило вору заловиться — и сразу же его окружала вопящая, бушующая, остервенелая толпа… И, насмотревшись на все это, я решил подыскать себе ремесло потише, поскромней.
* * *
Вскоре я переметнулся к „слесарям“ — к тем, кто промышляет квартирными кражами.
Здесь у меня сразу нашелся покровитель; это был Казак — тот самый вислоусый и грузный мужчина, с которым я познакомился в заведении Королевы Марго.
Казак работал солидно, по „наводке“; брал только те квартиры, о которых все было известно заранее… Наводчиков у него было множество; в категорию эту входили разного рода рабочие, занимающиеся мелким ремонтом — водопроводчики, столяры, электромонтеры, стекольщики. Постоянно бывая в домах, подолгу застревая там, каждый из них легко мог оценить обстановку, узнать привычки хозяев и распорядок их дня.
Имелись среди наводчиков также и дворники, и кухарки. Особенно ценил Казак кухаркиных детей, страдающих комплексом неполноценности и жаждущих роскошной жизни.
Одного из них он вербовал при мне. Встреча состоялась в ресторане. Казак выставил обильное угощение. Здесь был коньяк, фрукты, икра, шипящий нарзан и пахучий шашлык.
Представший перед нами юнец — узкоплечий, прыщеватый, с огромным кадыком и женскими локонами — наряжен был в длинный (слишком длинный) пиджак и узкие (слишком узкие) брюки. Брюки были перешиты — это бросалось в глаза. Причем он явно зауживал их сам — неумело, аляповато, неровными стежками.
Он присел к нашему столу, сказал „хелло!“, бойко плеснул коньяк в рюмку и поднял ее, разглядывая на свет. И было видно, что он уже пьян — пьян заранее, от одного вида ресторана, от блеска зеркал, цветов, сервировки.
Потом мы толковали о деле. Хозяев, у которых его мать работала, хлыщ этот ненавидел, мать же свою презирал. Он охотно представил Казаку все необходимые сведения.
— Самая лучшая пора, — заявил он, — воскресенье. Хозяева, будь они прокляты, уезжают на дачу. А мать по вечерам иногда идет в кино. Чтобы все получилось наверняка, я сам ее потащу туда. Уговорю! Не отвертится!
Затем он потребовал задаток и получил его сразу же.
Казак вообще платил наводчикам щедро, и не зря. Все его расходы обычно окупались с лихвою!
В сущности, он работал почти наверняка. Фирма его была поставлена на широкую ногу. Вместе с планом очередной квартиры он получал также и слепки со всех ее замков. Среди ворья такими удобствами пользовались немногие.
Гораздо более типичным был обыкновенный „скачок“ — так называется кража, совершаемая наугад, случайно, по вдохновению.
Объектом взлома в этих обстоятельствах может быть любая запертая дверь!
Здесь требуются специальные инструменты — стамеска, коллекция ключей и отмычек, а также стальной, небольшого размера ломик, ласково именуемый „фомкой“.
Ломик этот — изобретение древнее, и распространен он везде — во всех цивилизованных странах… Для взлома он приспособлен идеально! Один его конец остро отточен (в случае надобности он заменяет долото), другой — изогнут и раздвоен, превращен таким образом в гвоздодер; сделано это для того, чтобы срывать „серьги“ — висячие замки — и отжимать дверные створки.
Весь этот слесарный набор (вот откуда общее название ремесла!) весьма тяжел и громоздок; прятать его надо умеючи. Довольно забавно в этом смысле поступал пожилой, благообразного вида „слесарь“ по кличке Гроссмейстер. Он укладывал инструмент в пустую шахматную доску. И спокойно шествовал с ней, не возбуждая ни в ком ни малейших подозрений.
Скокари этого типа работают преимущественно днем. Есть, кроме того, и ночные; практика у них иная. Обильный слесарный инвентарь им не надобен, от него мало проку. (Двери, запертые изнутри на засовы и цепи, в принципе, неприступны.)
В дома по ночам проникают, как правило, через окна. Главная проблема здесь — не замок, а стекло. Его обычно режут алмазом. Но способ этот не лучший. Врезаясь в стекло, алмаз визжит и скрежещет… Гораздо удобнее поэтому не резать, а выдавливать стекло, предварительно налепив на него бумагу, смазанную клеем. (Делается это для того, чтобы не сыпались и не звенели осколки.) Взамен клея можно с таким же успехом применять любой липкий состав. Я знал забавного парня по кличке Морда, который употреблял для этой цели мед или вишневое варенье.
Всякий раз, выходя по ночам на промысел, он прихватывал с собою баночку с вареньем; без сладостей Морда не работал!
Он вообще был изрядный гурман, любил полакомиться и постоянно что-то жевал. Я вижу его, как сейчас; вижу низкий, заросший его лоб, оттопыренные уши, тяжелые, медленно двигающиеся челюсти.
Несмотря на устрашающую эту внешность и поразительную, непомерную физическую силу, Морда был парнем на редкость покладистым, компанейским, каким-то даже тихим.
Силу свою он применял крайне редко; он словно бы сам побаивался ее…
Помнится, мы куда-то ехали с ним в пригородном, битком набитом автобусе. Давка была отчаянная. Я задыхался, обливался потом. Внимательно посмотрев на меня, Морда спросил:
— Жарко?
— Душно, — пробормотал я, — воздуха нет. Нечем дышать.
— Ничего, — сказал он, — сейчас вздохнешь!
Случилось это на остановке. Морда крякнул, поднатужился, сильно нажал на толпу и выдавил ее из дверей автобуса буквально так, как выдавливают из тюбика зубную пасту.
Где- то рядом вскрикнула и запричитала женщина, и тогда он проговорил сокрушенно:
— Опять что-то не то вышло… Переборщил.
Мне было искренне жаль, когда его арестовали. Погорел он глупо. Снова переборщил. И на сей раз — весьма серьезно!
Подвела его, в сущности, все та же пагубная тяга к сластям. Проникнув ночью в большую коммунальную квартиру, Морда по привычке заглянул на кухню (такого случая он не упускал никогда!) и, обнаружив там халву, застрял, увлекся, забыл обо всем.
Он стоял, держа в руках жестяную килограммовую банку, ковырялся в ней и сладко урчал. В этот момент в дверях кухни появился человек — босой, растрепанный, с белыми от ужаса глазами. С минуту он молча смотрел на вора, затем приказал шепотом:
— Руки вверх!
Почему ему пришли на ум именно эти слова? Никакого оружия он при себе не имел, был наг и беспомощен. Произнеси он любую другую фразу — и все бы наверняка обошлось благополучно.
Морда действовал машинально, не задумываясь. Реакция его была стремительной, сила удара страшной. Отступив к окну, он швырнул в противника халвою, попал ему в лоб и убил его.
Грохот рухнувшего тела разбудил остальных жильцов; квартира наполнилась воплями и панической суетою.
Тотчас же во дворе заверещал свисток дворника, ему откликнулись другие. И когда Морда выбрался, наконец, из окошка (оно находилось на втором этаже), его уже внизу поджидали.
* * *
Существует и еще одна особая разновидность взломщиков; зовутся они „тяжеловесами“ и занимаются не квартирами, а магазинами.
Занятие это и впрямь тяжелое, исполненное многих сложностей и большого риска. Крупные магазины (особенно меховые и ювелирные) охраняются весьма тщательно, находятся под неусыпным надзором милиции.
Витрины и двери здесь защищены надежно, забраны решетками, снабжены хитроумной сигнализацией. Преодолеть это нелегко, непросто, но все-таки можно! Я знал немало мастеров, которые умели проникать сквозь любые стены… Один из них (старый эстонец по кличке Каменщик) так буквально и поступал: продалбливал в каменной кладке аккуратную круглую дыру и уносил через нее все, что было ему нужно.
А нужны ему были меха! И за годы своей работы он добыл их во множестве.
Между прочим, стиль его долгое время приводил в растерянность криминалистов; они никак не могли понять, с кем имеют дело, — с матерым, опытным профессионалом или со случайным любителем — штукарем?
Любой уголовник стремится замести свои следы; этот же, наоборот, оставлял их. Оставлял постоянно. Всякий раз на месте преступления, у пробитой в стене дыры, следователи находили орудия, которыми Каменщик пользовался, а также пустые бутылки из-под рислинга и бумажки, в которые он заворачивал еду.
Каменщик делал это сознательно; он как бы бросал вызов милиции, издевался над ней. Нагло демонстрировал свой „почерк“, свою манеру и предлагал: „Ищите!“
Многие урки осуждали его, называли пижоном. „С уголовным розыском шутки шутить нельзя“, — говорили ему. И не зря говорили!
Криминалисты сообразили в конце концов, что имеют дело не с новичком (слишком уж ловко он работает), приняли вызов и, проявив усердие, собрали немало улик.
Сделать это было им, в общем, нетрудно. Бутылки из-под рислинга, например, свидетельствовали о том, что преступник — человек не русский. Какой русский станет употреблять вместо крепких напитков эту кислятину, да еще в ночные зябкие часы?! Постоянство привычек указывало на преклонный возраст. Отпечатки подошв позволяли начерно определить его рост, а диаметр пробиваемых отверстий — всегда один и тот же — ширину плеч. Судя по табачному пеплу, вор курил трубку и употреблял „Золотое руно“.
Все эти, а также многие другие приметы помогли сыщикам воссоздать его облик. Пришла в движение вся гигантская милицейская машина. И вскоре Каменщик оказался за решеткой.
Взят он был все же не с поличным, а по подозрению — на основании одних только примет. Самой главной, необходимой для суда улики не было… И вероятно, он мог бы еще отвертеться, если бы не его любовница.
Последняя похищенная им партия меховых шуб хранилась у нее. И вот вместо того, чтобы передать товар „барыгам“ — скупщикам краденого, вздорная эта баба решила сама заняться торговлей. Поскупилась, не захотела ни с кем делиться барышами! Выползла на черный рынок, и немедленно была задержана властями.
Так пресеклась карьера знаменитого тяжеловеса!
В общем-то все такие карьеры оканчивались достаточно скверно. Иногда конец их был поистине трагическим…
Мне довелось познакомиться на Кавказе с тремя ребятами, специальностью которых были ювелирные магазины. Дела свои они обделывали аккуратно и даже, я бы сказал, изящно.
Особенно интересной была последняя их работа.
Через сведущих лиц ребята узнали о том, что в один из городских магазинов завезена крупная партия золотых изделий и дамских брошек с драгоценными каменьями. Было решено эти ценности взять.
Задача им досталась нелегкая. Магазин находился в центре города, в людном месте. С одной стороны к нему примыкала почта, с другой — ресторан. С наступлением сумерек здесь выставлялся милицейский пост. О ночной работе поэтому речи быть не могло, да и о дневной, в принципе, тоже…
Оставался вооруженный налет. Но дело это было чересчур опасным; за углом, в соседнем переулке, помещалось районное отделение милиции.
Да и специалисты эти (двое молодых армян и мингрельский еврей) были люди культурные, не любящие грубости, избегающие всякого шума.
И они решили свою задачу — решили ее весьма остроумно!
В середине дня, согласно общему правилу, ювелирный магазин закрывался на обед. Продавцы запирали дверь, опечатывали ее (навешивали на замок сургучную пломбу) и отправлялись в кафе напротив — на другую сторону улицы.
Защитная сигнализация днем не действовала, однако продавцов это мало заботило; они могли спокойно отдыхать и закусывать, наблюдая за своим магазином через окно.
Однажды перед кафе остановилась огромная грузовая машина. Остановилась и напрочь загородила собой окно. Случилась, очевидно, непредвиденная поломка. Чертыхаясь, шофер вылез из кабины и начал копаться в моторе. Копался он так минут двадцать.
Наконец мотор заработал. Гремя и лязгая, машина отошла. Взорам людей открылась улица, дом напротив, дверь магазина… И все увидели, что дверь эта — без пломбы!
Двадцати минут вполне хватило для взломщиков; у них все было продумано и учтено заранее. Одетые в синие халаты (такие же, как у продавцов), они вышли из ресторана, легко открыли магазинную дверь. Уложили золото и брошки в простые хозяйственные сумки. Безбоязненно вынесли их наружу и, погрузившись в машину, скрылись.
Добра было украдено много — на огромную сумму! Однако воспользоваться им ребята не смогли.
История эта путаная, мрачная… Известно только, что машину их (угнанный со стройки самосвал) сутки спустя обнаружили за городом, на развилке пути. А в пяти километрах от этого места — в лесу, на заброшенной даче — погоня нашла их трупы.
Все они, включая шофера, были убиты выстрелами в упор. Кто их перестрелял там? Куда подевалась добыча? Это и поныне остается неясным.
Предположение о том, что они прикончили друг друга в ссоре во время дележа, представляется сомнительным. Не такой это был народ. Кроме того, на даче не было заметно никаких следов борьбы, а в случае ссоры без этого бы не обошлось. Трупы располагались возле стола, на котором мирно покоилась бутылка коньяка, стояли недопитые стаканы.
Был, несомненно, кто-то еще, появившийся неожиданно, тут же расправившийся с ними и безнаказанно унесший драгоценные сумки.
Некоторые блатные высказывали вполне резонную мысль, что сделать это могли сами милиционеры — те, кто участвовал в погоне.
Первыми набрели на лесную дачу трое местных лягавых грузин. Вот они-то, вероятно, и постарались. Отобрав у ребят похищенное добро, увидев, какую ценность оно представляет, лягавые решили присвоить его себе. А для этого им в первую очередь необходимо было ликвидировать самих похитителей. Дело, таким образом, безнадежно запутывалось, концы уходили в воду.
Что ж, возможно, так оно все и произошло. А может, и нет, кто знает? Преступная жизнь темна; в практике взломщиков случается всякое… И, поразмыслив, я понял: эта профессия не для меня.
Если работа карманников связана со скандалами и публичным срамом, то „слесарное“ ремесло слишком уж часто пахнет кровью.
Выбор сделан
Исполненный сомнений и маяты, я однажды встретился с Соломой. (Старый этот „ценитель Есенина“ был, между прочим, известным медвежатником — специалистом по сейфам.) Мы разговорились. И я небрежно, как бы в шутку, высказал желание пойти к нему в ученики… Он усмехнулся в ответ, затем сказал, прихлебывая пиво:
— Что ж, если нравится — ради Бога. Только имей в виду, малыш: занятие наше непростое. Учиться надо долго. Я, например, начинал еще при покойном Маркелыче. Слышал о нем? Строгий был старик, царство ему небесное, ох, строгий. Большой мастер! Он меня восемь лет вот так держал, — Солома с хрустом стиснул костлявый свой кулак. — К самостоятельной работе не допускал ни в какую. Восемь лет! Приучайся, говорил, постигай. Я тебя, говорил, в инженеры готовлю. И прав был, конечно! Сейфы колупать, мой милый, это не на базаре вертеться, — и, взглянув на увядшее, вытянувшееся мое лицо, добавил добродушно: — Так что подумай, малыш, пораскинь мозгами. Если подойдет это дело — скажешь! Толковый пацан мне, в общем, нужен.
Нет, дело это явно не подходило мне; восемь лет учебы равнялось, по существу, двум институтским курсам.
— Слишком долго, — заявил я с огорчением, — слишком хлопотно! Затратить все эти годы на ремесло, а потом, в один день, погореть, попасть за решетку…
— Да-а-а, — протянул он задумчиво. — Медвежатников, кстати, не щадят, дают им полную катушку. Только что ж об этом… Такая наша жизнь. Сейчас мы с тобой пивком наслаждаемся, природой дышим, а завтра — в любой момент небо в крупную клетку увидим.
И он, вздохнув, процитировал есенинские строки:
Затаилась Русь в Мордве и Чуди.
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Все они убийцы или воры…
Мы сидели в привокзальном скверике в холодке, в тенистом и замусоренном пивном павильоне. Был полдень — тихий час. Посетителей в пивной почти не было, только за дальним столиком, в углу, копошилась компания калек, нищенствующих в здешнем районе. Багровые лица монстров мелькали там: перекошенные пасти, пустые глазные впадины, провалившиеся носы и покрытые струпьями щеки.
Нищие играли в кости, пили и сквернословили.
— Вот кто промышляет почти без риска, — покосившись на них, пробормотал Солома.
— У них ведь и промысел такой, — сказал я, — нищенский.
— Да нет, — возразил Солома, — они не только просят, они иногда и сами берут. И как еще берут-то! А на суде им всегда снисхождение; инвалиды, мол, страдальцы, герои войны…
Калеки загомонили вдруг, задвигались и, гремя костылями, потянулись гурьбою к выходу.
Задержавшись у нашего столика, один из них — горбатый, низенький, с темным старушечьим лицом — почтительно окликнул медвежатника. Они о чем-то поговорили быстро, перекинулись невнятными фразами. Смысл я почти не уловил, понял только, что речь идет о какой-то конторе, о плане помещения, сделанном нищими по просьбе Соломы.
— Зайди на Богатьяновскую, к Генеральше, — уходя, сказал Горбун, — все там лежит, тебя дожидается.
— Но имей в виду, — Солома поднял палец, — главное — точность!
— Да уж будь покоен, — проговорил, подмигивая, Горбун. И в этот миг он почему-то напомнил мне ведьму, которую я видал когда-то в армии, в глуши Полесских лесов.
— Жутковатый тип, — сказал я, провожая его взглядом.
— Этот еще ничего, — заметил Солома, — этот миляга.
А вот у него приятель был — так он в прошлом году на весь Ростов прогремел. Мокрым делом занимался! Подлавливал по ночам пьяных и душил их бинтами.
Я уже слышал про этого душителя, но неотчетливо, вскользь. И теперь попросил Солому рассказать о нем поподробнее… Беседе нашей, однако, помешал Гундосый.
Он явился загорелый, обветренный, пропыленный — только что с поезда! По обыкновению суетясь и мелко хихикая, сообщил, что приехал из Ташкента, что собирается теперь на Кавказ…
— Начинается курортный сезон, — пояснил он, — для майданников — самая золотая пора! Самая урожайная!
Он шумно высосал пиво из кружки. Отдулся медленно. Слизнул пену с губ. И затем, уставясь на меня, сказал:
— Слушай, Чума, едем со мной, а? Посмотришь, как майданники живут. Я давно хотел тебе предложить. Ну что ты на своем базаре видишь? Толкучка, грязь, суета… Скучно, старик! А у нас житуха веселая, все время на колесах, в дороге. Завтракаем в Ташкенте, ужинаем в Баку.
Дорожная эта поездная жизнь показалась мне заманчивой; она пахла романтикой и новизной.
Мы ударили по рукам и договорились о точной дате отъезда.
Гундосый подозвал официанта, заказал еще пива и по сто пятьдесят граммов водки на каждого. Мы дружно сдвинули стопки. Затем Солома сказал, потягиваясь и поправляя узел галстука:
— Пойдемте-ка, ребятки, на воздух! Надоело мне в этом гадюшнике…
Весь этот день и вечер мы провели вместе; шатались по городу и пили еще. Потом (уже в сумерках, накануне ночи) отправились на Богатьяновскую, к Генеральше.
* * *
В каждом крупном городе страны имеется блатной район — свое „дно“.
В Тбилиси, например, это Авлабар; в Одессе — Пересыпь и Молдаванка; в Киеве — Подол; в Москве — Сокольники и Марьина Роща… Средоточием ростовского преступного мира является с незапамятных времен нахичеванское предместье, а также Богатьяновская улица.
Улица эта знаменитая! Издавна и прочно угнездились тут проститутки, мошенники, спекулянты. Тут находится подпольная биржа, черный рынок. И мало ли еще что находится на экзотической этой улице! Она исполнена своеобразного колорита и овеяна легендами. О ней сложено немало забавных частушек и песен. „На Богатьяновской открылася пивная, — сообщается в одной из таких песен, — где собиралася компания блатная. Где были девочки Маруся, Рита, Рая. И с ними Костя, Костя-шмаровоз“. (Шмара — по-блатному — своя баба.)
Блатные компании собираются здесь во множестве! Для этой цели существует — помимо пивных — немало укромных мест; всякого рода ночлежки, потайные притоны и ямы.
„Ямами“ называются дома, где орудуют скупщики краденого — „барыги“. Есть у этих скупщиков и другое, библейское прозвище — „Каины“. Мне оно кажется гораздо более точным.
* * *
„Яма“, в которую мы забрели, принадлежала величественной даме — генеральской вдове. Вдова владела собственным домиком: небольшим четырехкомнатным особняком, доставшимся ей по наследству от мужа, крупного армейского снабженца, скончавшегося во время Отечественной войны.
Расположен был особнячок удобно, в глубине двора, среди зарослей сирени. Двор окружал высокий забор; помимо главного входа здесь имелись еще и боковые калитки, выводящие в соседние переулки. Через одну из таких калиток мы и проникли в сад.
— Все предусмотрено, — бормотал Солома, ведя нас к дому и разгребая на ходу влажные, тяжело и сладко пахнущие кусты, — все сделано с умом. И главное — со вкусом…
Он сорвал веточку сирени, понюхал ее. И словно бы даже всхлипнул от умиления:
— Классная женщина. Она вам, ребятки, понравится. Прирожденная уголовница! К тому же еще и начитана, культурна, — Солома вздохнул. — Эх, не был бы я онанистом…
Он угадал: вдова нам понравилась!
Дебелая эта рыхлая дама в кружевной пелерине, в шелестящем шелковом платье приняла нас радушно и угостила превосходной домашней наливочкой.
— Ежели не спешите, — сказала она с улыбкой, — оставайтесь ужинать! Будут блины со сметаной и хорошие девушки…
После ужина я выбрался во двор. Зажег папиросу, медленно обошел вокруг дома и остановился, прислонясь к стене, бездумно прислушиваясь к шорохам ночи.
Я стоял под окошком, раскрытым и занавешенным шторами. Зеленоватый мутный свет проникал сквозь ткань и мягко расплескивался по траве и кустам.
Внезапно сирень посветлела, сделалась ярче, подробно и выпукло проступили из полумрака густые зернистые гроздья. Я поднял голову и увидел в окне мужскую незнакомую фигуру.
Отодвинув штору, кто-то разглядывал меня; разглядывал пристально, настороженно…
Был он немолод и лысоват, в железных очках, с запавшими щеками, с неряшливой и жидкой бородкой. Поскребывая ее ногтями, он погодя спросил стесненным, сдавленным шепотком:
— Вы кто? Вы из этих… Из уркаганов… Да?
— Из этих, — сказал я.
Вопрос показался мне странным, да и тон, каким он был задан, тоже. Он никак не вязался с обстановкой, с характером всей этой „ямы“.
Хотя, с другой стороны, — подумал я тут же, — стиль здесь особый, замысловатый… Возможно, это кто-нибудь из друзей Генеральши, такой же, как и она, „начитанный“ жулик?!»
И я, в свою очередь, спросил, придвинувшись к окну:
— А вы кто?
— Это неважно, — проговорил он быстро, — не имеет значения. — И потом, усевшись боком на подоконник, добавил: — Закурить есть? Будьте так добры…
— Найдется, — ответил я и протянул ему пачку «Беломора».
Он торопливо вытряхнул из пачки папиросу и долго прикуривал, ломая спички зыбкими, вздрагивающими пальцами. Наконец задымил, затянулся жадно и сказал, остро вглядываясь в заросли сада, в сырую, шевелящуюся тьму:
— Не спится. Да и как уснешь? Все время кто-то ходит, дышит, шуршит… Вот сейчас — слышите?
Остроугольное, исполосованное продольными морщинами лицо его кривилось и подергивалось, глаза были расширены; там, в глубине их, не было видно никакого движения мысли — только страх, один только страх, тоскливое и болезненное смятение.
— Слышите, слышите! Вон там — слева, у калитки… Вам не кажется?
— Нет, — сказал я, — не кажется. Да кого вы, собственно говоря, так боитесь?
— Их, — ответил он.
— Кого — «их»?
— А вы будто не понимаете? — прищурился он, поправляя очки.
— Чепуха, — отозвался я, — здесь место надежное. Все сделано с умом и со вкусом.
— Ну по поводу вкуса можно было бы поспорить, — пробормотал он. — Да это, в общем, несущественно. А вот насчет ума — что ж… Ума у них тоже хватает, можете мне поверить! Там, в органах, не дураки работают. Нет, не дураки. Я знал многих дельных чекистов, да и самого Феликса Эдмундовича встречал когда-то.
От этих его слов мне стало как-то не по себе. И я сказал, испытывая растерянность и глухое смутное раздражение:
— Давайте, в конце концов, объяснимся… Что-то мне непонятно, кто вы такой, черт возьми?
— Не знаю, — вздохнул он, теребя бородку. — Это мне и самому непонятно.
— Вы что, — спросил я тогда, — меня, что ли, боитесь?
— Вас? — он протер очки, наморщился, опустил брови. — Нет… А впрочем… Я всех сейчас боюсь. И себя самого — тоже!
Он рывком загасил окурок, обвел взглядом помраченный сад и с треском захлопнул окошко.
* * *
Так, случайно, встретился я с любопытным типом: с опальным коммунистом, бежавшим от бериевских репрессий и скрывающимся в уголовном подполье Ростова.
Генеральша кое-что рассказала о нем. Человек этот (старый партиец, приятель покойного ее мужа) работал в Донбассе в угольном тресте и занимал там немалую должность, был замполитом — заместителем управляющего трестом по политчасти. Должность свою он исполнял старательно… Однако это не уберегло его от беды! Узнав, что на него заведено «дело» и что ему, возможно, грозит арест, он не стал, как другие, дожидаться прихода чекистов, не захотел испытывать судьбу. Он бросил дом, семью, работу — бросил все! — и исчез, спасся бегством. На что он рассчитывал? Трудно сказать. Активного политического подполья в Советской стране не существует — он это знал. Надежных друзей у него не было, сбережений тоже. А воровать он не мог и не хотел. И в результате, поскитавшись по Северному Кавказу, проев последние деньги и обносившись вконец, он очутился на ростовской товарной станции. Там его и подобрали блатные — изможденного, больного, умирающего с голоду. Некоторое время он отлеживался в одном из нахичеванских притонов, а затем перебрался сюда.
— С тех пор он здесь и живет, — сказала Генеральша, — прячется, всего боится, вечно сидит взаперти. Странный человек! Иногда мне кажется, что он сходит с ума.
— Наверное накладно держать такого нахлебника? — поинтересовался Гундосый.
— Ничего, — улыбнулась она, поправляя кружевную свою накидку, — не объест. Да и кроме того, мне иногда подбрасывают деньжат специально для него.
— Кто же? — удивился я.
— Ваши ребята, — сказала она. — Кто же еще? Блатные.
— Но почему?
— Люди ведь не без сердца, — резонно ответила вдова, — жалеют! Видят: некуда бедняге податься. И потом… — она помедлила, дымя сигареткой. — Почти у каждого, если вдуматься, есть в семье свои репрессированные, взятые за политику. Один потерял родителей, другой — дальних родственников. Глядя на этого, каждый, вероятно, думает о своем…
— Что ж, — сказал я, думая о своем. — Раз такое дело… Мы тоже не без сердца!
Я достал несколько кредиток и швырнул их на середину стола. Ко мне сейчас же присоединился Солома.
Отсчитывая деньги, старый медвежатник проговорил с усмешечкой:
— Жалко мне этих политических. Власть их гнет, в порошок перемалывает, а они… Ничего они не могут, ни к чему неспособны. Только слова говорить горазды; это, конечно, неплохо. Но иногда ведь нужны и дела!
— Вот, вот, — подхватил Гундосый, — ты правильно сказал. Нужны дела.
И он наотрез отказался внести свою долю.
— Этот замполит, я вижу, неплохо устроился, — заявил он гнусаво, — сидит себе на всем готовом, как мышь в кладовой… Нет, братцы, так не годится! Да с какой стати я должен его содержать? В честь чего? Мне гроши даются ведь не задаром, я за них ежемесячно свободой рискую, шею свою — вот эту! — под хомут подставляю… Пущай и он тоже пошустрит, постарается!
— Но если он неспособен? — возразила вдова. — Он человек жалкий, совестливый, не от мира сего…
— Красть он, значит, неспособен, — сказал, сужая глаза, Гундосый, — а деньги от воров способен брать — так, что ли? Это ему совесть позволяет, так? Нет уж, пущай выбирает что-нибудь одно.
Поезда двадцатого столетия
Итак, я стал майданником — приобщился к пестрому племени железнодорожных бродяг!
Племя это обширно и многообразно. Здесь так же, как и в любой преступной среде, существует немало различных категорий. Среди майданников есть, например, такие, кто орудует преимущественно на вокзалах — в толчее, в часы посадки. Основной добычей являются тут чемоданы (углы) и корзины (скрипухи). Жаргонные эти определения весьма точны: чемодан ведь и в самом деле состоит из острых углов, а корзина — скрипит…
Похищают эти вещи по-разному. Один из самых остроумных и надежных способов — так называемый «дуплет».
Для этой цели употребляется фальшивый чемодан; специальный полый каркас, обтянутый сверху дерматином или кожей. Стоит только какому-нибудь пассажиру опустить багаж на пол и отвернуться хотя бы на миг — и тотчас же возле него появляется вор. Ловко накрывает чужой чемодан своим — фальшивым. И спокойно, не торопясь, уносит добычу. Уносит се, в сущности, на глазах у потрясенного ротозея!
Вообще вокзальные эти кражи — характерная особенность российского дорожного быта! Существует старая притча об одессите, вернувшемся в свой город из многолетних странствий. Сойдя с поезда и поставив на землю чемоданы, он говорит в растерянности: «Как все изменилось вокруг! Не узнаю Одессы». Затем озирается и замечает, что вещи его исчезли… И тогда восклицает — почти с умилением: «Вот теперь, моя родина, я тебя узнаю!»
Я сказал о «дорожном быте» не зря; Россия по сути своей страна кочевая. Кочевая, как встарь, как и в древности. Великая и мятущаяся, она вся в пути! Она живет на вокзалах, ютится под гулкими бездомными сводами. Дремлет там и бесчинствует. Молится и сквернословит. Взыскует истину, и грешит, и ворует.
Я отчетливо ощутил российский этот дух во время своих скитаний. И тогда же зазвучали, забрезжили в душе моей образы, которые потом воплотились в таких стихах:
Я б судьбу свою не досказал,
если б я не вспомнил про вокзал!
Светофоры, крик перронов —
это века беспокойного приметы.
Время беспокойное связало
наши судьбы с суетой вокзала.
Ом, как сердце, бодрствует всегда.
Бьется он тревожно и бессменно.
По просторам, по железным пенам,
разгоняет — гонит поезда.
И струятся, словно кровь державы,
красные товарные составы.
По суставам рельс, по ребрам шпал,
катится грохочущий металл…
И летят, колесами куют,
сквозь сырой туман да горький ветер
поезда двадцатого столетья;
кочевой, обветренный уют!
* * *
Работа поездного вора, в основном, ночная. Взяв билет и погрузившись в поезд, майданник дожидается того мгновения, когда пассажиры уснут. Затем он обчищает их и скрывается, исчезает из купе на каком-нибудь полночном полустанке.
Брать билет, впрочем, необязательно. Каждый майданник имеет при себе специальные железнодорожные отмычки; они называются «выдрами» и дают возможность проникать снаружи в любой пассажирский вагон.
Большинство поездных воров поэтому предпочитает ездить не в самом вагоне, а под ним (в «собачьем ящике») или же наверху, на крыше.
Там хорошо — наверху! Вольготно и весело. Упруго посвистывает ветер, мигают и кружатся по сторонам стремительные огни.
Огни клубятся и смешиваются с ночными светилами, и, глядя на них, порою кажется, будто летишь в пустоте, посредине звездного неба.
Вагонные крыши, однако, пригодны не только для созерцания. Существует еще одна особая разновидность майданников, работа которых связана именно с крышами! Я имею в виду тех, кто занимается не пассажирскими, а товарными поездами.
Поезда эти окрашены в кирпично-красный цвет (помните: «струятся, словно кровь державы, красные товарные составы») и на воровском жаргоне именуются «краснухами».
Краснушники имеют дело с миллионными ценностями. Но добывать их не так-то легко! Вскрывать пломбированные, надежно охраняемые грузовые вагоны приходится, как правило, на полном ходу.
Зацепившись за вагонную крышу стальными крючками — «кошками», поездные эти виртуозы (они всегда работают в паре, как альпинисты, страхуя друг друга) осторожно спускаются по канату к дверям, открывают их и, проникнув внутрь, сбрасывают похищенный груз под откос.
А затем и сами спрыгивают туда же — в ночь, в хлесткий ветер, в туманную, воющую мглу.
И вот этот момент — момент прыжка — самый рискованный в их работе, самый ответственный и страшный.
Краснушники зарабатывают хорошо, но живут, как правило, недолго…
Впрочем, с определенным риском связаны все поездные профессии. В принципе, любому майданнику приходится время от времени прыгать с поезда, спасаясь от преследования… Один из моих приятелей, не рассчитав прыжка, ударился однажды о телеграфный столб. Я до сих пор помню его лицо — раздробленную, скошенную челюсть и вытекшие глаза.
Вспоминается мне и другой случай.
Мы сидели на крыше вагона с Гундосым и еще с одним парнем по кличке Копыто.
Был вечер — прозрачный и ветреный. Наш поезд (экспресс «Москва-Ростов») приближался к Воронежу. Вокруг по обе стороны полотна кружились синие, спеленутые сумраком степи. Ранние жидкие звезды брезжили над нею. И вдалеке, на горизонте, текла и гасла мутная тоненькая полоска зари.
— Хорошо все-таки, — сказал Копыто. — Люблю, братцы, вот так — на крыше… Просторно! И дышится легко!
Он поднялся, озираясь и щурясь. Потом поворотился к ветру спиной. И, стоя так, начал закуривать не спеша.
Я лежал на спине, подложив под голову руки. Внезапно надо мною, затмевая млечные огни, промелькнула решетчатая тень виадука. И тотчас раздался короткий, сдавленный крик. По ресницам моим и щекам хлестнули тугие капли крови. Я стремительно привстал, опираясь на локти, отыскивая взглядом Копыто… И не увидел его, не нашел.
Он исчез, сбитый низким пролетом моста. И там, где минуту назад он стоял, дымилась теперь его папироса; она катилась, гонимая ветром. А поодаль, метрах в трех от этого места, темнела, засевая крышу вагона, обильная багряная роса.
Вот и все. Подобных случаев я мог бы припомнить множество. Но, честно говоря, мне как-то не хочется этого делать. Любое воровское ремесло, как я убедился, всегда в конечном счете пахнет кровью.
Профессия майданника в этом смысле мало чем отличалась от других! И единственное, что меня утешало, это то, что кровью здесь пахнет, в основном, не чьей-нибудь, не чужой, а своей…
Под колесами
Гундосый оказался неплохим учителем. Он был терпелив и внимателен. И в конце концов я как-то внутренне примирился с ним, успокоился, помаленьку стал забывать былую нашу вражду.
Для вражды этой, рассуждая здраво, не было теперь никаких оснований. Связанные общей тайной, мы с ним, по сути дела, давно уже являлись единомышленниками, а не врагами; соратниками, а не противниками. И Гундосый упорно доказывал мне это, доказывал не только в работе, но и в повседневном быту: ссужал деньгами, опекал, пестовал и постоянно подчеркивал при других дружеское, доброе ко мне отношение.
Блатных ребят, кстати сказать, на ростовской дороге было множество; они кишели там повсюду, как тараканы, встречались на каждом шагу. Соединяющая Москву с Закавказьем трасса эта была, пожалуй, одной из самых бойких на юге страны! Здесь я провел с Гундосым все лето и начало осени.
А затем, с первыми холодами, мы избрали новый маршрут.
Майданники — истинные бродяги, за что я, собственно, их и предпочел. Они вечно кочуют по стране, колесят по железным ее бескрайним дорогам. Бывают повсюду, но нигде не застревают надолго.
Они живут, как птицы. Лето проводят в умеренной полосе — в Центральной России, на Украине и на Дону. Поздняя осень гонит их на Кавказ, к побережьям Черного моря. Весну они, как правило, встречают в Средней Азии, в Туркмении и Узбекистане, у подножья Хоросанских гор, вблизи афганских границ. Климат там благодатный и урюк зацветает рано, в ту пору, когда над Россией еще вовсю дымятся и стелятся сумрачные снега.
Ну а потом все повторяется заново! С наступлением лета майданники вслед за косяками журавлей устремляются к северу, «возвращаются на круги своя».
В этом году осень выдалась на Дону ранняя и ненастная.
И гонимая ею поездная шпана поспешила откочевать в солнечный город Баку. Туда же вскоре отправился и я с моим другом, но пробыли мы на бакинской трассе недолго.
— Шумно здесь стало, неуютно, — как-то раз сказал он, сидя со мной в баладжарской шашлычной. — Махнем-ка, старик, дальше — к Ирану, к Турции! В Гарадиз, в Ордубад… Поглядим на всамделишный, настоящий Восток, а? Не возражаешь?
Нет, я не возражал. Поглядеть на настоящий Восток мне хотелось давно, еще с детства.
* * *
Восток оказался пыльным и скучным.
Однообразная, желтая, выжженная равнина тянулась за окнами вагона — и не было ей конца! В литературе все это выглядело гораздо импозантней и красочней; со страниц детских моих книг Восток представал загадочным, ослепительно ярким… Здесь же, у рубежей Ирана в районе древних караванных путей, ярким было только солнце. Одно лишь солнце! Слепящее и яростное, оно затопляло зноем пески; оно проникало всюду, проклятое это светило! От него невозможно было укрыться, нечем было дышать!
Горячий горький ветер бил в открытые окна, обжигал наши лица и засыпал все в купе хрустящей порошей. Не выдержав духоты, мы с Гундосым перебрались в тамбур, а затем на крышу. Но вскоре вынуждены были слезть и оттуда — металлическая кровля вагона напоминала раскаленную сковороду.
Тогда Гундосый вспомнил о «собачьем ящике».
— Под вагоном-то, наверняка, прохладно, — заявил он, — да и кроме того, завтра — Гарадиз. А там, учти, начинается пограничная зона! Режимный район! Возможно, будут проверять документы. Так что лучше уж поберечься заранее. В «собачьем ящике» кто нас будет искать?
— Режимная зона, говоришь? — удивился я.
— Ну да, — пожал он плечами. — Граница-то ведь рядом!
Он ткнул пальцем в сторону Ирана; там клубилось желтое малярийное марево, курчавились заросли карагача и верблюжьей колючки. Впервые в жизни я видел чужую землю, и она была так же скудна, как и моя.
— Но если здесь проверяют, — сказал я хмуро, — какого черта мы сюда притащились? И почему ты заранее не предупредил?
Он не ответил, что-то буркнул невнятно. И, опустив глаза, начал поспешно разжигать папиросу.
Разговор этот происходил перед вечером на пустынном разъезде. Покуривая и переминаясь в песке, мы стояли возле головного вагона. Жуя папиросу и жмуря глаза от дыма, Гундосый погодя спросил:
— Ты ездил когда-нибудь под вагонами? Знаешь, что такое «собачий ящик»?
— Нет, — сказал я, — слышал, конечно, много… Но самому не доводилось.
— Ну вот, теперь доведется!
Ладно, — сказал я. — Но все же почему ты не предупредил заранее?…
— Почему, почему, — ворчливо проговорил он и отмахнулся с досадой. — Откуда я знаю, почему? Забыл, не подумал… Чего ты цепляешься? В конце концов, ты ведь и сам бы мог догадаться, если поезд идет вдоль кордона…
Заглущая его, протяжно и хрипло рявкнул гудок паровоза. Гундосый сейчас же пригнулся, что-то высмотрел под вагоном и сказал:
— Есть такое дело, порядочек. Айда за мной! — и, покосившись на меня, мигнув ободряюще, ловко юркнул под колеса.
* * *
Что же такое пресловутый «собачий ящик»?
Это и в самом деле обыкновенный ящик, в котором поездная бригада хранит необходимый в дороге ремонтный инвентарь.
Находится он под вагоном, не под каждым — под некоторыми, как правило, в голове состава, в центре и в хвосте… И открывается снаружи, со стороны перрона.
Забраться туда, конечно, нетрудно и ехать там удобно. Однако опытные бродяги предпочитают этого не делать.
Расположившийся в таком ящике майданник рискует не жизнью, а свободой… Разомлевший и сонный, он в любую минуту может быть обнаружен случайным кондуктором, поездным рабочим, а иногда и милиционером. Дорожная милиция на остановках заглядывает туда нередко!
Гораздо надежнее, хотя и рискованней, пользоваться данным устройством не с наружной, а внутренней стороны. Там, под вагоном, «собачий ящик» образует выступ, на котором можно с грехом пополам продержаться несколько остановок.
Есть и еще одно приспособление, которым постоянно пользуются бродяги. Оно также называется «собачьим ящиком», именно о нем пойдет здесь речь.
Под днищем многих вагонов имеется продолговатая металлическая коробка, назначение которой, честно говоря, до сих пор остается для меня загадкой. Но дело ведь не в этом! Коробка имеет в длину что-то около двух метров, а в ширину — сантиметров пятьдесят. Она отлично приспособлена для езды, вот что самое главное!
Одному на этой коробке вполне удобно; двое помешаются с трудом! В тех случаях, когда едут вдвоем, людям приходится лежать на боку, вплотную, тесно прижавшись друг к другу, словно столовые ложки…
Причем тот, кто находится в глубине, должен все время заботиться о товарище — придерживать его и оберегать от падения; ведь тот, по существу, наполовину висит. Висит над землей, над звенящими рельсами!
* * *
Нырнув под вагон, Гундосый нашарил в полутьме металлический этот яшик, взобрался на него и протянул мне руку. Ладонь его была потной, скользкой и какой-то непрочной. И может быть, именно потому я постарался ухватить ее посильней.
— Ты чего это? — сказал он насмешливо. — Чего корябаешься-то? Или боишься?
— Н-нет, — ответил я и невольно расслабил хватку. — Нет, не боюсь. С чего ты взял?
И в этот самый момент тяжело и словно бы нехотя сдвинулся с места поезд. Он дернулся, ожил и задышал. Шевельнулись и зачавкали блестящие от мазута рычаги. Короткий гром прошел по составу.
Я рванулся к Гундосому… и поник, ослепленный ударом. Он ударил меня ногой в лицо — жестоко, со всего размаха. И потом еще раз. Я упал, но все же руки его не выпустил.
Гундосый отдирал мои пальцы, ломал их и грыз, и брызгал слюной. И сквозь железный грохот и лязг до меня долетел гнусавый судорожный его голос:
— Ты думаешь, зачем я тебя завез сюда — Восток показать? Ух ты, фрайер. Я тебя здесь похороню, и никто ничего не узнает! Ни одна душа! Дорога эта пустая, блатных нет. Ну а в кодле потом я всегда оправдаюсь. Кодла знает: мы с тобой друзья… Никому и в голову не придет… Я же ведь твой учитель, благодетель! Вот теперь я тебя научу, собаку. Я давно этого момента ждал! Давно. Все лето.
Он бормотал, захлебываясь и ломая мне пальцы, а я в это время тащился по шпалам — между рельсами.
Рядом с моей щекой, почти вплотную, поблескивало колесо. Оно пахло пылью и нагретым металлом; оно вращалось медленно, прокручивалось с хрустом…
И тогда я взмолился, вспомнил о Боге. Первый раз в жизни вспомнил я о Нем по-настоящему:
— Господи, — воззвал я, плача, — Господи! Помоги мне, спаси меня, сохрани…
* * *
И внезапно (не знаю уж по какой причине!) поезд замедлил ход.
Опять — надрывно и далеко — прозвучал гудок. Лязгнули, сшибаясь, буфера, блеснули и замерли колеса.
Все это время я цепко держался за Гундосого — держался, несмотря ни на что. Я словно бы закостенел, впал в странное беспамятство и напрочь утратил ощущение боли… И если бы я даже угодил под колеса и был раздавлен ими, все равно я ни за что не выпустил бы, не оставил ненавистной этой руки!
Когда вагон внезапно затормозил, я вдруг очнулся. Уперся ногами в шпалу и приподнялся стремительно.
Лица наши сблизились. Я увидел в полутьме Гундосого. И он тоже увидел меня… И забился, задергался, раздирая в крике слюнявый свой рот.
Положение его, надо сказать, было в этот момент незавидное. Он ведь лежал на боку! Одна его рука бездействовала, была как бы скована, другая же намертво зажата в моей горсти.
И я тотчас же воспользовался этим.
Левой, свободной рукой я схватил Гундосого за горло, сдавил и рванул его на себя.
Я чувствовал, как под моими пальцами горло Гундосого обмякает, становится зыбким, словно желе. Чувствовал это и давил его, и сминал, вкладывая в это всю силу свою, весь свой гнев.
Затем поезд двинулся снова, но мне это уже ничем не грозило. Там, где минуту назад лежал мой враг, теперь находился я сам.
Гундосый остался внизу, под колесами… Гулкий, тяжко похрустывающий металл перемолол его так же легко, так же точно, как мог бы перемолоть и меня.
В песках
Я спасся от гибели, избавился от врага, но тревоги мои на этом не кончились. Теперь возникла новая задача как можно скорее покинуть этот поезд. Я понимал: стоит только лягавым обнаружить труп Гундосого, а это случится очень скоро, если уже не случилось, они немедленно начнут меня разыскивать. Я ведь ехал вместе с Гундосым целые сутки, мы болтались по всему составу, нас видело много людей…
В полночь во время минутной стоянки, когда паровоз набирал воду, я осторожно, крадучись, выбрался из-под вагона и спрятался за барханом в жестких кущах карагача. Дождался там, покуда поезд уйдет, и затем побрел в сторону от дороги.
Я брел наугад на северо-восток по голубым пескам, по ночному дикому бездорожью. В пути я почти не отдыхал, не задерживался. И к утру был уже далеко.
Когда пустыня посветлела и вновь запахло зноем, я увидел полуразрушенное каменное строение — остатки древней крепости или развалины мечети. Шатаясь, добрался до этих развалин, проник внутрь под низкие своды и улегся среди камней, изнемогая от усталости и жажды.
Воды здесь не было, но зато была тень — защита от солнца, укрытие от сторонних глаз…
Я улегся в тени и вытянулся блаженно. Достал не спеша папиросу, размял ее, но закурить не успел — уснул.
* * *
И тотчас мне привиделся поезд и звенящие рельсы. Я снова лежал на них, почти касаясь щекой колеса… Оно было огромным, вагонное это колесо! Оно проворачивалось с хрустом и обдувало пылью мое лицо.
И опять я плакал и молился, взывая к небу. Я ждал его помощи. И небо спросило меня:
— Чего ты хочешь? И я ответил:
— Хочу пить.
— Пей, — сказало небо, — пей! Но где же вода? — удивился я.
— Обернись!
Я обернулся и увидел темный пенящийся поток. Он ширился, рос, размывал пески и захлестывал рельсы. Он подступал ко мне вплотную. Я зачерпнул ладонями темную эту влагу и вздрогнул: она была горяча и пахла терпко, тошно и сладковато…
— Это кровь, это кровь! — закричал я и проснулся. Протер глаза, осмотрелся и подивился тому, как долго я спал. День давно догорел уже, кончился. Плотные сумерки окутывали старую крепость, и на западе в проломе стены плыла, покачиваясь, медная луна.
«Что ж, — решил я, — темнота мне на руку. Теперь можно идти. Надо отыскать воду!»
И только я подумал так, где-то рядом, совсем близко от меня, послышался легкий ласковый плеск.
Я встрепенулся. Постоял, прислушиваясь, и пошел на этот звук.
«Где- то тут, наверное, есть ручей, — соображал я, облизывая запекшиеся губы. — Утром я не заметил… Но это понятно — после такого пути. Зато теперь напьюсь! Теперь-то уж напьюсь!»
Я обогнул кучу щебня, торопливо перешагнул через каменную плиту и остановился, растерянный и онемевший.
Передо мною у самого пролома сидел Гундосый. Облитый заревом луны, он был виден отчетливо. Он держал в руке бутылку и пил из горлышка; звучно высасывал воду, захлебывался и чмокал.
Увидев меня, он нисколько не удивился, мигнул глазом и сказал, протягивая мне бутылку:
— Держи, старик. Хочешь?
— Нет, — смятенно забормотал я, — нет, не хочу… Откуда ты? Почему? Ты же ведь умер!
— Брось трепаться, — сказал Гундосый. — Держи, пей! Для друга мне ничего не жалко, даже воды.
— Но это ведь не вода, — возразил я, отступая, — это сон! Ты снишься мне, проклятый…
— Ну, какой же это сон? — хихикнул он гнусаво, привстал и шагнул ко мне, похрустывая щебнем. — Вода настоящая — гляди!
Он поднял бутылку, перевернул ее вверх дном, и оттуда наземь, в пыль, хлынула голубоватая струйка. Хлынула и расплескалась с коротким звоном. Несколько капель попало мне на руки и на шею, я ощутил текучий щекотный холодок. Поежился… и проснулся.
Я проснулся, задыхаясь, в липком поту и какое-то время лежал, пытаясь разобраться в своих ощущениях.
Сон вроде бы кончился. Но холодок на руке и на шее остался, я чувствовал его явственно. И это рождало во мне странное, смутное беспокойство.
«Интересно, — подумал я, — сколько сейчас времени? Утро еще или уже вечер? А может, я по-прежнему сплю?»
Я шевельнулся, позевывая. Попробовал приподняться… И мгновенно по шее моей — возле самого уха — потекла холодная щекотная струя.
Раздался еле слышный прерывистый свист. Что-то зашуршало там — у шеи. Я скосил глаза и увидел змею! Перевел взгляд дальше — и увидел еще одну, и еще, и еще. Их было здесь множество! Они кишели по всей этой крепости, ютились в каждой трещине, в любой щели.
«Я сплю, — подумал я с ужасом, — я сплю…»
* * *
Но это был не сон!
Я попал, сам того не зная, в змеиное скопище, в сумрачное их царство! Долгие годы (может быть, десятки лет, а может — века) они плодились здесь, жили вольготно и тихо. И вот теперь я их потревожил. Змеи пересвистывались, тихонько шуршали и, видимо, беспокоились. И из каждой расселины смотрели на меня ледяные, крошечные, колючие их глаза.
Каким-то краешком сознания я постигал, угадывал: главное не суетиться, не делать резких движений… И я не делал их, лежал неподвижно. Но сколько можно было так лежать?!
Медленно, осторожно согнул я ноги в коленях, потом распрямился и сдвинулся слегка. Я несколько раз повторил этот маневр… И удивительное дело — змеи не тронули меня! Возможно, они принимали меня за своего? За какую-нибудь особую, чудовищную, странной породы змею?
Так, извиваясь, скользя по камням, продвигался я к выходу (путь длился два часа) и, наконец, достиг своей цели!
Выбравшись наружу, я долго не мог отдышаться, прийти в себя. Потом поднялся, озирая окрестность, и заметил невдалеке пеструю покатую крышу юрты.
Над ней струился белесоватый дымок. Там жили люди, а значит, была вода!
Спустя недолгое время я уже подходил к этой юрте.
У порога ее, в песке, возились крикливые малыши. Бродили куры. Положив на лапы мохнатую морду, дремал сомлевший от жары волкодав.
Он поднялся мне навстречу, лениво тявкнул несколько раз и вновь улегся, оскалясь н шумно дыша.
Сейчас же из глубины юрты появилась женщина — темноволосая, рослая, в азиатской, длинной до пят одежде.
— Здравствуйте, — сказал я.
Она скользнула по мне взглядом и кивнула молча. Лицо у нее было нежное, мягкое, какое-то совсем не восточное. Но я смотрел не на него, а на руки.
В руках у женщины был таз с водой!
Я на секунду замер, не в силах отвести глаз от блистающей этой пенистой влаги. Затем шагнул к женщине, вырвал из рук ее таз и жадно припал к нему. Я начал пить… Но тут же остановился — не смог. Вода оказалась мыльной, пахнущей щелоком — женщина, очевидно, стирала в ней белье.
Я поперхнулся, закашлялся, содрогаясь. С отвращением отбросил таз и выругался грубо и зло.
Тогда женщина вдруг сказала на чистейшем русском языке:
— Чего ж ты, миленький, бранишься? Сам, небось, виноват… — и, глядя, как я плююсь и корчусь, добавила с улыбкой: — А вообще-то, не пугайся. Я тут детские штанишки простирнула, только и всего!
Затем она увела меня в юрту и угостила холодным кумысом. И вот тут-то уж я напился вволю!
А вечером мы с ней выпили водочки.
Она достала из сундука бутылку, встряхнула ее и сказала, заламывая бровь:
— Из мужниных запасов. Здесь хорошей водки ведь не сыщешь… Эту бутылочку он для особых случаев хранит. Узнает — убьет меня. Ну, да ладно!
— А где же он сейчас? — поинтересовался я.
— В отъезде, — небрежно отмахнулась она. — К родне укатил, к братовьям. Имущество после отца своего делят; все никак поделить не могут.
— И… долго он там пробудет?
— Не знаю, — сказала она и посмотрела на меня понимающе. Взгляд ее был ясен и тверд. — Не беспокойся, время есть. Денька три-четыре проживешь здесь без помех.
— Ну что ж, — сказал я, поднимая стакан, — выпьем за это!
— Ладно, — согласилась она, поднесла стакан к губам и опрокинула его с какой-то отчаянной лихостью.
Ночью мы лежали на кошме и, утомясь, насытясь друг другом, разговаривали негромко.
Женщина эта (ее звали Клавдией) поведала мне свою судьбу, рассказала ее с той внезапной и трогательной откровенностью, которая обычно присуща женщинам в постели…
История ее была проста, незатейлива и трагична.
Она родилась и выросла в Мещерских лесах — неподалеку от Спас-Клепиков (от есенинских мест). Там, в лесах, прошла юность Клавы. И воспоминания эти были самыми светлыми в ее жизни.
Жалобно причитая и всхлипывая, перечисляла она различные мелкие подробности деревенского быта — как ходят по грибы, как аукаются в рощах… Вспоминала сельские гулянки, переборы гармоники, скрип качелей… Потом все это кончилось, изменилось мгновенно и круто. Началась война, загремел и приблизился фронт. И, спасаясь от него, Клава эвакуировалась вместе с родителями на юг, в Азербайджан. Родители вскоре померли. Она осталась одна; голодала и бедствовала, мыкалась по пустынным и чужим этим местам. Работала на стройках, рыла землю. Жизнь была беспросветной и нищенской, и единственным спасением тогда казалось ей замужество.
И когда появился этот курд, этот старик, она пошла за него сразу, не задумываясь. Пошла, не любя. Но дети все же появились — и довольно быстро! Теперь их трое у нее. И ничего уже нельзя ни изменить, ни поправить.
— Ну, как нельзя! — возразил я легкомысленно. — Взяла бы да уехала. Что этот твой курд может сделать? Здесь все-таки не Иран.
— Да? — она приподнялась, мрачно вглядываясь в меня. — А дети? Им ведь мать нужна. Мать! Вы, кобели, не понимаете этого. Вам — что? У вас одна забота.
— Детей, в конце концов, можно поделить…
— Можно, конечно, — сказала она медленно. — Все можно сделать! Но ведь мы, бабы, не любим уходить наугад, в пустоту. Если бы нашелся кто-нибудь, взял бы меня такую, какая есть, — я бы сразу ушла! Не глядя… Я бы век была благодарной. Ноги бы мыла ему и воду пила.
Голос ее сорвался вдруг. Она заплакала, уткнувшись в ковровую подушку. И я долго гладил ее по теплой, вздрагивающей спине… Гладил и молчал.
Что я мог ей сказать? Что я не гожусь для нее — что я вор, отщепенец, бездомный бродяга? Что я убил человека и теперь скрываюсь от властей?
Я молчал. Потом попробовал все же заговорить… Но она оборвала меня, перебила, провела ладонью по моей щеке и усмехнулась сквозь слезы:
— Не надо. Молчи. Давай-ка лучше выпьем еще!
* * *
Так вот я провел три дня, наслаждаясь уютом и женским теплом.
Я получил ее — после всех моих бед и мытарств — как некую награду, как утешение… А что, в конечном счете, может быть выше такой награды?
Королева Марго и другие
Новая полоса
В моей жизни неожиданно началась новая полоса: мне вдруг стало везти на женщин.
Раньше я как-то не общался с ними, не сталкивался вплотную, да и не особенно стремился к этому. Женщины казались мне (вероятно, по аналогии с матерью) существами странными, лукавыми, абсолютно чуждыми мне во всем. Теперь же все изменилось. Я словно бы открыл для себя новый мир! И мир этот оказался вовсе неплох…
Может быть, в этом сказалась особая благосклонность судьбы? А может, я стал по-настоящему взрослым, стал мужчиной?
* * *
Расставшись с Клавой, я некоторое время еще скитался в окрестных песках — вблизи железной дороги. Затем как-то ночью на полустанке подкараулил экспресс, идущий на север. Вскочил на подножку, повис, уцепившись за поручни. Дождался, покуда в окнах поезда погаснут огни, и осторожно, с помощью отмычки, проник в спящий вагон.
Я ехал без хлопот, даже с удобствами! Меня сразу же приютила, приветила проводница вагона — разбитная рыжая бабенка, уже немолодая, но вполне еще свежая. В ее каморке (в служебном отделении) я и отлеживался всю дорогу, вплоть до самого Баку.
В Баку я встретил многих старых своих приятелей. Оказался среди них и Кинто (тот паренек в клетчатой кепочке, с которым я познакомился, впервые приехав в Ростов).
Он был здесь один. Старого его партнера, Хуторянина, арестовали еще летом, во время облавы. Попал в облаву и Кинто, но сумел как-то выпутаться, бежал, перебрался в Закавказье и теперь промышлял на бакинском «Зеленом» базаре.
Все это он рассказал мне, сидя в базарной закусочной — в шумном подвале и уныло потягивая кислое местное молодое вино.
— Да-а-а, — вздохнул он затем. — Как-то все тухло, браток. И корешей надежных не осталось. И вообще… Жаль мне Ростов — веселый город! А здесь маята. Не люблю Баку. Не лежит душа. Давно бы уехал, если б не родня.
— Где ж твоя родня живет? — поинтересовался я.
— Да тут, за городом, — сказал он, — в Баладжарах. На электричке — двадцать минут.
— Счастливый человек, — пробормотал я с завистью. — Родня! Это, брат, много значит. В любой момент забредешь, отведешь душу…
Он допил вино, утер губы ладонью. Затем сказал, отставляя стакан:
— Хочешь со мной? Я сегодня как раз собираюсь туда. Должен был еще неделю назад заглянуть, но не смог, забыл, завертелся. А родители у меня обидчивые, строгие. Особенно пахан. О-о-о, это старик с характером!
— Он, вообще-то, кто? — спросил я. — Где работает?
— Вот приедем — увидишь, — уклончиво ответил Кннто.
* * *
В Баладжары мы прибыли вечером, в сумерках.
Я сразу же, с ходу, завернул в станционный гастроном, купил там бутылку доброго вина, пачку печенья и большую глянцевую коробку шоколадных конфет. «Как-никак, мы ведь в дом идем, — рассудил я, — в семью. Да к тому же еще — на ночь глядя… Надо явиться красиво!»
Кинто отнесся к этой затее несколько скептически. Покосился на сверток в моих руках, усмехнулся, хотел, видимо, что-то сказать, но промолчал.
Потом мы долго шли с ним по извилистым, залитым синью сонным улицам городка.
— Где ж твой дом? — забеспокоился я.
— Сейчас, сейчас, — отозвался Кинто, — теперь уже недолго осталось! Вот за тем поворотом…
За поворотом постройки кончились. Дальше простирался пустырь; над ним струилась и реяла тьма, разгуливал ветер — прохладный, пахнущий полынью и дымом костров.
Зыбкая россыпь огней возникла во тьме пустыря. Заливисто и коротко заржал где-то конь, тонко тенькнула гитара. И сейчас же я понял все — угадал, куда мы идем и какова родня у Кинто!
— Так ты — цыган? — спросил я его удивленно.
— Ага, — сказал он.
— Вот уж никогда бы не подумал…
— А за кого ж ты меня держал? — ухмыльнулся он.
— Ну, за кавказца какого-нибудь, — я пожал плечами, — за грузина… У тебя ведь и кличка и морда, все совпадает.
— Ага, — кивнул он удовлетворенно, — ага. Вот и ладно.
— Кстати, не только я, все так думают.
— И хорошо. И пусть думают. И ты смотри, дорогой, не болтай! — Кинто поворотился ко мне, сощурился. — Договорились?
— Ладно, — сказал я. — Но почему? В чем дело?
— Да так, вообще, — он помолчал немного. — Быть цыганом — это ведь небольшая честь. Особенно у блатных, в нашем обществе! На кой мне нужны лишние насмешки?
— Но насколько я знаю, — возразил я недоуменно, — цыгане для нас свои. Их ценят…
— Ценят, может быть, — поднял палец Кинто, — но не уважают. Да и, в общем, правильно. За что их особенно уважать?
— Ну как за что? — замялся я. — Этот ихний бродяжий дух…
— Бродяжий дух у цыган особый. Они ведь живут — и хитрят и воруют — все по своим собственным правилам! Ну а правила эти… — Кинто покривился, длинно цыкнул слюной. — А, да что говорить!
Последние слова он произнес, уже вступая в расположение табора. Обозначился черный косой силуэт шатра, заметались близкие отблески пламени. Рычащим клубком подкатился нам под ноги пес, принюхался к Кинто и затих, ласкаясь.
Откинув тряпку, занавешивающую вход, Кинто заглянул в шатер и сказал:
— Здравствуй, тату!
— Здравствуй, — отозвался низкий сильный голос, — входи!
— Я не один, тату, со мной друг.
— Тем лучше.
Спустя минуту я уже сидел в шатре на мягком ворохе тряпья.
Принесенные мною подарки пошли по рукам; я передал их Кинто, а тот — в свою очередь — старухе в цветастой шали. Старуха развернула пакет, извлекла оттуда бутылку и почтительно вручила ее коренастому морщинистому цыгану с бритым черепом и аккуратно подстриженной бородкой.
— Выпьем, тату, — мигнул Кинто.
— Выпьем, — сказал цыган, — только не это…
Он повернул бутылку, встряхнул ее. Сдвинул брови, разглядывая надпись на этикетке, затем улыбнулся, блеснув стальными зубами:
— Мускат. Это — для женщин! Сладкие помои. Какой в них толк? Нет, мы другое сообразим…
Поворотясь к старухе, он что-то ей сказал по-своему — гортанно и коротко.
Она сейчас же засуетилась. Ринулась в дальний темный угол шатра и появилась оттуда, держа в руках объемистый глиняный кувшин.
Следом за нею выползла из угла еще одна цыганка, чуть помоложе. Она тащила закуску — хлеб, брынзу, овощи.
Вес это было мигом разложено на циновке, у наших ног. Отец Кинто взял стакан, плеснул в него из кувшина, затем осторожно водрузил стакан на тыльную сторону ладони и шикарным жестом поднес его мне:
— Гостю дорогому — первая чарка!
Я выпил и задохнулся. В стакане оказался чистейший виноградный спирт.
— Ну, как? — оскалясь и выкатывая глаза, захохотал старый цыган. — Хороша отрава? То-то.
Мы долго пили в ту ночь. Шумно пили. Весело!
В шатер постепенно набилась уйма народу. И сухо бряцал бубен, и стонали бабы, и чей-то томительный тенор пел под гитару — тянул надрывные, дикие, таборные слова:
Тагу мора, та ту морэ, Пантелею,
Не пора ли постыдиться от людей?!
Не пора ли амэиди Пантелею
Выйти в поле да сделать все дела?!
Амэиди, кони, ромалу, чисто звери,
А жеребеночек, ромалу, вороной.
А его грива до самого колена
Аж завивается волной…
На исходе ночи — уже перед светом — я выбрался, шатаясь, наружу. Постоял так, запрокинув к небу лицо и жадно, взахлеб дыша предзаревной прохладой. И потом свалился, заполз под телегу, стоявшую рядом с шатром, и прикорнул там в траве.
Почему-то я ощутил, засыпая, безотчетную, отчаянную тоску… Почему? Может быть, после бесшабашного этого загула, по контрасту с ним? Не знаю, не знаю. А мажет, тоску мне навеяли таборные дикие эти песни? Не слова их, не текст, а все то, что скрыто в глубинах — весь этот сумрачный распев.
Такой же сумрачный и такой же надрывный, как и сама судьба моя, как и вся моя непутевая жизнь!
Скорее всего — так. Именно это и рождало тоску. Ах, я не знал тогда, что уже отравлен ею, болен навечно. Не знал, что приступы тоски будут с годами расти, станут множиться и учащаться, преследовать меня повсюду. И теперь — вот теперь, в Париже, когда я рассказываю все это, — тоска живет во мне… И нет мне от нее спасенья!
* * *
Я очнулся поздним утром, разлепил веки и приподнялся, морщась от головной боли.
Нестерпимо хотелось курить. Я полез в карман за портсигаром (у меня портсигар был золотой, доброй пробы — еще с ростовских времен!), полез — и нащупал пустоту. «Неужто обронил где-нибудь, — забеспокоился я, — или сунул в другое место?»
Но и другой карман тоже был пуст. А ведь в нем — я отчетливо это помнил — лежали деньги; небольшая, но все же ощутимая пачка.
Тогда — уже торопливо и зло — проверил я все свои тайники и понял, что меня обокрали!
Помимо денег и портсигара, у меня еще имелись часы — две пары, а также финский нож. Вес это исчезло. Кто-то обработал меня сонного — обчистил с головы до ног… И тут мне вспомнилось замечание Кинто о том, что цыгане живут по своим, особым правилам.
«Хороши правила, — подумал я, — ничего не скажешь… Ах, гады, ах, подлецы!»
И только я подумал так, из шатра, из-за занавески выглянул отец Кинто.
— Эй, жиган, — позвал он зычно, — кончай ночевать! Иди, похмелимся!
— А где Кинто? — спросил я угрюмо.
— К девкам ушел, — ответил он, — еще ночью.
— Куда — не знаешь?
— В Баладжары, на станцию, — сказал цыган. — Обещал утром прийти… Но мы ждать не будем. Все уже готово — стынет! Иди садись, пожалуйста!
Он выволок меня из-под телеги, ввел в шатер и усадил подле себя. И так же, как и давеча ночью, учтивым жестом поднес стакан спирта:
— Гостю дорогому…
Первой моей мыслью было отказаться, устроить скандал и потребовать объяснений.
Но очень уж радушно предлагал он мне выпивку! И все в этом цыгане, — выпуклые, с маслянистым отливом глаза и крупный рот его, и поблескивающие в улыбке металлические зубы, — все излучало искреннее веселье, было исполнено заботы и простоты. И, глядя на него, я как-то вдруг обмяк, заколебался.
Судя по всему, старик не имел к краже никакого отношения. Стоило ли портить хороший завтрак? Я решил дождаться прихода Кинто и выяснить с ним все подробности странного этого дела.
Ждать пришлось долго. Кинто явился уже за полдень. Когда я, отозвав его в сторонку, сообщил о ночном происшествии, он изменился в лице: посерел, осунулся, гневно сомкнул зубы.
— Кто же это мог? — процедил он углом поджатого рта. — Ай, стыд какой, ай, стыд! В таборе, конечно, полно подонков, но все-таки ты же ведь мой друг, мой гость! И это знает каждый. Хотя… — он запнулся, наморщился в раздумье. — Кто-нибудь мог и не знать… Ты под телегой ночевал, говоришь?
— Да, — сказал я.
— Тебе постель какую-нибудь дали? Ну, одеяло, подушку?…
— Нет, не помню, да я и не просил! Все получилось случайно. Вышел подышать — и сковырнулся.
— Ага, — пробормотал он, — ага! Подожди. Я сейчас… Разговор этот происходил неподалеку от шатра. Кинто метнулся туда, исчез за дверною полостью. И сразу же там зазвучали резкие голоса. Заплакала женщина. Затем занавеска откинулась, и появился Кинто. Вслед за ним вышел старик; он вышел, держа за руку тоненькую девушку, лицо которой до бровей было закутано в пестрый платок.
— Вот она, паскуда! — проговорил Кинто, растерянно помаргивая и жуя потухшую папиросу. — Сестренка моя младшая, Машка… Вчера под утро вернулась из Баку — ну и молотнула тебя мимоходом. Я, между прочим, так и подумал! Кроме этой шкодницы — некому.
— Так ведь не знала же я, не знала, — запричитала девушка. — Смотрю — валяется пьяный… Ну, откуда мне было знать?
— Где веши? — гневно спросил старик.
— Да здесь они, здесь, — торопливо сказала девушка, — все здесь. Пустите, тату!
Она высвободила руку, потерла запястье, затем наклонилась и поспешно задрала длинную юбку: под ней оказалась другая… Порывшись в ее складках, девушка извлекла портсигар и часы. Передала золото отцу. И снова подняла подол, и там опять была юбка. И оттуда на свет появились деньги (уже аккуратно сложенные, завернутые в тряпицу).
Сколько на ней надето было этих юбок, я, признаться, так и не смог сосчитать… Она шуршала ими, путалась в этом ворохе. Платок ее распустился — обнажилось лицо. И когда она распрямилась, я внутренне ахнул. У нее были огромные дымчатые, затененные ресницами глаза, удлиненный овал лица, крупный нежный рот с припухшей нижней губой.
Пристально вглядываясь в нее, я спросил уже с юморком, с легкой улыбкой:
— Ну, а где же нож запрятан? Там, что ли, — под самым низом?…
— Нет, в кустах, — она указала пальцем на заросли акации, — это рядом…
— Веди! — приказал старик.
Мы углубились в кустарник и вскоре очутились на крошечной полянке. Девушка присела возле груды валежника, разгребла ее и вытащила нож.
Я протянул ей руку. Она вложила нож в мою ладонь. Пальцы наши сблизились, соприкоснулись. И я ощутил ее пугливый трепет и дрожь.
«Чего она, дурочка, боится? — подумал я. — Все ведь уже кончено…»
Но нет, все только начиналось!
— Та-ак, — протяжливо сказал старик, обращаясь к Маше. — Ну, а теперь — становись.
И он, насупясь, потащил из-за спины — из-за пояса — тяжелую ременную плеть.
— Тату! — жалобно позвала девушка и умолкла под взглядом отца. Опустила ресницы, спрятала в ладони лицо.
Старик шагнул к ней, примерился глазами и медленно начал заводить назад плечо… И тогда я крикнул, перехватив занесенную плеть:
— Не надо! Стойте!
— Как — не надо? — удивился старик. — Нашкодила, обобрала гостя…
— Да плевать на эту кражу, — сказал я и покосился на Машу, и увидел, как радостно, изумленно распахнулись ее глаза. — Не жалко мне ни денег, ни часов. Я бы сам все это отдал…
— То, что ты бы отдал, — один разговор, а вот то, что она сама взяла, — другой, — вмешался Кинто, — совсем другой. Понимаешь?
— Понимаю, — сказал я, — все понимаю. Но и вы тоже поймите! Не могу я так.
— Но ведь она провинилась?
— Н-ну… да. Конечно, — с трудом согласился я.
— А за провинность бьют, — пробасил старик и потянул к себе плеть. — И крепко бьют. И это уже не первый случай. Все время шкодит, срамит меня.
— Погоди, — попросил я, — ну, погоди. — И добавил: — Тату…
— Так чего же ты желаешь? — усмехнулся в бороду старик.
— Ну, во всяком случае, чтобы вы не наказывали ее сейчас… Из-за меня.
— Тогда накажи ее сам!
— Хорошо, — сказал я быстро, — накажу! — выхватил у цыгана плеть и потом, поигрывая ею, добавил: — Вы идите, идите! Я тут сам разберусь. Один… Все сделаю, как надо!
Когда Кинто и старик ушли, я повернулся к Маше, отбросил плеть и улыбнулся ей ободряюще.
— Маша, — сказал я, подходя к ней, — не бойся, Маша. Разве могу я тронуть такую, как ты!
— Не можешь или не хочешь? — спросила она, отнимая руки от лица.
— Не могу.
Мне казалось, слова эти обрадуют ее… Но вот вам женская лотка! По губам ее вдруг скользнула надменная презрительная гримаска.
— В общем, могу, конечно, — сказал я поспешно.
— Так почему же не бьешь?
— Не знаю… Как-то рука не поднимается…
— А я было подумала — ты мужчина!
Она проговорила это и отвернулась, равнодушно поправила волосы и пошла, покачивая бедрами, цепляясь подолом за кусты.
— Стой! — окликнул я ее. — Куда ты?
Она не ответила, не обернулась. Она уходила от меня, исчезала, скрывалась в зыбкой листве…
И внезапно меня охватило бешенство; я поднял плеть с земли, в два прыжка нагнал девушку. И с ходу, наотмашь, полоснул ее по спине.
Она вздрогнула и как бы надломилась сразу: рухнула на колени, вскинула руки над головой.
Я замахнулся еще раз и увидел ее глаза: они полны были слез.
— Прости меня, — прошептала она, — хватит. Теперь — хватит… Прости! — и замерла, застыла, прижавшись к моим коленям.
Цыганская жизнь
Я приехал в табор случайно и вовсе не думал застревать здесь, но застрял, задержался! И виною этому была, конечно, Маша.
После той истории в кустах она вдруг прониклась ко мне странной нежностью; витая ременная плеть сыграла благую роль! На следующий же день на закате Кинто с таинственным видом вызвал меня из шатра, поманил с собою в степь. И там, на краю оврага, я увидел Машу; она сидела вся какая-то тихая, задумчивая, смирно опустив пушистые свои ресницы.
— Ну, вот, — сказал Кинто, — как ты, Машка, просила, так я и сделал. Привел. А теперь разбирайтесь сами! Я ничего не знаю — и знать не хочу!
Кинто отвернулся, крупно пошагал прочь, но тут же остановился, нахмурясь.
— Смотри, змея, — проговорил он, грозя Маше пальцем, — смотри, гадюка! Хоть ты моя сестра, но друг мне дороже — учти!
Он потоптался так с минуту, затем махнул рукою и исчез в наплывающей тьме.
Мы остались одни. Было прохладно и тихо, только где-то в травах поскрипывал коростель да время от времени со стороны табора долетали обрывки песен, бряцанье и ржанье коней.
— Чтой-то он говорит — не пойму, — вздохнула Маша. — Все ругают меня, бранят, а пожалеть и некому.
Она усмехнулась, игриво повела плечами. И тут же наморщилась, охнула от боли.
— Твоя работа, черт. Ну, ты ж и злой!
— Сильно болит? — спросил я, исполненный раскаяния и жалости.
— Еще бы, — сказала она, — пощупай-ка сам!
Я осторожно провел ладонью по ее спине, податливой и нервной, как у кошки, и ощутил под тонкой тканью блузки вспухший косой рубец. Да, врезал я ей крепенько — ото всей души!
— Ай, — дернулась Маша, — убери-ка руку. И откуда у тебя такой удар? Рука-то ведь маленькая, почти что детская…
Она взяла мою руку и положила ее себе на колени. Поглаживая ее, перебирая пальцы, сказала, помедлив:
— Совсем детская… Да ты и сам. Говорят, ты блатной, уркаган. Ну, какой же ты уркаган? Ты — маленький, жалко тебя… Иди ко мне, маленький. Прижмись крепче, не бойся.
— Послушай, — сказал я, уязвленный этими ее словами, — как-то странно все получается… Я же тебя отлупил, а ты меня жалеешь.
— Так ведь я — женщина, — ответила она.
Это было сказано так ласково, просто и проникновенно, что я затих, ничего не поняв, но все же ясно почувствовав всю непостижимую колдовскую ее правоту и силу.
Она еще что-то лопотала негромко и певуче, путая цыганские и русские слова… Но я уже плохо соображал. Я качнулся к ней, обнял ее порывисто. И опять она вздрогнула под моей рукой.
— Вот же беда, — рассмеялась она, — теперь и на спину не ляжешь… Но ничего. Как-нибудь! Приспособимся! У нас с тобой вся ночь впереди. Эта ночь — наша!
Губы ее приоткрылись. Я ощутил ее дыхание, костяной холодок зубов… И прошло немало времени, прежде чем мы снова заговорили.
— Эта ночь наша, — пробормотал я, остывая, с трудом переводя дух. — Ну а потом?
— А что — потом? — прищурилась она.
— Неужели у нас одна только эта ночь?
— А ты бы еще хотел?
— Конечно!
— Ну, встретимся завтра — в эту же пору…
— Эх, да я о другом, — проговорил я тоскливо, — я вообще… О будущем…
— Во-о-он ты про что, — сказала она протяжливо и завозилась, застегивая блузку, поправляя мятые волосы. — Стоит ли затевать?… Ах, ты действительно маленький! Получил игрушку и не хочешь выпускать из рук. А с игрушкой этой — беда… Слышал, как меня давеча брат обозвал? Ну, может, я и не гадюка, но все же учти: ты со мной еще намаешься. Я ведь и сама с собой маюсь… Зачем тебе это?
— Не знаю, — сказал я растерянно.
— Вот и не спеши, не надо… Не гони лошадей.
Но через неделю она сама вдруг завела об этом разговор. Мы лежали с ней в степи на том же месте, на краю оврага. И опять была сумеречь, и тянуло прохладой, и в синеве, сквозь облачные перья, светилась восходящая луна. По диску ее бежали багровые отсветы. Красноватое зарево растекалось на горизонте. Мутные лунные тени скользили по травам, по волнам ковыля… И там, в ковыле, послышался людской гортанный говор, тупой и частый топот копыт. Голоса множились, приближались. Я встрепенулся, привстал с беспокойством.
— Сюда идут, — сказал я, — увидят.
— Лежи, — отозвалась она спокойно, — никто сюда не придет.
— Но ведь они не знают…
— Знают, — сказала она, — весь табор знает! Давно уже… А ты что ж думал, это можно скрыть от людей?
— Ну, и как же к этому относятся? — спросил я, закуривая. — Что говорят?
— Да по-разному. Молодые тебя, конечно, ненавидят.
— Это из-за чего же?
— Из-за меня, наверное, — просто сказала она, — сам понимаешь.
— Понимаю. Ну а старые? Отец, например?
— Тату пока молчит. И это уже хорошо.
Она взяла из моих рук папиросу и затянулась несколько раз. И потом, вернув ее, вздохнула прерывисто.
— В общем, деваться теперь некуда… Ты все равно уже мой Ром. Понимаешь? «Ром» — это, по-нашему, муж, — и, вплотную приблизив ко мне лицо, добавила жарко и медленно: — А я — твоя Ромни…
* * *
Так началась моя цыганская жизнь!
Оставшись в таборе, я быстро обжился, освоился; неплохо выучился плясать и лихо отбивал чечетку на таборных гульбищах. И ходил я теперь, как заправский ром, — в расписной косоворотке, в смазанных, поскрипывающих сапожках.
Однако идиллия эта вскоре окончилась; мне пришлось отсюда уехать… Слишком много оказалось у меня здесь врагов!
Однажды ночью по дороге на станцию меня подстерегли молодые цыгане (очевидно, те самые, о которых говорила мне Маша), подстерегли — и жестоко избили.
Ах, как они били меня!
Их было пятеро; они обступили меня, плотно взяли в кольцо. И я не мог, окруженный, ни вырваться, ни защититься по-настоящему. Они били меня кольями и кнутами, причем не спереди, не в лицо, а сзади — по спине, по бокам, по ребрам.
Всякий раз, сбитый наземь ударом, я поднимался и поворачивался в ту сторону, откуда удар этот был нанесен. И тут же вновь валился с ног. И опять поднимался со стоном. И так я крутился во тьме — беспомощный, оглушенный яростью и болью.
Передо мной маячили белесые лица; я простирал к ним руки, тянулся к ним, но достать не мог, не успевал… Потом я упал и уже не поднялся.
Очнулся в шатре на следующий день. Первый, кого я увидел, был старый цыган. Угрюмый и насупленный, он склонился ко мне, спросил коротко:
— Кто?
— Не знаю, — сказал я, — не помню.
— Но, может, догадываешься?
Старик посмотрел на меня выжидающе. Поскреб ногтями в бороде — ухватил ее щепотью.
— А? Кто? Ты не молчи…
— Темно было, — ответил я, — не разглядел.
— Ну, что ж, — сказал он тогда и вздохнул с видимым облегчением. — На нет и суда нет… Ладно!
Затем из небытия появилась Маша. Причитая и всхлипывая, уселась она в изголовье. Положила на лицо мне прохладные, мягкие, ласковые ладони.
— Я здесь, я с тобой, — задыхаясь, давясь от слез, прошептала она. — Не бойся, родной мой, ничего не бойся. Я — твоя! Понимаешь? С тобой.
— Вот этого он как раз и должен бояться, — отозвался вдруг Кинто.
Я не видел его, улавливал только голос:
— Почему, ну, почему ты такая? Ты не приносишь радости; только вредишь, только всем гадишь… Видишь, что с парнем сделали? Перебили руку, сломали ребро.
— Но в чем же я виновата? — жалобно спросила Маша.
— А черт тебя знает!
— Я ведь здесь никому… Ни с кем…
— Зато много авансов выдаешь.
— Ничего я специально не выдаю. Так оно все само получается.
— Допустим, — сказал Кинто, — но ему от этого не легче! Потом они говорили о чем-то по-своему, по-цыгански. И в невнятном этом бормотании я различал одно только слово: «Уезжайте»…
— Уезжайте, — повторил по-русски Кинто, — здесь все равно добра не будет. А там, вдвоем, — кто знает? — может, вы и уживетесь, будете счастливы.
* * *
Но нет, мы не были счастливы.
Отлежавшись, окрепнув слегка, я увез Машу на Северный Кавказ — на Кубань, поселился там в казачьей станице, думал пожить в тишине, без приключений… Однако приключения начались сразу же. На третий день по приезде в станицу Маша исчезла, пропадала где-то сутки. И явилась домой веселая, пыльная, с тяжелым мешком за плечами. Оказывается, она ходила по дворам — гадала, побиралась, выпрашивала куски.
Я пробовал убедить ее в том, что занятие это — не из лучших; доказывал, что сумею сам прокормить семью… Все было бесполезно!
Она продолжала время от времени исчезать из дома. И случалось, пропадала надолго. Существо это, вообще, было странное, во многом непостижимое, исполненное какой-то наивной порочности. И в результате мы с ней расстались, вконец утомленные друг другом и не сумевшие друг друга понять.
Сталинский пруд
— Брось, не грусти, — сказал Кинто. — Что ни делается — все к лучшему!
— Правильно, — вздохнул я. — А все-таки жалко…
— Кого жалко? — прищурился Кинто.
— Машку, да и себя тоже. Может, я поторопился? Может, мне нужно было выждать, запастись терпением? В конце концов, все у нас могло бы получиться иначе.
— Вряд ли, — проговорил Кинто, — ох, вряд ли.
— Послушай, старик, — сказал я. — За что ты ее так не любишь?
— Да не то что не люблю, — замялся он, — тут другой разговор…
— Все же ведь сестренка твоя. Твоя кровь!
— Есть старинная кавказская поговорка, — сказал тогда Кинто, — дельная поговорка! «Красивая жена — позор для мужа, красивая дочь — позор для отца». Ну, и можно продолжить: «Красивая сестра — позор для брата».
— Неужто она до такой степени?…
— Да, — сказал Кинто. — Из-за Машки двое цыган схлестнулись, порезались ножами, когда ей было тринадцать лет.
Представляешь? Один был из чужого табора, а другой — наш, здешний, хороший друг мой, вместе росли. Такие дела.
Кинто шевельнулся, приминая траву. Достал папиросы, загремел спичками:
— Да и с тобой — вспомни! Тебе что, мало одного сломанного ребра?
— Достаточно, — ответил я быстро, — вполне! Хорошего понемножку.
— Ну, вот. И хватит слюни пускать, давай-ка о другом… — он засопел, прикуривая, затянулся табачным дымом. — Сегодня вечером опять Хасан придет. Опять придет, паскуда!
Разговор этот происходил на окраине города Грозного — в шумящем яблоневом саду, на берегу заболоченного, затянутого ряской пруда.
Обширные эти угодья принадлежали местному санаторию нефтяников им. Сталина, а потому и сад и пруд — все здесь называлось «сталинским».
Сталинский пруд пользовался среди блатных популярностью; шпана издавна облюбовала это место и собиралась тут во множестве. Временами на берегах пруда скоплялось до двухсот человек… Тогда санаторий напоминал становище запорожцев или скифское кочевье. Плескались дымные костры, звучали бродяжьи песни. Расположившись на траве, над зеленой рябью воды, блатные отдыхали от трудов, дремали, пили, тискали девок и резались в карты. И на все это с тоской и недоумением взирали отдыхающие в санатории горняки. Они почти не выходили из дома; предпочитали отсиживаться взаперти. И ворье таким образом царило здесь безраздельно.
Между нами и администрацией санатория был как бы заключен негласный уговор: мы не трогали отдыхающих и обходили стороной санаторские постройки. А дирекция — в свою очередь — не беспокоила нас.
Не беспокоила нас и милиция. Хотя, конечно, знала обо всем…
Гигантское это скопище ворья представляло собою грозную силу; управиться с ней местная власть не могла и потому предпочитала вовсе не связываться с нами.
Оккупировав сталинский пруд, мы жили беззаботно и весело. И, как обычно, главным нашим занятием в часы досуга была картежная игра.
Игра шла большая, азартная, ставки были крупными, и это привлекало всякого рода шулеров, профессионалов; они съезжались сюда со всех концов страны… Здесь было блатное казино, своеобразное кавказское Монте-Карло! И самым удачливым игроком — истинным королем казино — был крымский татарин Хасан.
Низенький, жирный, широколицый, он появился тут примерно в одно время со мной; жил в Грозном уже около двух месяцев и, приходя каждый вечер на пруд, неизменно и начисто вытряхивал всех своих партнеров.
Играл он преимущественно в стос (на воровском языке так называется «штос», классическая гусарская игра, из-за которой сошел с ума Герман, герой «Пиковой дамы»). Играл Хасан виртуозно, мастерски, и когда тасовал карты, и когда метал их, колода в руках его казалась живой: она трещала и реяла, распадаясь, и каждая масть послушно и точно ложилась в уготованное место.
За два этих месяца Хасан — по самому беглому подсчету — разорил половину нашей кодлы и в результате добыл барахла и ценностей на сумму в полтора миллиона рублей.
Среди его жертв оказался и Кинто. Три раза садился он напротив татарина — пробовал сразиться с ним, и терпел неудачу, и уходил обобранный до нитки.
Теперь он мечтал о новой схватке.
— Может, фортуна в конце концов улыбнется мне, а? Чем черт не шутит?
— Все, конечно, может быть, — сказал я, — но только при честной игре! А тут дело нечисто. Поверь мне, старик. Хасан не просто играет: он исполняет, бьет наверняка.
— У тебя есть доказательство? — спросил Кинто негромко.
— Н-нет… Так только — догадки.
— Какие же?
— Понимаешь, я за ним давно наблюдаю. И, видит Бог, мне все время кажется, что карты у него кованые.
— Но он же постоянно посылает шестерок на базар — за свежими колодами, — возразил Кинто.
— В этом-то вся и загвоздка, — проговорил я в замешательстве. — Если б он пользовался одной и той же колодой…
— Если бы да кабы, — угрюмо передразнил Кинто, — фантазер ты, вот что я тебе скажу…
Так мы беседовали, лежа с ним у пруда на пологом травянистом откосе.
День понемногу переламывался — клонился к концу. Косые, уже нежаркие лучи прошивали листву. Подувал ветерок. В мутных дебрях сада перекликались блатные. Кто-то там тянул заунывно:
Ой- ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей.
Нет мне фарту и покоя нет!
Только дым костра над головой,
Только черный дым да белый свет…
Белый свет, белый свет,
Я бродил по нему — ну и что ж?
* * *
Хасан пришел как обычно, в закатный час, окруженный толпой прихлебателей и шестерок.
Шестерками (так по-блатному называются лакеи) были у него мальчики — четыре смазливых, хорошо раскормленных юнца. Ходили слухи, будто татарин пользуется их услугами не только днем, но и ночью. Что ж, это было похоже на правду! Они безропотно выполняли любое его приказание — старались изо всех сил! Во время игры мальчики сидели за его спиной; пересчитывали и укладывали выигранные тряпки, подносили хозяину вино и фрукты, кипятили на костре чаек. (Хасан был изрядный сноб и любил все делать с комфортом!) Иногда в гареме его возникала смутная возня: мальчики ссорились, перебранивались шепотом… Тогда Хасан поворачивался всем корпусом и медленно, грозно произносил одно только слово:
— Эй!
И тотчас юнцы замолкали, затаивались, трепеща. Взирая на все это, кто-то из урок сказал однажды:
— А ведь бабы им и в подметки не годятся, ей-богу, братцы! Если я когда-нибудь женюсь, то только на педерасте… Буду, по крайней мере, жить с человеком преданным, тихим.
Явившись на пруд, мальчики сразу же занялись делом: развели костер, очистили от мусора место под яблоней. В траве был разостлан простенький коврик. И Хасан уселся на этой подстилке.
Он уселся, скрестив ноги, опершись локтями о колени; с треском вскрыл запечатадную колоду карт и улыбнулся, собрав морщинки у раскосых запухших глаз.
Игра началась!
* * *
Вскоре я ушел на вокзал — на работу — и вернулся сюда уже поздней ночью.
Вокруг костра теснились и гудели блатные. Шаткие отсветы пламени скользили по лицам и отражались в пруду… Из толпы, пошатываясь, выбрался Кинто, стал над кромкой воды и выматерился глухо.
— Ну, как? — окликнул я его.
— Ох, не спрашивай, — ответил Кинто. И потом, вороша ладонью волосы, отводя глаза, проговорил с запинкой: — Слушай, Чума, ты мне друг?
— Ну, друг, — сказал я. — Дальше что?
— Понимаешь, какое дело вышло, — пробормотал он. — Я тут слегка запоролся; хотел отыграться, а спустил все. Все как есть! Не только свое, но и…
— И мое тоже?
— Да, брат. Прости. Так уж вышло.
— Но какое же ты имел право? — сказал я, накаляясь.
— Никакого, я сам понимаю. Но теперь все равно ничего уже не попишешь.
— Но золотишко, — спросил я с надеждой, — золотишко-то хоть не тронул?
— Эх, — сказал Кинто, покрутил головой и вздохнул натужно. — Эх, милый…
Я понял: он добрался до моего тайника (он единственный знал о нем!), и это взбесило меня окончательно.
— Что с тобой теперь делать? — процедил я. — Ну, что?
— Что хошь, — поник он, — прости…
— Ну, нет, — сказал я, — этого я не прощу! И ты не кореш мне больше, учти, скотина. — Я задохнулся, глотнул воздух. — Ладно. Потолкуем после. А сейчас я этим Хасаном сам займусь. Я им займусь!
Минуту спустя я уже был возле татарина; он сидел, держа в расставленных пальцах пиалу, прихлебывал чай и отдувался лениво.
— Хочешь проверить талию? — спросил он, скользнув по мне цепким, оценивающим взглядом.
— Хочу, — сказал я.
— Ну, приходи завтра.
— Нет, — сказал я, — сейчас.
— Но уже поздно. Игра кончена.
Я присел на корточки и взглянул в лицо его, в темные, узкие, убегающие зрачки.
— У меня к тебе особый счет. Имей это в виду, Хасан! Если ты сейчас со мной не сядешь…
Он помедлил в раздумье, отер платочком рот и шею, сказал, отставляя пиалу:
— Что ставишь?
— То, что на мне, — сказал я. — Пиджак, брюки, сапоги… Все идет, вплоть до трусов!
— Ну, что ж, — кивнул он, — три партии. Согласен?
— Согласен, — проговорил я, дыша хрипло и коротко, — на все согласен! И учти: обыграю тебя — зарежу!
— А если проиграешь? — дернул углом рта Хасан.
— Тогда душа с меня вон…
— Запомните, урки, его слова, — сказал Хасан, озираясь. — Запомните!
Потом передал мне колоду. И коротко бросил:
— Мечи!
Ох, зачем я полез в эту игру? Затея моя была безнадежной, бессмысленной. Все, что я делал и говорил в этот вечер, все было до крайности нелепым. Я понимал это, но справиться с собой уже не мог. Я весь был во власти гнева. И ослепленный, задыхающийся, не заметил даже — когда и как кончилась последняя партия.
Вдруг стало тихо. Сгрудившиеся вокруг нас люди примолкли выжидающе. И тогда раздался высокий, скрипучий голос Хасана:
— Ваша карта бита! Позвольте получить!
Угрюмо — при общем молчании — снял я пиджак. Достал из-за голенища финский нож, положил его рядом, в траву, и начал стаскивать сапоги.
Хасан сейчас же сказал, указывая глазами на нож:
— Дай-ка сюда это перышко!
— Зачем? — возразил я. — С какой стати?
— Ты что, — удивился он, — забыл уговор?
Подняв лицо, обращаясь к толпе, Хасан проговорил с ухмылкой:
— Напомните, братцы, какие были условия?
— Да чего тут толковать-то? — услужливо склонился кто-то, — условия ясные… Все — вплоть до трусов!
— Так, — кивнул татарин и посмотрел на меня пристально. — Слышал?
— Слышал.
— Ну, так плати. Все плати! Полностью! Пощады тебе нет. Понял?
Делать было нечего; пришлось уплатить; я швырнул ему нож. Разделся медленно. Хасан сгреб в охапку одежду мою и белье — передал все это мальчикам и поднялся, потягиваясь, катая в зубах изжеванную папироску.
— Ну, вот, — сказал он, — вот и все дела… А теперь, братцы, кто хочет — идем со мной в город, в кабак! Что-то мне весело нынче; душа разгула просит!
Он выплюнул окурок и зашагал во тьму. Толпа помаленьку рассеялась; кое-кто ушел вместе с Хасаном, другие отправились на вокзал.
В саду осталось несколько человек; сойдясь в кружок, они о чем-то беседовали негромко… Раздался взрыв хохота. Голос Кинто позвал из-за деревьев:
— Эй, Чума, как самочувствие? Может, что надо — скажи!
— Пошел, — яростно ответил я, — пошел от меня… Видеть никого из вас не хочу! Все вы тут, гады, прогнили. Вы же не воры — вы хасановские шестерки, челядь, порчаки!
Я долго так бранился, поносил без удержу блатных. Я чувствовал, что забалтываюсь, говорю лишнее, что ребята не простят мне этих слов. Чувствовал — и все же продолжал бушевать.
И в конце концов ребятам это надоело. Постояв, покурив в отдалении, они ушли, оставив меня одного.
— Чертов псих, — сказал на прощанье пожилой майданник по прозвищу Ботало, — не хошь по-доброму — хрен с тобой. Оставайся тут, сиди — в обезьяньем виде!
Когда в дебрях сада затихли его шаги, я как-то сразу остыл, успокоился и затосковал.
Я сидел у тлеющего костра, скорчившись, подтянув колени к подбородку. Лицо мне овевал едкий дым, а спине было зябко: по ней подирали мурашки. Мгла сгущалась, становилось все холоднее.
Белесоватый туман заваривался над прудом; оттуда тянуло знобящей сыростью, запахом тины и влажных трав.
Над кипящей листвой, над низкими кронами яблонь посверкивали крупные ледяные звезды. Красноватым пятном сквозил сквозь ветви щербатый месяц. И вдалеке, в предгорьях, слышался тягучий одинокий вой. Кто-то там томился и плакал в ночи, вероятно, шакал. А может быть, волк? И, глядя в зенит, в холодную бездну, мне тоже хотелось выть сейчас по-волчьи.
Я не знал, что мне делать, как быть? Добраться до дому в таком виде я не мог (мы жили с Кинто в центре города, у знакомого осетина). А сидеть и мерзнуть здесь нагишом было слишком уж обидно и глупо.
«Все глупо, — думал я, дрожа и ежась, — все у меня бездарно — и сама жизнь моя, и эта ситуация… На что я надеялся, бросая вызов Хасану? На то, что отыграю золотишко? Я же ведь не игрок, я не умею хитрить. Я просто — псих… И вот результат: вечно лезу в приключения и оказываюсь в дерьме».
И тогда я поклялся никогда не брать в руки карты. Никогда! Ни при каких обстоятельствах! И в подтверждение этого решил — при первой же возможности — выколоть на плече своем крестовый туз. На этой именно карте я срезался в игре с татарином.
Близкий явственный шорох в кустах вывел меня из задумчивости и заставил насторожиться.
Из зарослей выдвинулась смутная женская фигура — замерла в полумгле, на границе света и тени. Постояла там и шагнула к костру. И я увидел Королеву Марго.
— Я за тобой, — сказала она, — вставай, пойдем.
Я распрямился радостно, но тут же присел, заслоняясь руками.
— Как же я пойду? — прошептал я. — Сама видишь…
— Вижу, — сказала она и засмеялась, всплеснув руками. — Ах ты, бедный мой… голенький… Как это тебя угораздило? — и быстро сняв с себя плащ, протянула мне его. — На вот, прикройся покуда.
— Послушай, Марго, откуда ты? — погодя спросил я, шагая с ней по темным улицам предместья. — Какими судьбами?
— Из Ростова, — сказала она.
— И давно ты здесь?
— Вчера приехала, — Марго помолчала, закуривая, — по делам…
— Как же ты обо мне-то узнала?
— Да случайно. Зашла в ресторан — а там урки… Пьют, шутят, тебя поминают. Я как услышала — сразу к тебе. Ты же там, думаю, пропадешь, застудишься, — Марго внимательно посмотрела на меня и добавила негромко: — Тебе сейчас первым делом крепкий чаек со спиртом. Вот что надо!
— Да-а, — проговорил я, — неплохо было бы. Только где его, спирт, найдешь среди ночи?
— Найдем, — весело сказала Марго, — все найдем!
— А где ты, кстати, живешь? — поинтересовался я.
— Здесь, — сказала она, сворачивая в переулок. — Уже пришли.
* * *
Потом, облаченный в женский мохнатый халат, я сидел на низкой ковровой тахте среди множества подушек. В комнате было тихо, уютно, тепло.
От чаю, от выпитого спирта меня развезло, поклонило в сон. Угревшийся и расслабленный, я покуривал, развалясь на подушках, и наблюдал за Марго.
Она прибрала на столе. Потом аккуратно задвинула штору, проверила дверной запор и, вздохнув, начала раздеваться.
Закинула руки — с трудом отстегнула тугие крючки на воротнике. Платье упало с тягучим шелестом. И, перешагнув через него, Марго сказала, подрагивая ресницами:
— Ну, что глядишь? Хороша?
Она стояла передо мной — рослая, с тяжелой грудью, вся залитая трепетным светом лампы. Свет струился по ее плечам, по матовой коже, по упругим бедрам. И, разглядывая их, я пробормотал, поднимаясь:
— Хороша…
Вся моя сонливость пропала: ее сняло как рукой.
— Хороша, — повторил я, — что говорить! Ты у меня настоящая королева!
— Ну, тогда подвинься, — сказала Королева, — айда клопов давить!
Разоблачение Хасана
На следующее утро я проснулся с головной болью, разбитый, в горячем поту.
— Грипп подхватил, — внимательно поглядев на меня, объявила Марго. — Готово дело! — и тут же захлопотала, поправляя мою подушку, подтыкая одеяло. — Теперь лежи смирно, не вставай. Пойду за лекарствами!
Вскоре она оделась и ушла, а вернулась вдвоем с подругой — известной грозненской проституткой по кличке Алтына.
Кстати, о кличках. В преступном мире, как известно, официальных собственных имен почти не существует. Попавший в блатную среду человек обретает как бы второе крещение и нарекается по-новому в соответствии с законами конспирации, а также в зависимости от профессии и от личных качеств. Так вот я, например, стал «Чумой». Здесь сыграл свою роль мой характер, моя бесшабашность и вспыльчивость…
Если же говорить о проститутках, то прозвища их издревле связаны с ремеслом.
В традиционных кличках проституток всегда присутствует некий налет иронии: «Мымра», «Шушера», «Алтына»… Алтыном, между прочим, на старорусском языке называется мелкая монета. Таким образом, как бы сразу обозначается цена.
По отношению к грозненской этой девке — подруге Марго — такое прозвище было, по-моему, дано неправильно, несправедливо. Зеленоглазая, рыжая, с нежным, осыпанным золотистыми веснушками лицом, Алтына, право же, стоила больше. Она выглядела вполне привлекательно: веснушки нисколько не портили се, скорее наоборот…
Я лежал в полузабытье, расслабленный и томный, дымил папиросой, лениво прислушиваясь к голосам, долетавшим из кухни. И вдруг я услышал имя Хасана.
— Эй, Марго, — позвал я. — Что вы там о Хасане толкуете?
— Да так, ничего, пустяки, — сказала она, появляясь в дверях. — Просто Алтына его видела несколько раз на базаре возле ларьков.
— Возле каких ларьков? — заинтересовался я.
— Ну, возле тех, которые у входа…
— Это те самые ларьки, где продаются игральные карты?
— Наверное, — пожала плечами Марго, — не знаю.
— Когда она его видела? — спросил я, привстав и комкая в пальцах тлеющий окурок. — Ну-ка, зови Алтыну сюда!
— Но что такое? В чем дело?
— Сам пока не знаю, — сказал я, — но есть одно соображение. Надо бы проверить… Черт возьми, как это не пришло мне в голову раньше!
Откуда-то из глубины, из подсознания поднялась во мне смутная, еще не оформившаяся мысль; родилось предчувствие догадки.
— Ты на базаре часто бываешь? — спросил я Алтыну, прибежавшую из кухни, ошалело таращившую глаза.
— Все время, — ответила она и дернула плечиком. — Я ведь в том районе работаю.
— И Хасана видишь часто?
— Не каждый день, — задумалась она, — но, в общем…
— Когда ты его увидела в первый раз?
— Месяца два назад.
— Именно там, возле ларьков?
— Да, — сказала она, — там.
— Что он делал, не помнишь?
— Н-нет, — пробормотала она, наморщась. — Он ведь нами, бабами, не интересуется. Ну и мы им — тоже.
— Но все-таки, — попросил я, — напрягись, припомни. С кем он разговаривал?
— С ларечником. Там один армянин работает, Саркисян. Такой пройдоха, негде пробы ставить. Хасан с ним, по-моему, дружит. Какие-то у них дела, — она вздохнула коротко, поджала губы. — Если б я раньше знала — поинтересовалась бы. А так что ж…
— Но почему ты решила, что у них дела?
— А как же! — ответила она удивленно. — Конечно! Хасан — я точно помню — какой-то сверток ему передал тогда…
— Сверток? — переспросил я стремительно. — Большой?
— Да нет, не очень. Просто бумажный пакет.
Теперь я окончательно понял хитрость Хасана, разгадал всю подлую суть его комбинации! Приехав в Грозный, он прежде всего обошел базарные ларьки и скупил там все имеющиеся карты. Обработал их, подковал. И затем снова вернул продавцам. Продавцы, конечно же, согласились на это; ведь они таким образом зарабатывали дважды на каждой колоде; всякий раз, затевая очередную игру, Хасан посылал к ним своих мальчиков, покупавших якобы совершенно новые карты!
Всеми этими мыслями я поделился с моей Королевой. Она заметила весьма резонно:
— Возможно, ты прав. Даже наверняка… Но это еще нужно доказать. И тут, я думаю, первым делом надо расколоть Саркисяна. Если он подтвердит…
— Заманить бы его куда-нибудь, — пробормотал я. — Только как это сделать?
— Ну, заманить-то нетрудно, — усмехнулась Марго, — мои девочки это умеют.
Поворотясь к Алтыне, она легонько ладонью похлопала ее по тугой, подрагивающей ляжке:
— Неплохо умеют… верно я говорю?
— Так ведь с этого кормимся, — засмеялась, зарделась та, — на том стоим!
Марго сказала, задумчиво покусывая губы:
— Договорись с ним на вечер. Часов в восемь встретитесь — и сразу веди его на Вокзальную в подвал, ты знаешь куда!
И потом, обращаясь ко мне:
— Кого позвать?
— Н-ну, можно Кинто, — сказал я, — хоть мы с ним и поссорились, разошлись… А впрочем, именно потому-то он и годится! Ведь поссорились мы как раз из-за татарина!
— Хорошо, — кивнула Марго деловито. — Кого еще?
— Еще можешь позвать Абрека, Ботало, Левку Жида, — я назвал несколько своих приятелей. И затем предупредил ее:
— Самое главное — чтоб все было тихо! У Хасана полно прихлебателей, имей это в виду. Половина здешнего ворья — его должники.
— Но это же нам на руку, — возразила Марго. — Значит, все на него злы.
— В общем-то верно, — сказал я, — однако люди мыслят по-разному. Одни захотят мстить, другие, наоборот, начнут перед ним выслуживаться. Найдется какой-нибудь ублюдок, сообщит ему, стукнет… Ищи тогда ветра в поле! Нет, милая, лучше уж действовать аккуратно.
* * *
Оставшись один, я долго лежал, размышляя о случившемся. Я оказался прав; предчувствия не подвели меня. Все баснословные выигрыши татарина были, по сути дела, фиктивными. Он обманывал своих партнеров, а этого не прощают нигде, тем более — у блатных! В нашей среде за такие вещи наказывают беспощадно. И теперь, закрыв глаза, я представил себе сцену, которая вскоре разыграется на Вокзальной улице… Среди моих приятелей — среди тех, кого должна была разыскать Марго, — был назван Абрек. Я вспомнил о нем не случайно. Сухой, темнолицый, весь исполосованный шрамами, парень этот промышлял бандитизмом в окрестных горах и славился своей жестокостью.
«Если Саркисян окажется в его руках, — думал я, — он расколется мгновенно, в ту же минуту. К Абреку попасть страшней, чем к любым чекистам». На мгновение мне даже стало жалко этого торговца…
Незаметно я задремал. И очнулся, разбуженный стуком в дверь.
Торопливо — снедаемый любопытством и нетерпением — открыл я замок и вздрогнул: в дверях стоял Хасан! Он был не один. За спиною татарина теснилась его свита. Щуря узкие запухшие глаза, Хасан сказал с порога:
— Привет, Чума! Одевайся!
— В-в чем дело? — спросил я растерянно. — Что такое?
— Как — что такое? — удивился он. — Ты разве забыл вчерашний наш разговор? Ты ж меня зарезать грозился. При всех грозился… А потом сказал: «Если проиграюсь — душа с меня вон»… Было?
— Было, — пробормотал я.
— Ну вот я и пришел — по твою душу…
И, подавшись ко мне, он добавил тихо, медленно, с хрипотцой:
— Предлагаю тебе новую партию. Сыграем теперь в перышки… Перо на перо!
Он тихо сказал это, но за дверьми — среди его шестерок — возникло смутное движение, шепоток, легкий шорох. И, услышав его слова, я как-то сразу напрягся весь, подобрался внутренне.
Хасан произнес сейчас ритуальную фразу; он вызывал меня на дуэль! «Перо на перо» — в переводе с блатного означает: «нож на нож».
В принципе, воровская дуэль мало чем отличается от обычной, классической. Противники сходятся здесь, вооруженные холодным оружием (в данном случае — ножами), окруженные многочисленными секундантами. Так же, как и в классической ситуации, тут есть свои непреложные правила, свои запреты.
Строжайше запрещено, кстати, сдаваться, искать примирения, а также покидать поле боя. Схватка между урками ведется яростно, до конца. Она прекращается только с гибелью одного из противников. Только так — и никак иначе! Пожалуй, в этом и заключается различие между дуэлью блатной и обычной. В этом и еще в том, что секунданты, представители враждующих сторон, единодушно поддерживают затем победителя; выгораживают и оправдывают его перед властями.
При составлении милицейского протокола (в том случае, если труп не удается вовремя скрыть) секунданты выступают в качестве свидетелей… Победитель — кто бы он ни был! — объявляется правым, не повинным ни в чем; виноват всегда тот, кто умер! Именно он, по общему свидетельству очевидцев, явился истинным зачинщиком драки; грубиян и насильник, он первым совершил нападение и был убит, причем убит случайно, непреднамеренно, и конечно же, собственным своим ножом!
Понимая обычно, в чем суть, догадываясь о многом, милиция тем не менее ничего тут поделать не может; в уголовном кодексе РСФСР есть специальный параграф, особый пункт, связанный с понятием «необходимой самообороны». Параграф этот допускает любые защитные действия, вплоть до убийства, конечно, если такие действия оправданны. Здесь, безусловно, очень много зависит от показаний свидетелей. И вот почему так важны в блатной дуэли секунданты. Чем их больше, тем лучше для дела.
Хасан привел с собой целую свору… Однако это обилие людей не радовало меня, нет: ведь все они были его ставленниками, его прихлебателями. Я находился сейчас в чужом, враждебном мне окружении и мог столкнуться с любой подлостью, с любой неожиданностью.
— Одевайся! — коротко повторил Хасан. — Пойдем.
— Куда? — спросил я.
— Неважно, — пожал он жирными плечами, — ну, хотя бы на наш пруд! Там тихо, удобно. В крайнем случае — все концы в воду… — и пронзительно глянул на меня. — Согласен?
— А почему бы и нет, — усмехнулся я, стараясь говорить как можно небрежней, — место подходящее. Обожди-ка минутку!
Я отвернулся, расстегивая халат. И тут же опомнился, сообразил, что дамский этот халатик — единственное мое одеяние.
— Слушай, Хасан, — проговорил я озадаченно. — Я согласен с тобой пойти куда угодно. Но как это сделать? Вся моя одежда-то ведь у тебя… А новой я пока еще не обзавелся.
— Та-ак, — протянул Хасан, — так. Ну, что ж, — он наморщился, собрал складки на лбу. — Не можешь идти, давай здесь схлестнемся, пока твоей Марго нет… Не люблю, признаться, бабьих воплей.
«Ага, — тут же подумал я, — он, очевидно, не знает пока ничего. А то, что он явился именно сейчас, это просто совпадение. Но все же и здесь ему везет! Опять он, проклятый, в выигрышном положении! Все шансы — на его стороне…»
— Что ж, Хасан давай схлестнемся, — сказал я, — проверим последнюю талию… Но, полагаю, игра будет честная?
— А как же? — широко ухмыльнулся татарин. — Честность — мой девиз!
— Ну, если так, — сказал я, — верни мне финку. Ты ведь ее, помнишь, забрал вчера вместе с барахлом…
— Так у тебя что ж, другой нету? — спросил он медленно.
— Как видишь, — я развел руками.
С минуту он молчал, размышлял о чем-то, потом заглянул в коридор, махнул рукой:
— Заходи, ребята! — и грузно шагнул ко мне навстречу. Я отстранился невольно… Тогда Хасан сказал, затягивая слова, презрительно оттопырив нижнюю губу: — Не будь таким нервным.
Он нагнулся и вытянул из-за голенища ножик. Ледяным синеватым блеском вспыхнуло узкое лезвие. Вспыхнуло и погасло. Хасан подбросил нож и ловко поймал его. И потом еще раз. И снова шагнул, приблизился вплотную, держа финку в полусогнутой руке, целясь в живот мне колючим, отточенным жалом.
— Слушай, но это не по правилам, — быстро (быстрее, чем следовало бы!) заговорил я, чувствуя, как живот мой и спину обдает знобящим холодком. — Если уж играть, то на равных… Где мой нож?
— А разве это не твой? — поднял брови татарин.
— Нет.
— Извини, браток. А я уж было хотел это перышко отдать тебе…
Он явно резвился, баловался, наслаждаясь моей беззащитностью. Коренастый, широкоплечий, он стоял, прочно расставив ноги и поигрывая мерцающим лезвием. А вокруг, теснясь по стенам и заполняя комнату, настороженно помалкивала многочисленная его челядь: всевозможные шестерки, мелкая шпана…
Все они ждали конца. И конец этот был им ясен так же, как и мне самому. Я был приговорен, находился в безвыходном положений. Все сейчас зависело от Хасана… А он не спешил!
* * *
Хасан не спешил! Он слишком был уверен в себе. Прирожденный игрок, он издавна привык полагаться на фортуну. И она никогда не подводила его раньше.
Однако на этот раз — подвела!
С грохотом распахнулась дверь, и в проеме се увидел я лица Кинто и Абрека.
Следом за ними появилась Марго; она придерживала за плечи побледневшую, плачущую Алтыну.
— О-о-о! — сказал Кинто и присвистнул протяжливо. — И Хасан тут. Собственной персоной! Вот это здорово; тебя-то нам и надо…
— А зачем я вам? — спросил Хасан.
— А ты не догадываешься? — прищурился Кинто. Неспешно, вразвалочку прошелся он по комнате. Согнал со стула одного из хасановских мальчиков и уселся сам. Раздвинул колени и потом, опершись о них ладонями, спросил:
— Не догадываешься? — затем повторил с укоризной: — Ай-ай-ай! Что же это с тобой стряслось? Такой всегда был шустрый, сообразительный, все знал! Как блатных обманывать, как карты ковать…
— Какие карты? При чем тут карты? — завертелся татарин. — Ничего не знаю!
— А вот Саркисян говорил…
— Саркисян? — прошептал Хасан.
— Ну да, — задушевно, почти ласково сказал Кинто, — Саркисян, который на базаре торгует. Знаешь такого?
— Нет, — пробормотал Хасан, озираясь и легонько двигаясь вдоль стены в глубь помещения.
— А он тебя признал и рассказал кое-что. Ха-а-рашо рассказал! Подробно, как на исповеди!
— Не представляю, что он вам мог рассказать… — Хасан облизнул пересохшие губы. — Да и вообще, где он сам?
— Нету его, — сказал Кинто сокрушенно, — нету.
— Как так нету? — вмешался я в разговор.
— Очень просто, — пробормотал Кинто, — нету. — Он указал пальцем через плечо — в сторону Абрека. — Перестарался твой корешок…
Абрек стоял у дверей, посасывая прилипший к губам окурок, исподлобья оглядывал комнату. Он стоял так — длиннорукий, тощий и жилистый, — и под тяжелым его взглядом хасановские ребята пугливо жмурились и поджимались.
— Слушай, Абрек, — спросил я, нахмурясь, — что у вас там произошло?
— Да как тебе сказать, — пожал плечами Абрек. — Промашка вышла. Он, понимаешь, поначалу не хотел колоться, ну, я осерчал маленько…
— Прома-а-ашка, — низким вздрагивающим голосом отозвалась вдруг Алтына и всхлипнула, стукнув зубами. — Ты бы видел, что он, зверь, с ним сделал, что натворил! Привязал к стулу, а потом…
— Ладно, тихо, уймись, — торопливо склонилась к ней Марго. — Молчи, милая, молчи.
— Я молчу, — запинаясь, с трудом выговорила Алтына, — я молчу…
И она как-то странно выгнулась вся, запрокинула голову: у нее начиналась истерика.
— Главное, это ж я заманила его! Позвала, мигнула — ну, он и пошел, — причитала Алтына, захлебываясь, задыхаясь от слез. — Доверчиво пошел, с охотой. Теперь его кровь на мне!
При этих ее словах меня передернуло. Случилось все то, о чем я догадывался и чего втайне опасался с самого начала… Абрек перестарался, переборщил. Он всегда перебарщивал. Любое связанное с ним дело пахло кровью — это знали все! И я это знал. И Хасан тоже…
Никто из нас не заметил — когда и как оказался татарин возле окна. Взгляды всех находящихся в комнате прикованы были к Алтыне. Марго успокаивала ее, совала ей какие-то таблетки. Кинто, чертыхаясь, поил ее водой. Я суетился здесь же. И когда раздался звон разбитого стекла, все мы удивленно поворотились к окошку.
Поворотились и увидели, что рама сорвана, болтается на одной петле, горшок с геранью сброшен на пол, и все вокруг усыпано стеклянным блескучим крошевом, глиняными черепками, красными брызгами рассыпавшихся цветов.
Хасан исчез. Он воспользовался общей растерянностью и суматохой и выпрыгнул через окно. Сделать это было нетрудно, Марго жила на первом этаже.
— Упустили, — завопил я. — Из рук ушел… Что же делать, братцы?
— Н-да, глупо, — пробормотал Кинто, подойдя к окошку. Он смахнул рукавом осколки с подоконника, потрогал шаткую раму. — Глупо получилось. Не чисто, не по-деловому. Ай-ай-ай…
Кинто расстегнул пиджак — достал из-за пояса вороненый, масляно поблескивающий кольт. Осмотрел его внимательно, с треском прокрутил барабан и ловко вскочил на подоконник.
— Где ж ты собираешься его искать? — спросила Марго.
— Не знаю, — сказал, оборачиваясь, Кинто, — да все равно — далеко он не уйдет.
— Что же, ты прямо на улице, средь бела дня, пальбу откроешь? В открытую? Нет, Кинто, так не годится!
— Ну а как же тогда быть? — наморщился Кинто и опустился на корточки. — Неужели дадим ему уйти? И как его потом достанешь? Где?
— Во всяком случае не на пруду, — сказал я, — в кодлу он не явится. Не такой, братцы, он дурак! У него теперь один выход: бежать из Грозного…
— Это верно, — пробасил от дверей Абрек. Он по-прежнему стоял на пороге, мусоля папироску, загораживая собою выход. — Хасан не дурак. Однако без барахла своего он не уйдет. Полтора миллиона — шутка сказать! Головой ручаюсь, он первым делом за вещами своими, за грошами, за своим золотишком кинется… Вот там-то и надо его пасти!
— Но где это все у него спрятано? — задумчиво поднял брови Кинто.
— А это мы у мальчиков спросим, — усмехнулся Абрек. — Они в курсе.
Он сказал это, и сейчас же среди хасановских ребят возникла тихая паника. Они сбились в кучу и испуганно замерли.
Абрек обвел их сумрачным цепким взглядом. Потом поманил одного из них пальцем:
— Иди-ка, голубь, сюда! Ты меня знаешь?
— Знаю, — с готовностью ответил тот. Приблизился к Абреку и как-то съежился сразу — словно бы вдруг озяб.
— Слышал, о чем речь? — спросил Абрек.
— Ага…
— Хасанову хавиру можешь указать?
— Могу! Ради Бога! Но у него их две… тебе какая нужна?
— Обе! — отозвался Кинто. Грузно, похрустывая битым стеклом, слез с подоконника, спрятал револьвер под пиджак. — Обе нужны. И сразу! Сейчас! Тут ни минуты терять нельзя.
Абрек сказал, выплюнув окурок:
— Тогда разделимся. Я пойду с этим, а ты прихвати другого кого-нибудь…
— Лады, — кивнул Кинто. Он посмотрел в угол на столпившуюся там глухо шепчущуюся шпану и приказал властно:
— Идемте-ка все! Покажете, где да что… Тут вам делать нечего… Но с-смотрите у меня: без фрайерства, без хитростей! Если только что-нибудь — положу на месте.
И он небрежно — растопыренной пятернею — похлопал по пиджаку, по тому самому месту, где грелся у его живот тяжелый вороненый кольт.
Сомнения
— Что же все-таки было там, на Вокзальной? — спросил я затем у Марго.
— Ах, да что… — она вздохнула, косясь на Алтыну; та лежала на диване ничком, расслабленная и притихшая, и, судя по всему, спала.
— Этого Абрека ты ведь лучше меня знаешь.
— Знаю, — сказал я, — лютый мужик.
И тотчас припомнился мне случай, происшедший в Тбилиси, чудовищный случай, о котором в поныне еще толку все кавказское ворье… В одном из тбилисских ресторанов за банкетным столом сидели однажды урки, собравшиеся на толковище. Был среди них и Абрек. Внезапно к столу подошел некто Гоги — местный блатной с запятнанной репутацией. О нем ходили нехорошие слухи. Поговаривали, будто где-то он был уличен в нечестных поступках — и не смог оправдаться…
Когда Гоги появился возле стола, урки умолкли настороженно. Потом один из самых авторитетных — старый ростовский взломщик по кличке Бес — сказал негромко, вполовину голоса: — Сгинь, мерзавец.
— Но почему? — уперся Гоги. — За что? На каком основании?
— Не шуми, — предупредили его блатные, — кончай базарить! Ты свою вину сам знаешь.
— Ничего не знаю, — заявил Гоги, — никакой моей вины нету. А за чужую болтовню я не ответчик.
— Значит, не уйдешь?
— Нет. А если я в чем грешен — пусть докажут…
И вот тогда поднялся из-за стола Абрек. Он встал, вертя в пальцах вилку, небрежно поигрывая ею. Подошел к несчастному этому парню и вилкой проткнул ему глаз. Проткнул и вырвал, и потом, посолив этот глаз, невозмутимо сжевал его, съел, запив бокалом терпкого цинандали…
Все это я вспомнил сейчас и повторил:
— Представляю, что он сделал с этим Саркисяном!
— Все лицо ему искромсал ножом, — сказала, нервно закуривая, Марго. — Смотреть было жутко.
— Так… И куда ж вы его потом дели?
— В том подвале есть котельная. Понимаешь? Пришлось, его в топку бросить, чтоб никаких следов…
— О, черт возьми, — проговорил я, содрогаясь. — О, черт, что за проклятый мир? Куда я попал? Теперь и Хасана эта участь ждет… Да плевать на все его подлости!
— Не психуй, — жестко сказала Марго и рывком загасила о стол сигарету. — Об этом раньше надо было думать. Ты ведь сам все затеял! И участь свою выбрал сам. Кого ж теперь винить?
— Да, да, ты права.
Я почувствовал вдруг усталость, отчаянную и безмерную. На душе стало муторно и нехорошо… Подруга моя сказала правду: я сам был во всем виноват! Я сам избрал такую участь, и пошел на дно, и с каждым днем опускался все ниже и ниже…
Что- то случилось со мною, что-то во мне словно бы надорвалось. Так бывает с туго натянутыми струнами; одно неосторожное движение — и волокна лопаются, звеня.
— Я устал, — сказал я спотыкающимся, тягучим, сонным голосом, — я страшно устал! И вообще, я не знаю, как мне жить дальше… Не знаю… Во всяком случае, так, как сейчас, я жить не могу! Ты понимаешь меня, Королева?
— Понимаю, — ответила она и неожиданно мягко, тепло, почти по-матерински погладила меня по голове. — Понимаю теперь, какой ты есть…
— Это какой же? — самолюбиво дернулся я.
— Ну, ну, не ершись, — сказала она, продолжая поглаживать меня, ворошить мои волосы, — не дергайся попусту! Ты, конечно, мужик, стоящий мужик — это я еще ночью поняла… Для постели ты годишься, а до дела пока еще не дозрел. Есть в тебе эдакая червоточина, как и в этой дуре моей, в Алтыне. Интеллигентность вас губит, вот в чем вся суть! Добренькими хотите быть… А в нашем мире на таких — на добреньких — воду возят. Доброта — как навоз, ею землю удобряют… Ты вот пожалел сейчас Хасана, а он тебя не пожалел бы, нипочем бы не пожалел! И прав был бы по-своему; он старая сволочь, он знает жизнь. А тебя учить еще надо.
Она легонько сжала пальцы и корябнула мне голову, уколола остриями ногтей.
— Ах, еще тебя много воспитывать надо. Всему учить — и делам и любви.
— Но ты ж только что сказала, что для любви я гожусь…
— В общем, да, — усмехнулась она, — талант имеется. А вот выучки пока маловато, ты еще простоват, неопытен. Тонкостей не понимаешь. Ну, ничего, я за тебя возьмусь! Главное, чтоб сила была, остальное приложится.
Так мы долго с ней беседовали. И постепенно я угрелся, отмяк. Волна отчаяния, захлестнувшая меня, опала; стало легче дышать. И я сказал погодя:
— Налей-ка, милая, водочки!
— Вот это другой разговор, — согласно кивнула Марго, — это правильно.
Она быстро собрала на стол, наполнила стопки и затем, поднимая свою, сказала:
— Ну, бывай здоров! — и тут же прищурилась пытливо. — Кстати, как ты себя чувствуешь? Как твой грипп?
— Ты знаешь, — медленно, удивленно проговорил я, — а ведь он, по-моему, прошел.
Грипп и действительно прошел! Сказалась, вероятно, та нервная встряска, которую я нынче днем получил; она явилась лучшим лекарством.
— Шумный выдался у нас денек! — вздохнул я и выпил водку и покосился на разбитое окно; за ним уже клубился вечер, густела и реяла синяя тьма.
Где- то там, в наплывающей ветреной темени, шла сейчас погоня за Хасаном… И словно бы отзываясь на эту мою мысль, глухо вскрикнула и застонала во сне Алтына.
Она лежала, разметав руки, дыша неровно и трудно. Брови ее были сведены. Под глазами плавились тени. Две морщинки — две горькие трещинки — обозначились в углах запухшего рта.
— Разбуди ее, Марго, — сказал я. — Пускай выпьет с нами.
— Она не пьет, — отмахнулась Марго.
— Совсем не пьет?
— Ни капли. Она же марафетчица! Курит план… Ну, еще и колется иногда… Она и сейчас под марафетом. Я ей снотворное дала — тройную дозу — пусть отлежится, успокоится.
— А ведь хорошая баба, — сказал я, разглядывая спящую, — молодая еще… жалко.
— Баба! — Марго поджала губы. — Была когда-то бабой… А теперь одно только название. Одна видимость. Декорация, как в театре. Понимаешь?
— Не очень… Объясни.
— Ей операцию делали, — понизив голос, уточнила Марго, — вырезали всё, подчистую.
— Как же это с ней стряслось?
— Ну, чудак. Была больная — и запустила… Неужто не ясно? Слава Богу, попалась мне вовремя. Я подобрала ее, помню, в сарае, в грязи; она совсем плохая была, уже и ходить не могла.
— Не надо, не надо, — забормотала вдруг Алтына. Умолкла на миг и потом сказала тоненько: — Встретимся в порту.
— Ленинград, наверное, вспомнила, — оглянулась на нее Марго, — родину свою… Она, между прочим, из культурной семьи. Отец у нее известный питерский профессор!
* * *
Так узнал я историю грозненской проститутки — Алтыны.
Все началось с марафета.
Впервые она попробовала анашу, когда ей исполнилось шестнадцать лет. В тот год Алтына (тогда ее звали Светланой) приехала из Ленинграда в Ялту, в гости к родственнице своей, к престарелой тетке.
Слоняясь целыми днями по городу, по знойным черноморским пляжам, она вскоре познакомилась с местной уличною шпаной и сдружилась с нею. Стала бывать в притонах. И вот там-то ее научили курить. Ее быстро и многому там обучили…
Старая тетка ее (между прочим, заслуженный педагог, орденоносец, директор районной школы-десятилетки) не заметила в девчонке никаких перемен. Она вообще ничего не замечала до тех пор, покуда не стряслась беда… Светлана исчезла, скрылась из дому и не вернулась больше. Ее сманил и увез с собою одесский уркаган Серега Зверь.
Он гастролировал тем летом в Крыму и случайно — мимоходом зашел в одну из ялтинских портовых малин. Увидел там Светлану. Влюбился в нее. И уже не выпустил из когтей.
Так началась ее босяцкая, блатная жизнь.
Серега Зверь увез ее в Одессу, оттуда они отправились в Днепропетровск; поколесили по Украине, затем попали на Кавказ.
Хороший квартирный вор, опытный домушник, он всюду добывал деньги — немалые деньги! — и тратил их, не скупясь, на свою подругу.
Светлане нравились эти поездки — новизна впечатлений, перемена мест… Она не знала, что Серега мечется по стране, гонимый страхом, спасаясь от мести блатных.
Хороший вор, он был, по сути дела, отвергнут законом: за ним числились старые лагерные грехи! Он ссучился на Колыме, в Заполярье — далеко от здешних мест. А те, кто знали об этом, по-прежнему сидели еще, тянули срока… И все же душа его не могла быть спокойной. На каждом шагу его подстерегала неожиданность — роковая встреча, внезапное разоблачение… Мир мал и тесен — истина эта известна всем. Особенно хорошо ее знают шпионы и уголовники!
И то, чего он боялся, однажды свершилось. На одной из дагестанских станций Серега услышал вдруг чей-то возглас:
— Здорово, ссученный!
Вздрогнул, оглянулся и встретился взглядом с чужим, незнакомым ему человеком.
Человек был незнаком, но сами слова его, и интонация, и грозный, сокрытый в этом смысл — все было знакомо Зверю. Знакомо до ужаса, до тошноты.
Он понял, что его нащупали, нашли. И уже знал теперь, отлично знал про все, что с ним должно случиться.
В ту ночь он пил отчаянно, с надрывом, удивляя свою девочку необычной, почти ребяческой нежностью…
А наутро его не стало. К нему пришли и позвали его к друзьям, на разговор.
По словам Марго, за ним пришла какая-то женщина… И вот тут наконец-то я понял переживания Алтыны, осознал, в чем причина недавней ее истерики.
Она, конечно же, вспомнила собственное свое прошлое! Увидела в том, что случилось, нечто общее с судьбой Сереги Зверя. С ним, очевидно, поступили так же, как и с этим Саркисяном; во всяком случае — вполне могли так поступить.
Серега ушел и канул навечно. Светлана осталась одна — без денег, без друзей, без чьей-либо помощи. Началась новая жизнь, бездомная и бедственная.
Квартиру, где она жила, пришлось оставить, вещи продать. И все же в Ленинград к родителям своим она так и не вернулась, не захотела, не нашла в себе сил.
Она была уже конченой, пропащей. Возврата в прежний мир не было — Светлана это чувствовала и жила бездумно, отрешась от всяких надежд.
Какое-то время она скиталась по югу страны вместе с бродягами и нищими (блатные весьма метко называют их «крахи»), ночевала на вокзалах и пустырях, отдавалась за ломоть хлеба, за одну затяжку анаши… Вот тогда-то и появилось у нее это прозвище — Алтына.
А затем она заразилась. Случилось то, что было, в сущности, неизбежным. Больная, брошенная всеми, Алтына погибала и выжила случайно, благодаря Марго. Встреча с этой бандершей, со знаменитой этой королевой проституток, явилась для нее подлинным спасением.
Марго подобрала ее, пригрела, поставила на ноги. И постепенно, из «подзаборницы» — из дешевой и грязной вокзальной шлюхи — Алтына превратилась в отличную профессионалку, в проститутку высокого класса…
Она лежала теперь, разметавшись на диване, легонько постанывала и что-то горестно лопотала во сне. С виска ее вдоль щеки стекала желтая, с медным отливом, вьющаяся прядка. Голубоватая жилка подрагивала на шее.
— Да, досталось бедняге, — заметил я, пристально, с жалостью разглядывая Алтыну, — хлебнула лиха, что говорить!
Потом, резко поворотившись к столу, взял графин. Налил водки в стакан и опрокинул его в горло, не глотая:
— Все мы здесь, в сущности, покалеченные. Разве не так, Марго?
— Так-то оно так, — повела бровью Марго. — Конечно… Но к чему ты это?
— Да просто. Подумал о жизни… Знаешь анекдот про бочку?
— Нет. Какой?
— Приводят еврея в ад. Там, известное дело, наказывают грешников — поджаривают, вешают за ребро… Сатана говорит: «Выбирай сам, что понравится». Ну, еврей рад. Ходит, приглядывается. Наконец видит: в углу громоздятся бочки, наполненные дерьмом. В них люди стоят по пояс в дерьме и покуривают… «Вот это — по мне», — улыбается еврей. «Залезай», — приказывает сатана. Грешник залезает в бочку. Закуривает. Доволен. А в следующий момент по рупору раздается команда: «Бросай курить — становись на руки!» Понимаешь? Так вот мы все на Руси и живем: одна минута перекура, а остальное время — на руках…
— А что ж делать? — Марго вздохнула коротко. Лоб ее наморщился.
— Но почему нет людям счастья? И если есть оно — то где? Где оно?
— Счастье? — переспросила Марго, помедлила, потягиваясь. И вдруг добавила, раздувая ноздри: — Счастье, голубчик, впереди. А как нагнешься — все сзади!..
* * *
Ночью — уже поздно, накануне зари — явился Кинто. Он пришел усталый, запыленный. Отпыхался, присев к столу, зашуршал папиросами, прикуривая. Потом сказал:
— Я ненадолго… Дела… Значит, так: ушел все-таки татарин. Облапошил нас!
— Он что же, так и не попытался взять свои вещи? — удивился я.
— У него, оказывается, не две хавиры имелось, а три… Мы это уже потом выяснили, случайно. Он все самое ценное, золотишко и гроши, хранил, сукин сын, возле станции, в бараке, у знакомого мужичка одного.
— Все заранее обдумал, — усмехнулась Марго, — все учел… Ловок!
— Вы в том бараке побывали, конечно? — спросил я.
— А как же?!
— Когда это было? В котором часу?
— Где-то около десяти…
— А рванул он отсюда примерно в два часа дня, — я покосился на Марго. — Так?
— Да вроде бы, — замялась она, — не помню уж точно…
— Я помню, — сказал Кинто. — Когда мы вышли с Абреком, было четверть третьего… Но в чем дело?
— За это время через Грозный проходит обычно шесть поездов дальнего следования и несколько местных. Надо бы теперь разузнать…
— Ах, ты вот про что, — махнул рукою Кинто. — Не волнуйся, уже узнали! Он отчалил с ростовским, четырехчасовым. Его ребята на перроне засекли. Жалко, они тогда еще не в курсе были… Но это пустяки. Главное дело сделано. След найден!
— Да, — с облегчением сказал я, — это самое главное. Я разговаривал с Кинто и невольно — каким-то краешком сознания — удивлялся собственным своим словам. Я словно бы раздвоился и никак не мог разобраться в своих ощущениях… Утром еще я усердно разоблачал Хасана. Затем — в конце дня — пожалел его, раскаялся, восстал против жестокостей блатного мира. А теперь вот, узнав, что татарин перехитрил нас и скрылся, я снова жажду мести, помогаю розыску, хочу, чтобы он был взят и наказан!
«Глупо как-то все получается, — подумал я вскользь, — мечусь, раздваиваюсь, противоречу сам себе… Любопытно, какие еще перемены произойдут со мной за эту ночь?»
— Я к вам прямо со сходки, — сообщил Кинто. — Было толковище…
— Ну-ка, ну-ка, — заинтересовалась Марго, — расскажи!
— Пришли все хасановские должники, все его жертвы. Рыл сто — не менее того. Речь держал Ботало. Он сказал: «Найти Хасана — вопрос чести! Дело тут не в грошах, которые он унес в своем клюве, дело в принципе… Так фрайернуться, как мы, — это ж неслыханный позор! Если мы не сыщем татарина, будет смеяться вся босота — от Одессы до Владивостока».
— Хорошо сказал, — одобрил я, — точно!
— Между прочим, — Кинто быстро взглянул на меня, — тебя там все хвалили…
— Он у меня умненький, — Марго ласково потрепала меня по плечу. — Только вот психованный немножко.
— Перестань, — я отвел ее руку и сказал, одновременно хмурясь и улыбаясь: — Какой я умненький? Наоборот, дурак…
— Брось ломаться! — сказал Кинто. — В самом деле — если б не ты, Хасан еще долго бы не был разоблачен. Это всем понятно.
— Ну, а если бы не ты, — ответил я тогда, — Хасан меня прикончил бы здесь — выпотрошил в два счета… Я ведь был в его руках!
— Ну, значит, мы квиты? — медленно проговорил Кинто.
— Выходит, так.
Кинто привстал и протянул мне руку:
— Давай, старик, забудем то, что было! Не обижайся. Не держи зла. Расстанемся друзьями… Идет?
— Идет, — сказал я, пожимая твердую его сухую ладонь. — Но почему расстанемся?
— Так ведь я уезжаю.
— За Хасаном, что ли?
— Ну, да. У нас тут целая бригада создана. Поезд отходит через сорок минут.
Марго сейчас же сказала, наполняя стаканы:
— Выпьем, раз такое дело, — и мигнула глазом. — Пусть все будет хорошо!
— Пусть будет, — сказал Кинто.
Мы дружно сдвинули стопки. Затем он встал, пошел к дверям. И, глядя ему в спину, я вдруг забеспокоился.
— Погоди, — позвал я. — Ты что же, хочешь ехать без меня?
— Так ведь ты болен, — растерянно пробормотал он, оборачиваясь в дверях и теребя картуз. — Мне Марго еще вчера утром говорила…
— Конечно, — сказала, потянув меня за рукав, Марго. — Да и куда ты вообще годишься в таком виде — без штанов? Посмотри на себя!
— Ерунда, — отмахнулся я, — штаны где-нибудь найдем. Правда, Кинто?
Он молча пожал плечами. Тогда я поспешно шагнул к нему и покачнулся, цепляясь за спинку стула.
Комната померкла вдруг и закружилась; предметы сдвинулись, исказились… Красноватое облачко скользнуло по моему сознанию и на мгновение застлало взор. Из багряной этой: мути просочился голос Марго — неясный, звучащий как бы издалека:
— Ну вот, сам теперь чувствуешь…
— Я не болен, — хрипло выдохнул я, — я пьян. Грипп давно кончился… Я просто выпил. Это пройдет.
— Да у тебя же ведь жар, — сказала Марго. И я почувствовал на щеке прохладное прикосновение ее ладони. — Ты ведь горишь. Ложись-ка, миленький, ложись.
— А где Кинто? — спросил я, слабо сопротивляясь.
— Ушел уже, — ответила она, укладывая меня в постель. — Уехал… А ты спи!
Королева и ее друзья
Приключение на сталинском пруду не прошло для меня даром; я жестоко простудился и провалялся в постели, в жару, две недели.
За это время я успел приглядеться к Марго и слегка разобраться в ее делах.
Дела у нее были большие и самые разные.
Марго, как оказалось, возглавляла не только ростовский, известный мне притон. Она входила в солидную корпорацию — была там кем-то вроде члена правления. Корпорация эта охватывала почти все города Северного Кавказа, ей принадлежали десятки подпольных увеселительных заведений.
Занималась Марго и другим прибыльным бизнесом: перепродажей ворованных «темных» вещей, а также документов. Именно это последнее обстоятельство и привело ее теперь в город Грозный, в столицу Чечено-Ингушетии.
Здесь, я чувствую, должен объясниться. События, о которых я вам рассказываю, происходили в 1946 году — вскоре после того, как была по приказу Сталина почти полностью ликвидирована небольшая эта республика…
…Как и в эпоху вавилонского пленения, шли по горным дорогам люди, нагруженные скарбом; мычал, разбредаясь скот; плакали дети в ночи. Все было, как в баснословной древности! Только конвой, подгоняющий народ, одет был в красноармейские шинели.
Людей согнали к железнодорожному полотну, погрузили в товарные составы и отправили на поселение в Среднюю Азию, за Урал и в Сибирь. Операция эта проделана была довольно ловко, со знанием дела. Территорию республики очистили в короткий срок.
Очистили быстро, но все же не полностью. Дело в том, что высылке подлежали не все вообще жители гористой этой страны, а только ингуши и чечены; только те, у кого были определенные паспорта.
Некоторые из них сумели укрыться во время облавы, спастись от нее. Иные бежали с этапа и тайно вернулись в родные места. И всем им теперь необходимо было обзавестись новыми бумагами.
Неожиданный спрос породил ответное предложение; мгновенно возник черный рынок, снабжающий население всякого рода «ксивами» — паспортами, справками, метрическими свидетельствами и удостоверениями личности.
В Грозный и в соседние города съехались фармазоны и мошенники всех мастей и разрядов. Они потянулись сюда с разных концов Советского Союза. Больше всего было здесь специалистов из Ленинграда и Одессы. С одесситами, в основном, и держала контакт Королева Марго.
Она ведь и сама была родом из Одессы, из этого русского Марселя! Выросла там, в портовых кабаках, и прошла хорошую школу.
Марго была старше меня на семнадцать лет и помнила еще классическую воровскую Одессу: Одессу Мишки Япончика, Семки Рабиновича и Соньки Золотой Ручки; мир контрабандистов и портовых жиганов, дерзких налетчиков и рыцарей Молдаванки.
* * *
Ее частенько посещали старые друзья. Приходил некто Марк, тщедушный и юркий, с аккуратно подстриженными усиками над тонким безгубым ртом. Он постоянно хихикал, поеживался и мелким нервным движением потирал ладонь о ладонь.
Усевшись, он тотчас же поджимал одну ногу под себя, а другую закручивал штопором вокруг ножки стула. И в такой позитуре, ежась и потирая ладони, подолгу беседовал с Марго, предавался воспоминаниям… Они знали друг друга с детства, росли на Черноморской, в одном доме, и с умилением, с элегической грустью вспоминали ранние свои годы.
— Твоя покойная мамаша, Марго, — говорил он, ерзая на стуле, — была умная женщина. Нынче таких нет и больше уже наверняка не будет… Не помню, в каком, дай Бог сообразить, кажется, в двадцать восьмом году, когда я получил первый приличный гонорар за аферу с товарными накладными, она сказала: «Марк, мое старое сердце радуется, глядя на молодежь. Все вы помаленьку выходите в люди. Давно ли с Марго дрались из-за горшка и бегали, размазывая по улицам сопли? А вот сейчас ты уже — фармазон, уважаемый человек. И девочка моя тоже хорошо устроена. Я видела, в каком-белье она ходит! Такого белья нет даже у жены итальянского консула. А если. кто скажет, что это не так, то пускай он горит огнем… Я рада за молодежь и могу теперь умереть спокойно!»
Нередко вместе с Марком приходили братья Новицкие — известные граверы, специалисты по изготовлению печатей. Тогда в доме становилось шумно. Новицкие были люди веселые. Один из них, Аркадий, хорошо играл на гитаре. Другой, старший брат Яков, любил произносить застольные тосты.
Тосты были у него замысловатые, длинные, и начинал он их издалека… Летела однажды стая птичек, — повествовал он, вздымая над столом стакан и выпячивая толстые сальные губы. — Она летела долго и приморилась, но продолжала-таки свой путь. И лишь одна маленькая птичка — хитрая птичка, в сущности говоря, эгоистка! — решила сачкануть и попастись на травке… И вот она опустилась в кусты и подумала: «Нехай другие вкалывают, а мне и тут хорошо!» Но фрайерскую эту мысль она не успела додумать, потому что ее мгновенно сожрали волки… И правильно сделали, конечно! Но к чему я это все говорю? Я к тому это все говорю, что никому и никогда нельзя отбиваться от стаи. Надо всегда держаться своих, быть возле своей бранжи. Это закон диалектики! И сейчас я пью за нашу Марго, пусть она живет двести лет, за нашу королеву, которая знает законы и понимает; что — почем… Когда здесь, на Кавказе, запахло жареным, она сразу же вспомнила Одессу и вызвала нас! Когда-то давно мы помогли ей… Помнишь, Аркашка, какую справочку мы замастырили для губернского суда? Когда защитник Марго предъявил ее, обвинителя хватил инсульт, он потерял дар речи и, насколько мне известно, не может обрести его по сей день… Мы выручили Марго, помогли ей, а теперь она помогает всем нам. И это прекрасно!
С братьями Новицкими у меня случился однажды забавный разговор.
Помню, я дремал… И был разбужен рокотом голосов. Братья толковали, как я понял, о паспортном режиме, о внутренней политике государства. Я слушал их некоторое время, а потом сказал:
— Вы мне вот что объясните… Здешняя республика еще недавно находилась как бы на осадном положении, была наводнена войсками МВД. Да и сейчас еще тут полно чекистов. Ведь так?
— Так, — согласились братья.
— Почему же в таком случае власти не трогают нас — уголовников, не мешают нам?… Как это понять?
— Очень просто, — сказал Аркадий. — Охраной порядка занимается здесь не столько милиция, сколько военная комендатура. А ей уголовники не интересны. Ей ингуши интересны. Вообще, политические враги.
— Но какие же враги ингуши? — усомнился я. — Дети гор, что они понимают в политике?
— Они-то, может, не понимают. Зато МВД все понимает отлично!
— А кстати, в чем они провинились? За что их?
— Ч-черт их знает, — проворчал Яков и почесал кудлатую свою рыжую бороду. — Разве поймешь? Да это и неважно. В партии ведь блатные порядки. Если кого обвинили, он должен тут же оправдаться. Не сумел — значит враг!
— У Сталина есть одно высказывание, — подхватил Аркадий, — не помню уж точно, как там… Что-то вроде того, что «если бы мы придерживались своих законов так же, как и блатные, мы бы давно уже достигли коммунизма».
— Ну, это ты, Аркашка, врешь, — сказала Марго.
— Лопни мои глаза, не вру, — серьезно ответил Аркадий. — Поройся в его книгах, найдешь!
— А ты что ли, рылся?
— Я — нет. А вот Костя Граф читал! Он мне и сказал об этом… Насчет Кости, я думаю, ты сомневаться не будешь?
— Ну, если Костя, — пожала круглым плечом Марго.
— Ну, если Граф, — как дальнее эхо отозвался Яков. Аркадий взял с пола гитару, лениво ущипнул струну, потом под тягучий звон ее проговорил насмешливо:
— Вообще, если вдуматься, Сталин — он кто? Он ведь самый настоящий уголовник. Такой же, как и все мы.
— Как мы? — с обидой возразил Яков. — Нет уж, извини. Я не согласен. Мы, фармазоны, все-таки интеллигенция. А он, судя по всему, обыкновенный авлабарский блатарь…
— Эх, был бы он блатарь, — заметил я тогда, — был бы он блатарь, я бы вызвал его на толковище, предъявил бы ему пару слов… Нет, ребята, вы урок не обижайте. Хоть он и такой же, как мы, но все же не наш!
— Ну, значит, просто ссученный, — медленно и звучно сказала из угла Королева Марго.
* * *
Костя Граф, о котором упоминали братья, был высок, дороден и совершенно лыс. На хрящеватой его переносице поблескивало пенсне в золотой оправе и во рту, когда он улы- бался, виднелись два ряда золотых зубов. Сын галицийского портного, он выдавал себя за шляхтича, за польского аристократа, и, надо сказать, это ему удавалось вполне! Лощеный, надушенный, всегда отлично одетый, Костя производил внушительное впечатление.
Это был деятель крупного масштаба — ученик легендарного Рабиновича, один из последних представителей вымирающего племени кукольников и аферистов.
Было интересно слушать, как он и Марго разговаривали, перебирая имена былых друзей и знакомых и поминая своих учителей.
Потягивая кислое вино (Граф пил только сухие вина — водки не признавал), дымя сигареткой, вправленной в длинный янтарный мундштук, он говорил, слегка гнусавя и небрежно растягивая гласные:
— Ах, душа моя, как быстро, как стремительно бежит время! Страшно подумать: ведь почти никого уже не осталось… А какие были люди, Боже ты мой! Какое общество собиралось на Дерибасовской, в Ланжероне и там — ну помнишь? — где я впервые с тобой познакомился…
— Ты, наверно, имеешь в виду малину на Пушкинской, — подсказывала Марго, — напротив табачной фабрики? Со мной еще была тогда Любка Блоха. Ее потом зарезали в порту.
— Вот, вот. На Пушкинской… Какое изысканное общество! Сема, Сонечка, Коля Грек. Бывали, конечно, и другие — Япончик, например. Но я, признаться, Мишу не любил за грубость. Я, душа моя, ценю интеллект, блеск, остроумие. Сейчас это все дефицит. А тогда… Ты, между прочим, настоящей Одессы почти уже не застала, при тебе она начала мельчать. Но все-таки еще были люди! Твоя покровительница — Золотая Ручка — это же прелесть, умница, пока не нахлещется, правда. Но тут уж другое дело. С пьяной женщины какой спрос?
— Вот эти самые слова, — смеялась Марго, — эти слова, я помню, она сказала однажды Семке после того, как облевала ему пиджак. «Мосье Рабинович», — сказала она…
— Да, да. Я тоже помню. Но не в этом суть. Главное, кончаются, уходят последние аристократы. Кстати, в тридцать втором, на Беломорканале, на войтинском участке, я встретил своего учителя… Матерь Божья, во что превратили человека! Он, знаешь, совсем доходил тогда — худой был, оборванный, глаза слезятся, руки дрожат… Это — знаменитые Семины руки! Руки гениального мастырщика! И теперь ты скажи мне: как после всего этого жить на свете?
Граф умолкал на мгновение, томно прихлебывал вино. И затем продолжал уже другим, суховатым тоном:
— Но жить все-таки надо… А посему, моя прелесть, давай-ка перейдем к делу!
В сущности, дело, каким занималась здесь Марго, было крайне простым. Она поставляла аферистам различные документы, которые скупала у местных карманников.
Регулярно по субботам ее навещала пожилая благообразная дама с хозяйственной сумкой. Туго набитая эта объемистая сумка содержала в себе недельную добычу ширма-чей.
На Марго работало несколько блатных артелей не только в Грозном, но ив Махачкале, и в Орджоникидзе. Каждая из артелей посылала товар свой в отдельном свертке. Марго принимала эти свертки и тут же рассчитывалась с посыльной. Платила она по твердой таксе (чистый новенький паспорт стоил 300 рублей, потрепанный — в половину меньше; профсоюзные билеты и всяческие удостоверения котировались от полутора до двух с половиной сотен).
А затем уже появлялись ее друзья.
В основном, это были, как я говорил, одесситы… Но все же у нее имелись и другие знакомства.
* * *
Время от времени в дом к Марго наведывался смуглый худой горбоносый мужчина — не то грек, не то цыган по прозвищу Копченый. Он тоже был давним ее приятелем. Но где и когда они познакомились, и откуда он родом, этого я так и не смог понять. Во всяком случае, одесситом Копченый не был! Он не терпел пустой болтовни, не любил предаваться сентиментальным воспоминаниям. Молчаливый и сдержанный, он с ходу садился к столу и, посвистывая и щурясь, подолгу рылся в документах; шуршал ими, разглядывал на свет.
Потом, отобрав то, что нужно, и упрятав ксивы в портфель, Копченый уходил, оставляя Марго толстую пачку денег. Расплачивался он всегда щедро, не торгуясь, давал гораздо больше, чем другие.
Марго упрашивала его посидеть и выпить водочки… Как правило, Копченый отказывался: был занят, вечно куда-то спешил. Но как-то раз он все же уступил и остался, и выпил. И вот тогда мне показалось на мгновение, что я смогу о нем хоть что-то узнать.
Случайно, вскользь, Копченый упомянул о Бухаресте; оказывается, он там виделся с Марго еще в 1942 году…
«Ага, — подумал я, — румын, вот он кто! Ну, конечно».
Но тут же он, кривя жесткий свой рот, начал почем зря бранить этих самых румын.
Удивительное дело, изо всех друзей Марго сумрачный этот человек заинтересовал меня сильнее всего; в нем угадывалась какая-то странная, неясная для меня сила.
Я выбрался из постели (к тому времени я выздоравливал уже и начинал ходить), подсел к столу. Мы разговорились с Копченым. И я с удивлением узнал, что он уроженец Новочеркасска.
— В таком случае, — заявил я, — ты должен был бы слышать о Денисове.
— Денисов? — он поднял брови. — Был, кажется, такой генерал…
— Главнокомандующий Донской белой армией, — уточнил я, — совершенно верно! Так это мой родственник — со стороны матери.
— Родственник? — проговорил он удивленно. — Занятно… Что же с ним произошло? Кокнули старичка?
— Да нет. Уберегся, бежал. Теперь за границей живет. Там, между прочим, почти вся моя новочеркасская родня.
— Где? В каком месте?
— Во Франции вроде бы. В Париже.
— Ах, Париж! — протяжно, со всхлипом вздохнула Марго. — Ах, Париж… Город моей мечты. Обожаю Францию! Завернуть бы туда на полгодика, взглянуть бы на настоящую жизнь…
И она пропела негромко:
Там девочки танцуют голые,
Там дамы в соболях.
Пижоны платят золотом,
А урки носят фрак…
— Да, действительно, — пробормотал я, — взглянуть бы… Но как? Как это сделать?
— У тебя есть о них какие-нибудь сведения? — спросил Копченый деловито.
— До войны мать переписывалась с кем-то, не помню уж с кем, с теткой, кажется. А потом — сам понимаешь. Война началась…
— Может, никого уж и не осталось, — сказала, потрепетав ресницами, Марго.
— Ну, это вряд ли, — сухо усмехнулся Копченый. — Белогвардейцы — народ живучий. Да и гестапо их не трогало, не преследовало. Скорее, наоборот!
— Как бы то ни было, — сказал я, — Франция далеко, и попасть туда трудно… Да что трудно — невозможно!
— То есть как невозможно? — отозвался Копченый. — Ерунда! Все возможно.
Он помолчал в раздумье, постукал пальцами о край стола, затем спросил, сощурясь:
— Ты и в самом деле хотел бы уйти за рубеж?
— Конечно, — сказал я.
— Это серьезно?
— А ты, ты-то со мной как говоришь, серьезно? — задал я встречный вопрос.
— Я, знаешь ли, вообще не шутник, — сказал он медленно и хотел еще что-то добавить.
Но тут в разговор вмешалась Марго.
— Постой, постой, — перебила она Копченого, — не путай ты, ради Бога, мальчишку, не сбивай с панталыку!
И она подалась ко мне — прижалась тяжелой своей шевелящейся грудью:
— Допустим, ты уйдешь туда… Но что ты там делать будешь, а? Углы отворачивать? На этом не разбогатеешь: дорожные кражи там не в чести… А ты ведь только это и умеешь!
— Не только это, — ответил я в замешательстве, — не только…
— А что же еще?
— Ну, не знаю… Там видно будет.
— Видно будет в результате то же самое, что и здесь: небо в крупную клетку. Решеточку.
— А хотя бы и так?! — я поскреб в затылке. — Что меня, тюрьмой испугаешь?
— Но учти, миленький, ихние тюрьмы другие. И вообще все другое. В российском кичмане ты, как блатной, имеешь свои привилегии. Здесь ты аристократ, а там… Там станешь полным дерьмом, уж поверь мне! Кому ты там будешь нужен — иностранец, пришлый бродяга, не знающий ни обычаев, ни языка…
— А ты, я вижу, любишь этого парня! — сказал вдруг Копченый и впервые за все это время засмеялся. — Признайся, ведь любишь?
— С чего ты взял? — смутилась Марго. — У меня, скорей, материнские чувства…
— Вот это как раз самое опасное, — заметил, позевывая, Копченый. Взглянул мельком на часы и нахмурился озабоченно, заторопился уходить.
— Послушай, — сказал я, — а где ты вообще обретаешься?
— Да как тебе сказать, — затруднился он, — я, дружок, все время в разъездах. На днях вот должен побывать в Северной Осетии, в Орджоникидзе. Оттуда придется махнуть в Ростов, а потом — на Украину. Ну а после, может быть, снова сюда заеду! Хотя… — Копченый наморщился, покусал губу. — В этом я не очень уверен…
— Но как же тебя разыскать? — спросил я. — Может, ты мне еще понадобишься?
— Понадоблюсь? — он пристально, исподлобья, посмотрел на меня. — Это — насчет Парижа?
— Ну, допустим.
— Что ж, — протянул он, — если ты уж так решил… Ладно! Ты город Львов знаешь?
— Слышал, — сказал я. — Кажется, он где-то в Западной Украине?
— Точно, — кивнул Копченый. — Самый западный изо всех советских городов… Ну, так вот. Там у меня есть друзья. Обратись к ним, они сделают все, что нужно. Сейчас я тебе дам ксивенку…
Он быстро начертал что-то на вырванном из блокнота листке. Затем извлек из портфеля плотный белый конверт, выложил в него записку и заклеил тщательно.
— Вот, — сказал он, — держи! Желаю удачи.
— Но… Где же адрес? — удивился я, вертя в пальцах письмо.
— Адреса не надписывают, их запоминают, — наставительно проговорил Копченый. — Усвой это правило накрепко!
— Теперь ты видишь, — сказала Марго, — видишь, какой он еще глупый…
— Ничего, — отмахнулся Копченый, — образумится со временем, обтешется, — и, цепко взяв меня за локоть, приказал: — Теперь слушай внимательно!
Он продиктовал мне адрес: назвал улицу, дом, имя того человека, к которому я должен, буду обратиться. Заставил два раза повторить все это. И, наскоро простившись, ушел.
Он ушел, а я долго еще не мог заснуть в эту ночь.
Я думал о парижских своих родственниках; закрыв глаза, пытался вообразить себе их лица. До этого я почти никогда не вспоминал о них, не было случая… Все, что связано было с Беляевскими и Денисовыми, казалось мне далеким, почти нереальным. Теперь же я припомнил вдруг все, о чем когда-то рассказывала мне мать. Я пытался увидеть их — и не мог. Перспектива заволакивалась зыбким туманом. В тумане этом маячили очертания Парижа; угадывался чужой, таинственный и манящий мир. «Каков он будет в действительности? — думал я, засыпая. — Как примет меня? И что я там найду? Может, там меня, наконец, ждет отдых и избавление от скитаний. А может, все это, как мираж: протяни к нему руку — и видение испарится, развеется».
На распутье
А утром письмо Копченого исчезло.
Оно лежало в изголовье — под матрасом. Я хватился его тотчас же, как только проснулся. Не нашел и понял: письмо у Марго.
Подруга моя была на кухне, возилась там, сильно гремела посудой. И когда я позвал ее, вышла не сразу.
— Зачем ты это сделала? — спросил я строго.
— Что именно, — с деланным удивлением проговорила она. — Ты о чем?
— О письме…
— А что случилось?
— Не кривляйся, — сказал я, — и объясни, зачем? Ну? Я жду!
Тогда она как-то ослабла вся, опустилась на стул, сдавила лицо ладонями. И так сидела какое-то время, затем сказала медленно:
— Неужели ты и взаправду хочешь этой ксивой воспользоваться?
— А почему бы и нет? — беззаботно ответил я. — Впервые в жизни мне выпал хоть какой-то шанс, запахло удачей…
— Ты уверен, что именно удачей?
— А ты? — спросил я в свою очередь. — Ты не уверена?
— Нет, — сказала она.
— Но почему? Что ты имеешь в виду? Сложности, связанные с переходом через границу?
— И это-тоже, — кивнула, наморщась, Марго. — Ты, наверное, не представляешь…
— Ах, да что тут представлять, — возразил я. — Ну, рисковое дело, я знаю. Ну что ж. Не привыкать! Кроме того, я ведь не сам пойду, мне помогут.
— Но все-таки, — тихо проговорила она, — подумай: ты доверяешь свою судьбу чужим людям…
— Надеюсь, люди эти надежные, знающие работу?
— Да уж будь уверен, — Марго усмехнулась хмуро. — Свою работу они знают!
— А вообще-то, кто они? — поинтересовался я. — Валютчики? Контрабандисты?
— Ну, если хочешь, — сказала она, запинаясь, — что-то в этом роде. У Копченого друзья повсюду и самые разные! Этот турок крутит большие дела.
— Погоди, почему турок? — удивился я. — Он же ведь из Новочеркасска! Донской казак!
— Это он так тебе говорил, а мне — я помню — рассказывал, что родился в Константинополе, в Перу. Оно и похоже. А в общем, все это неважно! Я хочу тебе главное втолковать — не спеши, не горячись, не ищи себе новых приключений!
— Но послушай, — начал я, — ты же сама понимаешь…
— Понимаю, — перебила Марго, — понимаю, глупыш. Ты устал, психуешь, ищешь перемен. Но как все обернется? Что тебя ждет? Может так случиться, что ты этим переменам не обрадуешься, а будет уже поздно.
— Значит, ты что же, хочешь, чтобы я отказался?
— Да нет, не в этом дело, — досадливо и тоскливо ответила Марго. Она словно бы недомогала сейчас — томилась и маялась отчего-то… Отчего?
— Повремени покуда, — трудно выговорила она затем, — подожди еще. Ну а если совсем уж станет невтерпеж — тогда другой разговор! Тогда беги во Львов, отваливай. Держать тебя никто не станет.
— Что ж, пожалуй, — сказал я после мучительного раздумья, — торопиться, в общем, некуда — ты права! Но все же письмо…
— Ах, пусть оно пока у меня побудет, — быстро сказала Марго. И как-то странно, по-птичьи — боком и снизу вверх — глянула на меня дымящимися своими, черными зрачками. — Ты паренек безалаберный, небрежный. Еще посеешь его где-нибудь, обронишь невзначай. А ксивы Копченого терять нельзя. Нипочем нельзя, упаси тебя Бог! Страшно даже подумать!
* * *
Итак, письмо осталось у Марго. Поразмыслив, я примирился с этим, не стал его домогаться. Где-то в глубине души я сознавал правоту моей подруги; спешить и в самом деле было пока ни к чему…
«Подожду еще немного, попытаю судьбу, — решил я, — время терпит. А письмо — что ж… В руках Королевы оно сохранится гораздо надежнее, чем в моих! Тут спорить не о чем».
Вскоре мы с ней покинули Грозный; перебрались ненадолго в Закавказье, побывали в Средней Азии — в Туркмении и Узбекистане, а затем отправились на Дальний Восток.
Поездки эти связаны были с моим ремеслом майданника. Но имелось и еще одно обстоятельство. Задумав побег из России (сроки здесь не имели принципиального значения — важна была идея!), решив рано или поздно уйти за рубеж, я заразился вдруг странной сентиментальностью. Я колесил по дорогам страны, снедаемый тем смутным беспокойством, той щемящей грустью, какая обычно охватывает нас накануне разлуки с родными местами… В такой ситуации человек обретает как бы второе зрение, особое чутье; проникается болезненным и пристальным вниманием к мелочам… Все, что казалось ему доныне мелочным и пустячным, — окрестный жиденький пейзаж, осколок луны в дорожной луже, скрип половицы в избе — все становится вдруг ярким и значительным, насыщается новым смыслом.
И вот теперь мне хотелось вобрать в себя все это, запомнить и сберечь навечно!
Я разъезжал по Востоку, метался, тосковал и подолгу застревал на захолустных полустанках. И всюду меня сопровождала Марго.
Умница, она понимала меня, видела, что со мной происходит! И нигде не оставляла меня одного. Но вот что любопытно: занимаясь мною, Марго ни на миг не забывала о своих делах. Они имелись у нее повсюду. В Ашхабаде и Бухаре она промышляла перекупкой наркотиков, в основном анаши и тирьяка; во Владивостоке — какими-то темными, кажется, валютными операциями.
Да, это была поистине деловая женщина! В каждом городе имелись у нее друзья, находились деловые партнеры. Стоило нам приехать — и тотчас же появлялось надежное жилье… Должен признаться, что никогда еше не кочевал я столь комфортабельно, с такими удобствами. И, кстати, это моя связь с. Марго помогла мне по-настоящему осознать всю мощь и масштабность преступного подполья.
Уголовный мир существует, в принципе, всюду; любое общество делится на два пласта, на два слоя: внешний, видимый, и подземный.
Нелегальный этот пласт является как бы зеркальным отражением другого. Здесь, в глубине, имеется все то же, что и на поверхности. Здесь есть свои вельможи и свои плебеи, свои правонарушители, свои блюстители правил, своя общественная жизнь.
Конечно, жизнь эта в каждой стране организована по-своему, в соответствии с местными традициями и укладом.
Пожалуй, ближе всего к подземному миру России (насколько я теперь могу судить) находится итальянская мафия. Русских и итальянских уголовников в этом смысле роднит многое.
Но все же есть и различие — весьма существенное! Заключается оно, прежде всего, в том, что российский преступный мир (в отличие от итальянского) не имеет ни малейшего касательства к общественно-политическим делам страны. Он живет своей сокровенной жизнью, своими специфическими интересами. Для блатных внешний мир, в принципе, то же, что курятник для хорьков и лисиц… Проблемы, потрясающие курятник, хорьку неинтересны. Для него главное — проникнуть туда, полакомиться и вовремя унести ноги. Итальянская же мафия, насколько я могу судить, чувствует себя в курятнике как дома. Она не только лакомится, но еще и распоряжается: кому где сидеть, кому какое зерно клевать…
Уголовный мир на Руси возник в незапамятные времена. В Петровскую эпоху под одной только Москвой — по официальным сведениям — насчитывалось более тридцати тысяч разбойников! Знамениты этим были, однако, не только крупные центры, но и мелкие, казалось бы вовсе не значительные города. На этот счет в народе существует немало поговорок. Вот, например, «Орел да Кромы — первые воры, а Елец — всем ворам отец». Блатные имелись, во множестве, но были разобщены, орудовали отдельными шайками… Единая мощная организация возникла лишь в конце прошлого столетия.
Особенно разрослась и упрочнилась эта организация после революции, в годы нэпа. К началу Великой Отечественной войны она уже охватывала всю территорию государства, а ведь это одна шестая часть света! После войны — о чем уже было сказано — в блатной среде произошел раскол, началась смута, приведшая к жесточайшей резне. Российская мафия (я все же воспользуюсь этим словечком) помаленьку стала рушиться и хиреть…
Я соприкоснулся с ней в ту пору, когда процесс этот только еще начался, наметился. Внешне организация была сильна. Распад, как известно, возник в лагерях, в застенках, а на воле пока еще было тихо тогда! Жизнь шла своим чередом. Подпольный мир выглядел незыблемым. И единый, общий для всех кодекс морали еще действовал повсюду — в любой точке страны — от Финского залива до побережья Японского моря.
* * *
Там, у Японского моря — во Владивостоке, в припортовой пивной — узнал я наконец подробности, связанные с делом Хасана.
Об этом рассказал старый мой приятель — майданник Ботало.
Мы встретились случайно. Было людно в пивной; шумели за столиками портовые бичи, теснились иностранцы — американские военные моряки, «торгаши» из Англии, канадские зверобои… Губастый мулат в тельняшке и пестром шейном платке (матрос из Юконской флотилии) покосился на Марго лиловым выпуклым глазом, мигнул, щелкнул языком и плотоядно оскалился.
Я тотчас же напрягся в раздумье: обидеться или, может, не стоит?… Не люблю я, должен признаться, терпеть не могу, когда с моими бабами заигрывают всякие фрайера!
Мулат еще мигнул и что-то крикнул гортанно и вызывающе. Тогда я обиделся уже всерьез; нахмурился и шагнул к нему, шатнув соседний столик. Сидящие там англичане загалдели. Я погрозил им кулаком. Они тоже решили обидеться: долговязый, в рыжих веснушках парень произнес взволнованный монолог. Другой, в мохнатом свитере, приподнялся, ворча.
Назревал скандал. Кто-то свистнул пронзительно. Мулат по-прежнему ухмылялся, нагло скаля лошадиные зубы.
Крупные, в складках сморщенной кожи, руки его темнели на скатерти, отчетливо выделялись на ней. В одной руке дымилась сигарета, другая медленно ползла к краю стола — к бутылке… Вдруг он резко привстал и ухватил бутылку за горлышко. Я полез в карман за ножом. Мгновенно пивная затихла — люди смолкли выжидательно. В этот самый момент кто-то взял мулата сзади за плечи и резко — рывком — отодвинул его в сторону. И я увидел широкую загорелую физиономию Ботало.
— Привет, Чума, — сказал он, обходя мулата (тот сразу присел к столу и затих), — вот уж не думал встретиться. Ты чего тут хипеш устраиваешь? Действительно, Чума! А ну-ка, спрячь перо! Там на улице полно мусоров, только и ждут скандала.
Затем он галантно поздоровался с Марго, уселся за наш столик и, прихлебывая пиво, вертя в пальцах папироску, неторопливо стал рассказывать о последних событиях и новостях.
Хасана, как выяснилось, прикончить удалось не сразу. Какое-то время он заметал следы, ловко уходил от погони и заловился лишь в предместье Одессы, в Люйстдорфе. Там блатные и рассчитались с ним. Однако в завязавшейся перестрелке ранен был не только он, но и друг мой — Кинто. Теперь он лежал в одной из одесских малин, жестоко мучился (пуля попала ему в правый бок) и беспрерывно поминал меня — тосковал, хотел повидаться…
— Очень он неосторожен был тогда с Хасаном, — гудел сокрушенно Ботало. — Татарина легко можно было взять сзади — с берега… из-за камней… Мы так и думали. А Кинто поперся прямо, в лоб. Ну и напоролся, бедолага. Лежит сейчас, загибается.
— Но его хоть лечат? — спросил я.
— Лечат, — махнул он рукой.
— И что же врачи говорят?
— Разное… — Ботало засопел, насупясь. — В общем, дело тухлое. Надежды, говорят, маловато.
Я поворотился к Марго. Она посмотрела на меня молча и понимающе, вздохнула слегка и опустила ресницы.
Все было ясно без слов: пришла пора возвращаться на юг! И ехать надо было немедля.
Рука судьбы
Всю дорогу я волновался и нервничал, боясь опоздать… И опоздал! Кинто умер за сутки до моего появления.
Манька Халява — хозяйка той малины, где он находился после ранения, — причитая и всхлипывая, вынесла из задних комнат небольшой узелок.
— Это для тебя, — сказала она, — Кинто специально просил передать.
Узелок был увесист; что-то в нем глухо звякало и перекатывалось. Недоумевая, я развязал тряпицу и увидел золотишко. Узнал те самые вещицы (кольца, брошки, медальоны, часы), которые Кинто похитил когда-то из моего тайника и затем проиграл Хасану.
Из- за этого дерьма мы поссорились, разошлись с ним. И вот теперь мертвый друг отдавал мне старый свой долг…
У меня дрогнули руки. Узелок распался, часы и кольца покатились со звоном по полу.
— На кой черт, — пробормотал я, — на кой мне все ото? Проклятое рыжье.
И, взглянув на медальон, подвернувшийся мне под ноги, я с силой надавил на него каблуком.
Медальон хрустнул. Манька Халява — усатая грузная старуха — пала с воплем на пол и цепко схватила меня за ногу.
— Не губи вещь, — застонала она, — это ж деньги стоит!
— Ну а сколько? — быстро спросил я.
— Теперь уж и не знаю…
Она, кряхтя, собрала обломки в ладонь, подняла на меня белесые, выцветшие глаза:
— Разве ж так можно все-таки? Побойся Бога, жиган! За этакую штучку — была бы она целая…
— Я не про медальон спрашиваю, я вообще… Сколько весь этот товар в целом тянет? Что за него можно взять?
— Ну, тут надо сообразить, потолковать кое с кем, — Манька распрямилась, отвела со лба седую растрепанную прядь. — Золото золоту — рознь, сам понимаешь! Опять же хлопоты… Товар-то ведь темный.
— Хорошо, — сказал я. — Соображай, делай что хочешь! А пока… — я сложил щепотью пальцы и выразительно пошевелил ими. — Задаточек!
— Сколько же тебе дать?
— Сколько не жаль.
Мы быстро сладили с ней, и я получил в качестве задатка хрустящую пухлую пачку червонцев.
Получил — и на следующий день запил, загулял.
* * *
Период этот помнится мне неотчетливо. Я жил тогда, как в полусне. Постоянно хмельной, помутненный, с воспаленной, какой-то стонущей душою, шатался я по городу — по злачным местам — бесчинствовал и предавался маразму. Я не только пил тогда, я еще и баловался марафетом. К наркотикам я приобщился уже давно; на Кавказе курил анашу, во Владивостоке и Средней Азии — опиум. Пробовал также морфий и кокаин.
Кокаин нравился мне, пожалуй, больше всего… Его, как известно, нюхают. Однако опытные марафетчики предпочитают не нюхать порошок, а втирать его в десны. Способ этот гораздо практичнее обычного; проникая со слюною в желудок, отрава держится дольше и действует сильней.
Я вот сказал: кокаин мне нравился. Тут я выразился не совсем точно. В принципе, ни один наркотик не нравился мне по-настоящему, всерьез, так, чтобы я не мог от него отречься. Тяжелая расслабленность и сонливость, наступающая после одной-двух трубок опия, болезненная истома, связанная с морфием и тирьяком, а также острое возбуждение, которое приносит кокаин, — все это казалось мне в результате чересчур утомительным и довольно скучным.
Да, да, скучным! Я видел сотни марафетчиков в России и вижу их тысячи здесь — на Западе; мои слова их могут удивить. Что ж, каждому свое. Я не чувствую настоятельной необходимости в том, чтобы регулярно подогреваться таким способом или, наоборот, тупеть и раздваиваться, погружаясь в небытие… В состоянии такого вот «небытия» однажды погиб — был зарублен топором — хороший мой приятель, кореец Ким.
Произошло это под Иманом, в Приморском крае. Насосавшись опия — выкурив несколько трубок — Ким лежал на циновке и «плыл» (так по-блатному называется ощущение, которое возникает под действием наркотика). Он «плыл» и улыбался и, когда увидел занесенный над собою топор, даже не шевельнулся, ни о чем не спросил. Он принял удар безропотно и блаженно. И таким я его запомнил: рассеченный, раскроенный череп — и застывший в улыбке рот. Мертвый рот, по которому ползали, жужжа, зеленые навозные мухи.
Нет, я не любил так «плыть». И к помощи наркотиков прибегал лишь изредка, в те минуты, когда душа, изнывая, просит разгула и жаждет мгновенных утех.
Самым лучшим средством в подобных случаях является хороший глоток спирта, крепкая сигарета и в дополнение — несколько крупинок кокаина. Крупинки эти берешь на палец, тщательно втираешь их в десны, затем ждешь некоторое время. И внезапно чувствуешь, что мир не так уж безнадежно плох, как это только что казалось!
* * *
Да, я жил в те дни как в полусне. Алкогольный бред сочетался с бредом марафетным; все это тяжкой мутью заволакивало сознание. И в памяти моей — сквозь давнюю эту муть — сквозят лишь случайные, отрывочные картины.
Мне видятся одесские катакомбы: затхлый пещерный полумрак, шумное сборище, какие-то девки — голые и расхлыстанные. Одна из них сидит на земле, положив на колени мне голову. Она сидит и что-то лопочет протяжливо: то ли поет, то ли плачет, не разберешь. Лица ее я не помню. Помню только татуировки. Низ живота ее украшен крупной овальной надписью: «Добро пожаловать!» На одной ноге — на гладкой ляжке — начертано: «Смерть легавым — жизнь блатным». На другой — изображено сердце, пронзенное стрелою, и под ним: «Помру за горячую еблю!»
Мне видится также цыганский табор в предместьях города, на Ближних Мельницах. (Цыгане ютились там не в шатрах, как обычно, а в бараках, — это были, так называемые, «зимующие цыгане».)
…Развалясь на пыльном ковре, я покуриваю и беседую с цыганами о Копыловых; семью эту знают здесь. Недавно только виделись в Армавире со стариками и с Машей; у нее, оказывается, родился сын — сероглазый горластый парень, названный Михаилом.
— А отец, — волнуясь, спрашиваю я, — отец его кто?
— Неизвестно, — отвечают мне. — Тот парень, с которым она живет сейчас, взял ее уже с приплодом…
— Значит, она замужем?
— Да, а как же!
— И хорошо живут?
— Душа в душу. Дай Бог всякому.
— Кто ж он такой?
— Гитарист из ансамбля. Теперь в армавирском ресторане выступает. Любит Машку, одевает, балует… Подвезло бабе, поперло.
— Ну, а к ребенку как он относится?
— Да как. Известное деле! Если уж любит — все остальное пустяк… Хорошо относится, по-родительски, справедливо.
— А парнишка, он что — действительно сероглазый?
— Сама видела, — отвечает мне пожилая сухощавая цыганка, — глаз серый, с желтизной. А личико щуплое, плаксивое, губастое…
Мой, — соображаю я, — ну, конечно! — И чувствую торопливые тяжкие толчки в сердце: «Мой! Мой! Мой!»
И снова я хлещу водку, заливаю горе веревочкой, шатаюсь в беспамятстве по притонам.
А затем — как при вспышке магния, при слепящем свете бесшумного взрыва — возникает передо мною плачущая, разгневанная, словно вдруг постаревшая Марго.
— Что ты делаешь, подонок? — говорит она вздрагивающим голосом. — Что вытворяешь? Учти: если ты не прекратишь свой маразм, я от тебя уйду!
Так прошло полтора месяца. И наконец я очнулся.
Было это, помнится, в сумерках; уже близилась полночь. Моросил весенний дождичек, чавкала под сапогами грязь. Покачиваясь, с трудом дотащился до дому. Взглянул, запрокинул голову на наши окна (мы снимали квартиру на четвертом этаже) и увидел, что окна темны.
«Спит, наверное, — с умилением, с жалостью подумал я. — Притомилась, бедная… Господи, какая же я все-таки свинья!»
Торопливо поднялся я по лестнице. Отомкнул дверь. Вошел — и понял все. И тотчас же протрезвел.
Марго исчезла; она выполнила свою угрозу! Опустелая квартира носила следы поспешного ее отъезда. Всюду царил беспорядок: валялись клочья упаковочной бумаги, обрывки бечевок, какие-то тряпки.
На столе, на замусоленной клеенке, стояла недопитая бутылка водки, виднелась пепельница, густо набитая окурками. А рядом — белел конверт.
Это было письмо Копченого, я узнал его сразу.
Марго вернула его мне, как бы говоря этим, как бы давая понять: «Все кончено. Теперь — проваливай!»
* * *
Любил ли я ее? Да, конечно. Мне было легко с ней, безоблачно и спокойно. Пожалуй, даже слишком безоблачно, чересчур спокойно. И в этом-то, вероятно, была вся беда! Ее заботливость, се теплоту и нежность я по неопытности принимал как должное, как нечто само собой разумеющееся… И потому не ценил. Не ценил точно так же, как все мы до поры до времени не ценим те простые блага, что дарует нам жизнь: воздух, которым мы дышим, зелень, которую портим и мнем.
И лишь теперь, после исчезновения Марго, понял я вдруг, что потерял что-то такое, чего никогда мне уж больше не обрести. Я словно бы сразу осиротел, почувствовал себя пустым и неприкаянным.
Я сравнивал Марго с другими женщинами, в частности, с Машей. У цыганки родился сын, весьма возможно — от меня. Мне очень хотелось их повидать… И все же я знал: никогда у меня с ней не было и не будет впредь — не может быть! — такой полноты единения, такой безыскусной близости, как с Королевой Марго. Ее не будет никогда, ни с кем! В этом смысле моя Королева — единственная…
И вот сейчас я утратил, упустил из рук единственный этот редкостный случай. Упустил по причинам, неясным мне самому. По глупости? По бездарности? Из-за странной душевной лени?
— Что же делать? — громко сказал я. И в тишине помраченных комнат голос мой прозвучал неожиданно хрипло и дико. — Что? Ехать за Марго вдогонку? Но куда? Где ее теперь искать? В ее распоряжении не один только Ростов — вся страна. И если уж она захочет скрыться по-настоящему, мне ее никогда не найти!
«А может, и не надо искать, — тут же подумал я. — К чему суетиться?! Во всем, что происходит, есть своя внутренняя логика… Я потерял всех, кого любил. И теперь меня ничто уже здесь не держит. Не пришла ли пора воспользоваться письмом?»
Я осмотрелся устало — и только сейчас заметил, что темнота иссякла, кончилась. В окна уже ломился рассвет. На полу и на клеенке стола лежали оранжевые квадраты. И ослепительно, и влажно светилось бутылочное, пронизанное солнцем стекло.
Невольно я потянулся к бутылке (там еще оставалось — на доброе похмелье), но сейчас же отдернул руку: к черту! Хватит распадаться! Пора, наконец, выходить из виража.
* * *
В первой же закусочной, куда я завернул позавтракать, мне встретилась знакомая шпана.
В основном, это были карманники, трамвайные ширмачи. Они начали с утра, чуть свет, и сейчас подкреплялись перед работой. Левка Жид — длиннолицый, рыжий и разбитной — помахал мне издали рукой и широким жестом пригласил к своему столу.
— Садись, Чума, — сказал он, — есть разговор, — и затем — со свистом обсасывая куриное крылышко: — Слушай, ты куда это запропастился? Тебя второй день ищут. По всей Одессе. С ног сбились.
— Кто ищет? — дернулся я. — Марго?
— Нет, мы.
— А Марго где?
— Уехала.
— Куда?
— Не знаю, — он облизал пальцы, отодвинул тарелку. — Мы к вам домой позавчера утром заходили — Марго как раз барахлишко увязывала, на вокзал спешила… Спросили про тебя — так она нас таким матюгом покрыла, ой-ой! Что это у вас стряслось? — Левка прищурился. — Поссорились?
— Поссорились, — подтвердил я уныло, — в общем-то, я сам во всем виноват. Запил, распустился, по девкам шляться начал…
— То-то мы тебя нигде разыскать не могли, — проговорил Левка с укоризной.
— А на что я вам? В чем дело?
— Так ты не в курсе? — хохотнул Левка. — Хорош, ну, хорош!
— Ладно, — сказал я, — ты — короче.
— Была всеобщая сходка.
— Так. И что же?
— Речь шла о том, кого послать на международную конференцию… Про это ты хоть знаешь что-нибудь?
Я знал кое-что, слышал давно, еще в бытность мою в Ростове. Солома, Чабан и другие старые урки частенько говорили о необходимости созыва такой конференции. Что-то они даже предпринимали тогда: рассылали письма, обсуждали организационные детали. Однако все это казалось мне несерьезным. И теперь я с удивлением узнал о том, что конференция эта — событие вполне реальное.
— Толковищс продолжалось два дня, — рассказывал Левка. — Шуму было — можешь себе представить! В общем, утвердили десять делегатов, в том числе и нас с тобой.
— За что ж такая честь? — усмехнулся я.
— Ну, меня решили послать потому, что я знаю языки, — пояснил Левка. — Немецкий знаю, польский, еще по-английски немного.
— А меня?
— Тебя, хоть ты и молодой еще, зеленый, выбрали за интеллигентность. Ты ведь, собака, грамотный — все книжки прочел. К тому же и сам сочиняешь… Сумеешь перед Европой выступить! Не ударишь в грязь лицом!
— Где это, кстати, должно происходить?
— Во Львове, — сказал Левка, ковыряясь спичкой в зубах.
— Во Львове, — медленно, изумленно проговорил я. — Ты шутишь, Левка?
— Нет, — он пожал плечами, — ничуть. А что такое? «Что ж, — подумал я, — вот все и решилось, устроилось само собой! Это рука судьбы! Теперь мне так или иначе Львова не объехать, не миновать».
— Одно мне только неясно, — помедлив, сказал я. — Почему именно там?
— Ну, это-то проще простого, — отозвался Левка, — это дважды два.
И он — почти слово в слово — повторил фразу, сказанную некогда Копченым:
— Львов — самый западный изо всех советских городов… Из крупных городов, конечно. Самый, по сути, европейский.
— Недавно присоединенный, что ли?
— Ну да. И находится он, заметь, недалеко от кордона. Кругом леса, болота, через границу ходить легко…
— Легко ли? — усомнился я. — Наши границы, сам небось знаешь, на замке.
— Знаю, — сказал, посмеиваясь, Левка. — Думаешь, ты один образованный? Я тоже иногда просвещаюсь, в кино хожу. Недавно вот видел картину… Забыл, какое заглавие… В общем, о пограничниках. Там все разъяснено! Чекисты там мудрые, стальные. А нарушители, конечно, идиоты, — он шевельнулся, осклабился мечтательно. — Все, как один, глупы и трусливы… Но, между прочим, — всегда при деньгах. При ба-альших деньгах! Это в кино хорошо показано… Эх, мне бы сюда хоть одного шпиона, хоть самого завалящего. Обожаю такую клиентуру! С детства мечтаю встретиться! Пощипать бы его, потрогать за вымя…
Левку понесло. Я знал эту его слабость — он мог о шпионах болтать часами — и потому поспешил прервать его излияния:
— Стой, погоди. Я с тобой — всерьез…
— Ну а если всерьез, — заметил Левка, — то все это, брат, не наша забота. Решаем не мы, решает кодла. Кодла знает, что делает. А от нас с тобой требуется одно: поспеть во Львов вовремя.
Воровская конференция
Идея созыва общеевропейской воровской конференции возникла среди российских урок довольно давно и неслучайно.
Преступный мир существует в любой стране, это общеизвестно. Однако отсюда вовсе не следует, что блатные обычаи везде одинаковы.
В Северной Америке, например, процветает преимущественно гангстерство (вооруженный грабеж). Причем каждая бандитская группа являет собою замкнутый мирок; это некий клан, живущий по собственным своим правилам и отъединенный от прочих. Такая обособленность зачастую приводит к взаимным конфликтам и распрям. Американский гангстер, по сути дела, враждует со всеми — с блюстителями порядка и с нарушителями его.
Италия, Польша и Россия, например, славятся своими карманниками и взломщиками: мастерами «ширмы», виртуозными «слесарями».
Тут уже мир не бандитский, а сугубо воровской!
В Западной Европе (так же, как и в Англии) все перемешано; четкое деление здесь отсутствует, единого стиля нет. Но все же воровское подполье преобладает…
А вот богатая, пресыщенная Скандинавия заметно отличается от всех этих стран: она поставляет в основном не блатных, а шулеров и мошенников.
Любопытно отметить, что социально-экономические условия всегда и очень явственно отражаются на характере преступного мира. Здесь все определяется общим жизненным уровнем. Чем этот уровень ниже, тем активней и изощреннее практика воровства. И наоборот! Закономерность эта прослеживается отчетливо; марксисты, в сущности, правы, утверждая, что бытие определяет сознание.
В соответствии с этим самым «бытием» издревле формировалась вся подземная жизнь, вся уголовная этика.
Этическими вопросами как раз и были теперь озабочены организаторы Львовской конференции. В чем же заключалась суть проблемы?
По российским законам профессиональный уголовник не имеет права где-либо служить или работать. Он не должен входить в контакт с властями — это строжайше запрещено! Зарабатывать себе на пропитание он может только с помощью своей специальности, с помощью воровского ремесла. Все это отлично выражено в классической — почти библейской — формуле: «Вор ворует, а фрайер пашет, — каждому свое!»
Данная формула неоспорима, она имеет силу закона. Она применима на воле точно так же, как и в лагерях. Имеется одна только разница: если на свободе фрайерская, легальная деятельность абсолютно запрещена, то в заключении существуют все же некоторые допущения. Блатной там может трудиться, но только не в зоне, а на «общих работах». Не в тепле, а на холоде. Не около администрации, а, наоборот, в стороне от нее.
Выходить с бригадой в тайгу, на мороз; рыть землю и трелевать баланы — все это можно. Необязательно, конечно, но вполне допустимо! Это не зазорно для честного блатного.
Другое дело — работать в зоне!
Осевшие там арестанты называются «придурками» — и это не случайно. Цепляясь за теплое место, человек поневоле начинает ловчить, приспосабливаться, всячески угождать начальству. Тут уже недалеко и до предательства (скрытого или явного), до активного пособничества властям.
В отличие от простых работяг им — придуркам — есть что терять. И потому заключенные относятся к ним с недоверием.
И вполне естественно, что любой, ставший придурком уркаган, тотчас же утрачивает блатные привилегии, делается отщепенцем, превращается в ссученного.
В послевоенные годы (когда условия в лагерях ухудшились и стали невыносимыми, когда пришло время «большой крови») уголовники поняли, что и им надо как-то приспосабливаться. После многих сомнений и споров было наконец решено сделать некоторые исключения из правил: блатные получили возможность, в случае надобности, становиться бригадирами и парикмахерами.
В этом был, конечно, свой резон. Бригадир всегда мог спасти и прокормить нескольких друзей; парикмахеру же открывался доступ к острорежущим предметам — к бритвам и ножницам. В период внутрилагерной сучьей войны обстоятельство это было немаловажным.
И все же исключения эти были редки; в конечном счете они лишь подтверждали правило, общее правило российского воровского подполья.
Российского — но никак не западного!
На Западе, в Европе, все обстояло иначе.
Даже в таких истинно воровских странах, как Польша и Италия, никогда не существовало подобных запретов. Человек там вполне мог совмещать несовместимое; мог быть одновременно чиновником и взломщиком касс, исправно служить в магазине или кафе и параллельно с этим шерстить ночные квартиры.
И тот же принцип существовал у них в заключении. Попав за решетку, блатной устраивался там, как умел. И если появлялась возможность заделаться «придурком», присосаться к начальству — он присасывался, не задумываясь. Он мог безбоязненно входить в контакт с администрацией — упрекать его было некому.
И вот здесь, в этом пункте, как раз и пролегла основная линия водораздела.
Случилось это в начале сороковых годов после того, как Россия и Запад соприкоснулись на поле сражения.
Мировая война перетряхнула весь Евразийский континент; границы распались, привычный уклад нарушился. Все на земле смешалось и спуталось. И вот тогда впервые русские уголовники познакомились с тюремным бытом зарубежья.
Некоторые старые урки (в основном одесситы) бывали в Европе еще до революции — гастролировали там и попадались порой. Но все это были отдельные, частные случаи. Теперь же хлынул поток. Блатные растеклись по оккупированной территории, а затем по всей Европе.
В свою очередь и европейские урки (немцы, болгары, румыны, поляки) успели за годы оккупации побывать на юге нашей страны.
Немалое их количество застряло в местных, преимущественно в украинских тюрьмах. И когда фронт откатился, все они попали в руки МВД.
Между прочим, арестанты частенько в ту пору переходили из рук в руки, доставались поочередно то германской полиции, то советским тюремным властям. И вот характерная деталь: если между блатными существовали определенные различия, то между официальными «казенными» ведомствами ощутимой разницы не было. Стиль работы у германских и русских тюремщиков был, в принципе, почти одинаков (тут имеются в виду именно тюрьмы!).
Приняв и заприходовав уголовный контингент (процедура эта везде одна и та же!), начальство затем разгоняло людей по этапам; в одном случае этапы уходили на Запад, в другом — на Восток.
Вот так, собственно, и происходила эта перетасовка, это соприкосновение двух несхожих миров.
Несхожесть их обнаружилась довольно быстро. Поведение иностранцев в тюремных камерах и лагерях России было двусмысленным и недопустимым. Оно противоречило общепринятым нормам и вызывало резкий протест со стороны отечественного ворья.
Необходимо было выработать хоть какие-то общие правила, прийти к единому решению в вопросах этики… Ради этого и собрались блатные во Львове.
Ради этого и я приехал туда.
Однако наряду с общественными проблемами у меня имелись еще и личные.
Мне предстояло теперь разыскивать друзей Копченого — познакомиться с ними и вручить им письмо.
* * *
Как вы, наверное, сами догадываетесь, я успел уже давно заглянуть в это письмо — поинтересоваться его содержанием… К сожалению, я ничего в нем понять не смог. Послание Копченого написано было на польском жаргоне.
«Хитрый мужик, — думал я, шагая по улицам Львова и разыскивая нужный мне адрес. — Настоящий конспиратор. Ну что ж, посмотрим, каковы его друзья!»
Указанный в адресе дом оказался двухэтажным деревянным зданием, расположенным на окраине города, в глухом переулке, неподалеку от бойни.
Дом окружала высокая изгородь. Во дворе гремел цепью косматый вислоухий пес. Он встретил меня заливистым лаем, и тотчас же возникла из дверей дома женщина.
Я представился и протянул ей письмо. Она приняла его, повертела и спрятала, не читая. Затем молча взяла меня за руку и ввела в полутемную просторную комнату; судя по всему, это была кухня. В одном ее углу виднелась печь, в другом — поблескивала на полках медная посуда: кастрюли, тарелки, тазы. Дубовый, грубо сколоченный стол из конца в конец пересекал комнату, и было видно, что за ним совсем еще недавно обедали люди.
Еще витал махорочный дым и громоздилась на краю стола грязная посуда, и пол был замусорен, испятнан следами многих ног.
— Почекайте трошки, — сказала женщина и ушла, оставив меня одного.
Ждать, впрочем, пришлось недолго. Едва лишь я закурил и осмотрелся, знакомясь с обстановкой, раздались грузные шаги. Дверь распахнулась, и в кухню вошел плотный мужчина с вислыми хохлацкими усами и в расписной косоворотке.
— Ну, будем знакомы, — сказал хохол, пожимая и крепко встряхивая мою руку. — Присаживайтесь, прошу вас, — говорил он, кстати, на хорошем чисто русском языке, с характерной московской интонацией. — Может, хотите чего-нибудь с дорожки — выпить, закусить? Нет? Вы только не стесняйтесь! — он уселся на лавку, потер ладонями колени и остро глянул на меня. — Итак, вы — от Копченого. Судя по письму, вы с ним виделись… Где это, между прочим, было?
— На Северном Кавказе, — сказал я, — в Грозном.
— А где — конкретно?
— На квартире у одной женщины. Вы ее, наверное, не знаете…
— Как ее звать?
— Марго.
— Ах, Марго, — протянул он улыбнувшись легонько, тронул длинные, прокуренные свои усы. — Прелестная женщина…
— А вы разве тоже ее знаете? — спросил я и опять — в который уже раз — подивился популярности моей Королевы.
— Видел когда-то, — уклончиво ответил он, — приходилось… Значит, встреча состоялась у нее на квартире. Но ведь это, кажется, было уже давненько. Сколько с тех пор прошло времени?
— Не помню, — растерялся я. — Погодите, дайте подумать. С Копченым я виделся где-то в конце сентября, а сейчас — апрель… Значит, прошло полгода.
— Где ж вы были все это время?
— В разных местах, — пробормотал я. — В Ташкенте был, к примеру, в Бухаре. Потом во Владивосток заехал ненадолго. Но в чем дело? Вас интересуют мои маршруты?
— Нет, нет, что вы, — поспешно сказал он, — ни в коем случае! У каждого из нас своя работа. Просто меня несколько удивила столь длительная ваша задержка. А в общем, это несущественно.
Так мы беседовали. И я все время ожидал, что человек этот заговорит, наконец, о деле — о переходе через границу, коснется деталей, поинтересуется моими планами. Хохол ни о чем таком не сказал. Разговор был весьма общим; он как бы шел по спирали — прихотливыми кругами и петлями, — и в результате мы снова вернулись к Марго и сошлись на том, что она — женщина редкостная, вполне оправдывающая свою кличку.
— Когда ж вы все-таки ее видели? — спросил я.
— Давненько, — сказал мой собеседник, — еще во время войны.
И тут же он деловито встал, давая понять, что беседа наша окончена.
Опять появилась женщина — та самая, что вела меня в дом. Невзрачная, сухонькая, с лицом, закутанным в серый платок, она тихо стала у притолоки, сложила руки под грудью. Хохол сказал, кивнув в ее сторону:
— Это Марья Тарасовна. Прошу любить и жаловать. (Я поклонился. Марья Тарасовна продолжала стоять недвижно и молча.) — Сейчас она отведет вас в вашу комнату. Там вы пока будете жить. Учтите, порядки здесь строгие, — он посмотрел на меня, сощурясь. — На завтрак, на обед и ужин являться вовремя. Она вам скажет когда. По дому без толку не шляться. Разговоров с людьми не затевать. Если что-нибудь будет нужно, спросите хозяина, то есть меня. Все ясно?
— В общем, да, — сказал я, озадаченный начальственным жестким тоном Хозяина, — но из дому-то хотя бы можно будет выходить?
— Можно, — усмехнулся он, — конечно. Только ставьте в известность Тарасовну или меня — это, во-первых. И во-вторых: если будете возвращаться ночью — проходить в дом следует не через двор, а задами, огородом. Там есть калиточка… Вам покажут, — и добавил, разглаживая ладонью усы: — Ну вот, собственно, и все. Правил у нас не слишком много, но они — железные! Усвойте это накрепко. Да вас, я думаю, не надо учить.
— И сколько же мне здесь придется жить? — спросил я, внезапно ощутив какое-то смутное беспокойство. — Моя задача, вы, вероятно, знаете, — уйти за кордон…
— Знаю, — сказал он медленно, — но всему свое время! Когда придет час, начнем действовать. А пока надо ждать. Есть причины. Да и вообще, торопливость — вещь неуместная. Кошки все делают быстро — и родятся слепыми!
* * *
Обосновавшись на новом месте, я поспешил затем на Зеленую Горку — так именовался известный во Львове трущобный окраинный район, расположенный на высоком холме неподалеку от вокзала. Там, на этой Горке, в районе Постдамша, проходила блатная конференция.
Она проходила шумно и суматошно, и в общем-то от нее, как и от всякой конференции, проку было немного. Слишком сильны были противоречия, слишком отчетлив идейный раскол. Каждая из сторон отстаивала свою правоту и не хотела компромисса.
Единственное здравое решение, к которому пришли блатные, гласило: «У себя дома каждый волен делать что хочет, но, попав в чужую страну, он должен подчиняться существующим там законам».
И хотя российские урки, созывая конференцию, мечтали об иных результатах, им пришлось, в конце концов, примириться с данной формулой.
Я лично выступил на конференции всего лишь раз — и неудачно. Переводчик мой, Левка Жид, был сильно пьян, резвился и перевирал все мои слова. Поначалу я никак не мог понять, отчего это мое выступление (очень серьезное, с обильными цитатами из классиков) сопровождается всеобщим хохотом. И только потом сообразил, в чем дело.
Во время перерыва, по дороге к вокзальному ресторану, я спросил Левку, о чем он там болтал. Покачиваясь и загребая ногами пыль, приятель мой ответил с ухмылкой:
— Разъяснял твою мысль. Ты ведь говорил о значении коллектива, о том, что без кодлы, без друзей, всякий человек — сирота… Точно?
— Ну а дальше?
— Дальше я им рассказал анекдот про сироту. Знаешь? Нет? Ну, слушай. Приводят в отделение милиции беспризорника. Спрашивают: «Отец есть?» — «Нету, — отвечает он, — я круглый сирота». — «А что ж с отцом?» — «Убит мужиками в самосуде». — «Ну, а мать?» — «Умерла от сифилиса». — «А сестра?» — «Сестры тоже нету». — «А брат хотя бы имеется?» — «Брат есть, а как же? Он — в медицинском институте, в лаборатории». — «Что же он там делает? Работает, учится?» — «Да нет, он в банке заспиртован. Родился с двумя херами, причем один — на лбу…»
— Тебе бы, Левка, не карманником быть, а конферансье, — сказал я, одновременно хмурясь и улыбаясь. — На эстраде бы работать. Там трепачи в цене. А так, что ж, талант только зря пропадает.
Ночной плач
Спустя двое суток Левка зашел ко мне в гости; он появился неожиданно, утром (я только что позавтракал), и первая фраза его была:
— Ну, наконец-то! Сбылась голубая мечта! Всю жизнь хотел встретить хоть одного шпиона, а тут у тебя их целая дюжина.
— Какие шпионы? — нахмурился я. — Брось болтать.
— Дитя мое, — ласково, проникновенно сказал тогда Левка, — никогда не спорь со старшими. Разве тебя этому не учили в детстве?
— Тоже мне, старший!
— Все-таки постарше тебя, повзрослей. А кроме того, у меня есть жизненный опыт и… как это называется? — он щелкнул пальцами. — Классовое чутье. Так вот, верь моему классовому чутью!
— Но… Где ты этих шпионов увидел?
— Здесь, на кухне. Да они и сейчас еще, по-моему, там сидят.
— Что ж они делают?
— Яичницу жрут. Похмеляются.
— Да, конечно, — усмехнулся я, — все это весьма подозрительно.
— Ты не смейся, я точно говорю, — загорячился Левка. — Когда я входил в кухню, кто-то там по-английски говорил. А потом сразу перешел на украинский… Да и вообще, — он оглянулся на дверь, — такие морды! Стоит только глянуть, и сразу все ясно. У каждого из них на лбу, как клеймо, пятьдесят восьмая статья отпечатана!
Легкой танцующей походкой прошелся он по комнате, подымил папироской. Затем сказая негромко:
— Как теперь за них приняться — вот вопрос. Если я не работну хоть одного — грош мне цена. Всю жизнь себе не прощу.
— Молчи, — сказал я, — даже не думай об этом. Ты что меня подвести хочешь?
— А при чем здесь ты?
— Но я же тут живу!
— А, кстати, почему? — поднял брови Левка, — Почему ты тут оказался? Каким образом?
— Так получилось, — пробормотал я и шагнул к дверям. — Давай-ка выйдем. Здесь — не место… Я тебе потом объясню.
Честно говоря, мне не очень-то хотелось посвящать в свои замыслы Левку, этого известного трепача. Я даже жалел теперь, что дал ему свой адрес… Но делать было нечего, пришлось рассказать обо всем подробно.
— Значит, вот какие дела, — процедил Левка, внимательно выслушав меня. — Да, брат, вляпался ты в историю. Попал в тентервентерь.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я, втайне уже угадывая, постигая все, что он должен мне сказать.
— Ну, как же. Здесь ведь самая настоящая явка, скорей всего — бендеровская.
— Но почему именно — бендеровская?
— Потому что они как раз тут гнездятся. Это ж ихний район!
Мы стояли на углу переулка среди зарослей крапивы и лопухов. Отсюда отчетливо был виден дом, в котором я поселился; серый, обнесенный высоким забором, он показался мне странно угрюмым, исполненным зловещей немоты. И, оглядев его зорким прищуром, я спросил, закуривая:
— Послушай, Левка, а ты не фантазируешь? Откуда ты знаешь, что этот район…
— Об этом все знают, — ответил мой приятель, — кругом говорят! Но это — ладно… Беда в том, что они тебя держат за своего. Усекаешь? Ты приехал от Копченого — и все. Для них достаточно. Хозяин потому и не стал допытываться, где ты был да что ты делал… Он так сказал: «У каждого — свои дела?»
— Своя работа, — уточнил я.
— Конечно, он думает, что ты ихний! Имеешь какое-нибудь задание…
— Н-да, скорей всего так, — проговорил я уныло. И тут же добавил, осененный новой мыслью: — Но, с другой стороны, может быть, это мне на руку? Для своего они как раз и должны постараться.
— Постараться, это верно, должны, — сказал, наморщась, Левка. — А все же связываться с ними опасно. Я бы, например, не рискнул. Как ни говори, а ведь это все — люди темные, занимающиеся политикой… Зачем честному жулику влезать в ихние дела? Можно так влезть, что потом не выберешься. Клюв вытащишь — хвост застрянет, хвост вытащишь — клюв застрянет.
— Ни в какие ихние дела я не влезаю, — возразил я резко, — и не собираюсь.
— Уже влез, — сказал он и осуждающе качнул головой, — уже с ними портнируешь, в одной упряжке ходишь… — и, еще раз взглянув на виднеющийся вдали дом, он добавил медленно: — И потом имей в виду: если тебя вместе с ними застукают — хана. Пощады не жди. Тобой уже не угрозыск будет заниматься, а КГБ. А с этой конторой шутки плохи.
— Что ж, — вздохнул я, — теперь все равно ничем уже не поделаешь. Колесо завертелось. Да и какая, в сущности, разница — с кем я буду отныне связан? Любой переход через границу — дело политическое.
— А ты, значит, твердо решил?…
— Да, старик, — сказал я, — это бесповоротно.
— Думаешь, там будет лучше?
— Не знаю, не уверен. Марго точно так же меня спрашивала. А что я ей мог сказать? Там видно будет.
— Она, значит, возражала?
— И как еще! И вообще, насколько я сейчас понимаю, она была в курсе всех дел. Но почему-то отмалчивалась, предпочитая говорить намеками, недомолвками…
— Была, говоришь, в курсе? — переспросил задумчиво Левка. — Что ж, пожалуй. Я сейчас припоминаю… С ней во время оккупации в Одессе одна история случилась… В общем, дело было так. У нее на малине был убит какой-то немец. Убит или отравлен — неважно, короче — сыграл в ящик. Полиция устроила там облаву и, конечно, замела Марго. Все думали, что она уже не вернется. Однако она через полгода вернулась — и снова, как ни в чем не бывало, начала крутить свои дела. И вот тогда-то впервые появился Копченый.
— Ты его встречал? — поинтересовался я. Видел когда-нибудь?
— Один раз, случайно, но слышал немало. В общем, он был связан с немцами, это ясно.
— А теперь…
— Теперь он в контакте с этими, — Левка усмехнулся, — с твоими террористами. А может, и еще с кем-нибудь… Разве их, таких, поймешь?
— Послушай, но ведь ты о «таких» как раз и мечтаешь, — заметил я. — Почему ж ты Копченого тогда выпустил из рук?
— Нет, милый, — осклабился Левка, — я не о таких. Мне какой шпион нужен? Мне шпион нужен тихий, кроткий, запуганный. А этот турок… или — казак? В общем, этот тип…
— Ну, ясно, — сказал я, — он твоему идеалу не соответствует.
— Никак не соответствует!
— Да и вряд ли ты когда-нибудь этот идеал найдешь.
— Ох, не говори, — Левка скорбно потупился, сжал рот в куриную гузку. — Я и сам иногда так думаю, но ведь жить без мечты нельзя. Надо же иметь хоть какие-нибудь идеалы!
* * *
Итак, я попал из огня да в полымя! Спасаясь от блатных передряг, приобщился к другим — политическим. Ища тишины и покоя, угодил в бендеровское подполье, в организацию террористов, причем в самый центр их, в самое гнездо.
И все осложнялось еще тем, что они считали меня «своим»!
Они считали меня своим и в качестве такового вполне могли использовать меня в конкретных делах, в текущей работе.
А работа у них была специфической! Чуть ли не каждый день доходили до меня слухи о деяниях бендеровцев — о растрелянных активистах, спаленных хатах, пущенных под откос поездах… Вот к этим самым диверсиям они могли теперь привлечь и меня. И, вероятно, поэтому медлили со мною, не спешили перебрасывать через границу.
Но даже и в этом случае, если бы меня наконец перебросили, даже и тогда я оставался бы в их руках… Париж был далек, и путь к нему — неясен. Скорее всего, я шел бы нелегально, «по цепочке», и Бог знает, где и когда бы эта «цепочка» пресеклась!
Люди эти приняли меня и ввели в свою организацию на основании письма Копченого. Но что он написал обо мне? Что именно? Как отрекомендовал? Какие дал им советы и инструкции? Все это было для меня полнейшей тайной.
Я жил здесь уже вторую неделю — томился ожиданием и не знал, как поступить, что делать. Ждать еще? Но сколько и до каких пор? А может, плюнуть на все, бежать отсюда и снова вернуться к блатным?
Я подумал так и сейчас же сообразил, что бендеровцы теперь не выпустят меня живым, не дадут уйти безнаказанно. Любая моя попытка к отступлению будет расценена как предательство…
Да и куда я мог бы уйти от них здесь, во Львове? Вся эта местность — вся, по существу, Западная Украина — находилась под контролем воинствующих националистов. Они имели своих людей всюду. И даже среди уголовников. С ними, как выяснилось, были связаны Копченый и Марго. Да только ли они одни?!
Я как бы оказался в кольце… Надо было вырваться из него, искать хоть какой-нибудь выход! И, поразмыслив, я направился к Хозяину.
До этого я уже не раз беседовал с ним. И всегда выслушивал одно и то же: «Надо ждать». «Всему свое время». «Торопливость уместна только при ловле блох». Все это были пустые, ничего не значащие фразы. И вот теперь я решил наконец поговорить с ним начистоту: открыться ему, объяснить подробно, кто я и откуда и чего я хочу.
Уже подойдя к его двери (он жил надо мною на втором этаже), занеся руку для того, чтобы постучать, я вдруг замер, охваченный внезапным подозрением… А что, если все обстоит гораздо проще, чем я думаю? Проще — и страшней? Никакой я для них не «свой», они все обо мне знают — на основании того же письма! И придерживают меня здесь, исходя из каких-то особых соображений. Для чего-то, вероятно, я им надобен. Но для чего? Для чего?
Хозяйская комната была полна людьми; слоился дым, глухо дробились голоса. В тот самый момент, когда я вошел, Хозяин говорил о чем-то: я уловил отрывок фразы: «…В данных обстоятельствах это наш единственный вариант!» Затем он увидел меня и, прервав монолог, шагнул ко мне, уже издали протягивая руку для пожатия.
— Здравствуйте, здравствуйте, — проговорил он быстро, — вижу, догадываюсь, о чем вы хотите спросить.
— Ну, а если так, — сказал я, — может быть, вы мне сразу же и ответите?
— А вот это уже труднее, — наморщился он, — вообще должен сказать, голубчик, что вам не повезло: здесь сейчас начались такие сложности…
— Какие же? — полюбопытствовал я.
— Всякие, — Хозяин задумчиво тронул усы. — Политические и организационные. Давайте-ка так сделаем, — он посмотрел на меня из-под опущенных клочковатых бровей. — Вечерком я к вам зайду, и мы все обсудим. Сейчас я, как видите, занят. Вы уж извините. Дела!
— Ничего, ничего, пожалуйста, — ответил я, отступая к дверям. — Так, значит, вечерком?
— Да, — сказал он, — ждите.
* * *
Он пришел ко мне поздно ночью, я уже лежал, засыпая. Уселся со вздохом на постели — в ногах — и так помалкивал небольшое время. Видно было, что он сильно устал и издерган: лицо его осунулось, потемнело, под глазами крупно обозначились отечные мешки.
Я привстал и потянулся за папиросами. Мы закурили. Цедя сквозь усы синеватый дымок, Хозяин сказал погодя:
— Я вас раньше не посвящал в наши сложности. Может быть — напрасно… Словом, дела обстоят скверно! МГБ взялось за нас всерьез. Вы понимаете, что это значит?
— Догадываюсь, — усмехнулся я.
— Этого, собственно говоря, давно уже следовало бы ожидать, — он говорил осевшим, каким-то сдавленным голосом. — В пограничные районы стянуты войска, повсюду идут облавы, многие явки разгромлены…
— Значит, что же, — забеспокоился я, — значит, мое дело тухлое? Не выгорает? Так, что ли?
— Ну, не совсем, — пробормотал он, кряхтя. — Не совсем… Вам мы еше сможем помочь. Но в данных обстоятельствах лучший путь для вас будет — как мне кажется — легальный.
— То есть как — легальный? — изумился я, роняя папиросу.
— Да вы не пугайтесь, — проговорил он с улыбкой, — все просто. Постарайтесь выслушать меня спокойно, — и, придвинувшись ко мне, сказал, положив на плечо мне руку: — Здесь, во Львове, имеется специальная комиссия по отправке на родину репатриированных поляков. Действует она уже давненько и отправила многих. Сейчас собирается еше одна партия. Понимаете, куда я клоню? Если вы вольетесь в общий поток…
— С этим «потоком» я попаду всего лишь в Польшу. А там?
— Главное попасть, — сказал он, а там уже никаких осложнений не будет. Польша — наша страна! Оттуда вас доставят куда угодно.
— И кстати — насчет «потока». Тут тоже есть свои проблемы. Как я, например, буду изъясняться? Я же по-польски не говорю. Не разумею.
— А вам говорить и не придется, — мгновенно отозвался Хозяин. — Вам, наоборот, надо будет молчать, — он полез в боковой карман пиджака и вытащил пачку каких-то бумаг. — Вот, смотрите! — он разложил бумаги на одеяле. — Прежде всего — справка из комендатуры, выданная на имя Моисея Филоновского.
— Почему Моисея? — спросил я.
— Потому что Филоновский — еврей! — Хозяин покосился на меня с веселым юмором. — Вас это обстоятелктво не устраивает?
— Да нет, — сказал я, — какая разница! Еврей так еврей.
— Вот и я так думаю, — кивнул он. — Поехали дальше…
— Мне одно только интересно, — перебил я его, — этот документ подлинный?
— Конечно. Здесь все бумаги надежные. Без сучка, без задоринки. Это не то, что какая-нибудь блатная туфта.
Он сказал и усмехнулся, покусывая ус, и я подумал: знает, собака! Отлично знает — кто я такой. Они вообще все знают, эти шпионы.
— Стало быть, Филоновский, — начал я, — существует?…
— Существовал, — отрывисто бросил Хозяин.
— Ага, — сказал я, — так…
— Давайте-ка не будем отвлекаться! — он потянулся к бумагам. — В дополнение к указанной справочке имеется еще и другая — самая важная для вас. Заметьте, — он поднял палец, — самая важная! Это заключение медицинской комиссии. Здесь указано, что Филоновский, в результате перенесенной им фронтовой контузии, страдает нервическими припадками и временной потерей речи, — и он протянул мне справку — новенькую, похрустывающую, испещренную подписями и штампами. — Ну как? Годится такой вариант?
— Да вроде бы, — сказал я, вертя ее в пальцах и разглядывая пристально. — Я, признаться, в этом не очень-то разбираюсь. Но, судя по всему…
— Судя по всему, голубчик, — проговорил Хозяин, — трудный вы человек, вот что я вам скажу. Экий вы, право! Нельзя быть таким скептиком. Другой бы этот документ с руками оторвал, от восторга рыдал бы.
— Да я почти и рыдаю, — сказал я.
— Ну, ну, — поморщился он, — ладно. Смотрите теперь сюда, — он зашуршал бумагами. — Вот здесь аттестат, а это послужной список. Словом, целое досье. Собрать его, поверьте, было нелегко. Пришлось привлечь к делу многих нужных людей, а сейчас это рискованно. Мы вообще таким путем идем редко, крайне редко, — и, помедлив несколько, он добавил негромко, сумрачно, с хрипотцой: — Боюсь, однако, что скоро и этот путь будет для нас отрезан. Увидите Копченого — так и передайте ему!
— Ладно, — ответил я.
Я ответил, не задумываясь, машинально. Но тут же вздрогнул, охваченный беспокойством: смысл сказанных Хозяином слов дошел до меня не сразу, и, когда я, наконец, уловил его, меня всего словно бы обдало тревожным холодком.
— Постойте, постойте, — заговорил я поспешно, — я что-то не понял… Вы сказали: я увижу Копченого?
— Непременно.
— Вот как! Но когда? И где?
— Скорее всего, в Перемышле, — пожал плечами Хозяин, — там, куда отправляют всех репатриантов… А что? — он вдруг прищурился. — Разве вас об этом не предупреждали?
«Ах, черт возьми, — подумал я, — вот так сюрприз. Вероятно, он все же считает меня своим. Считает таким же, как и сам он… Потому он и говорит со мной столь доверительно! И, пожалуй, не стоит с ним откровенничать, разубеждать его — нет, не стоит. Откровенность сейчас была бы для меня опасной».
— Как вам сказать, — пробормотал я, — не то, чтобы меня предупредили… Но я, признаться, считал, что это произойдет в другом месте. А впрочем, все это не столь уж важно. Значит, в Перемышле! Что ж, пускай. Только где его там искать?
— Он вас сам найдет, — заявил, поднимаясь, Хозяин. — Об этом можете не заботиться.
И потом — уже уходя — взявшись за ручку двери:
— Итак, до завтра. Утром мы с вами еще обсудим кое-какие дополнительные детали… А пока вы тут посмотрите все, вникните, постарайтесь, как говорят актеры, войти в роль!
* * *
Хозяин ушел, пожелав на прощание спокойной ночи… Однако ночь предстояла мне весьма хлопотливая.
Да и в самом деле, о каком спокойствии могла теперь идти речь? Дела мои складывались скверно. И больше всего удручала меня предстоящая встреча с Копченым. Будь он простым честным уголовником или контрабандистом, все бы, конечно, выглядело по-иному. Я, пожалуй, был бы только рад такому совпадению; без провожатого мне все равно там не обойтись… Но в том-то и дело, что он оказался не жуликом, а разведчиком, матерым шпионом. А у этих людей свои, особые интересы… «Ох, темно все, сомнительно, опасно, — размышлял я в тоске. — Уже сейчас, если вдуматься, я нахожусь у него в руках, а что же будет дальше — за кордоном, на чужой стороне?»
Я чувствовал, что запутываюсь, вязну. И если вовремя не выберусь из этого омута, потом уже будет поздно… Надо было бежать, выбираться, не теряя ни единой минуты и уж тем более не дожидаясь утра.
Утром вы меня уже не получите, — думал я, разыскивая портянки, вбивая ноги в тесные сапоги. — «Дополнительные детали» придется вам обсуждать с кем-нибудь другим.
Я торопливо оделся, сгреб с постели документы, оставленные Хозяином, сложил их и сунул под подушку.
Прощай, Моисей Филоновский! Так нам и не удалось с тобой породниться…
Затем осторожно, опасливо я выглянул в коридор.
Там было темно и тихо. Лишь где-то в отдалении слышалось невнятное всхлипывание. Женский этот, жалобный, сочащийся из мрака голос показался мне знакомым. Пройдя несколько шагов по коридору, я помедлил, прислушался и понял: плакала Тарасовна.
Она плакала глухо, несмело и горестно… О чем? Бог весть. Но этот ее плач как бы подчеркивал ощущение тревоги и неотвратимость близкой, нависшей над домом беды.
Умеряя дыхание, стараясь не шуметь, я прокрался мимо ее каморки. Здесь коридор изгибался; за поворотом находилась кухня, а рядом с нею — дверь, ведущая в огород.
Этим ходом я пользовался частенько и мог теперь свободно ориентироваться здесь во тьме. Минуту спустя я уже был на улице, на воле…
Пройдя переулок (на всякий случай я держался в тени заборов, обходя открытые, затопленные луною места), я встал на углу и обернулся, стараясь разглядеть очертания покинутого дома.
Здание было видно смутно, неотчетливо; на фоне неба выделялся только острый гребень крыши. Над гребнем висела низкая ущербная луна. А где-то под этой кровлей, в кромешной мгле, плакала женщина…
Какое-то время я стоял так, мысленно прощаясь с этим домом, и с его обитателями, и со всеми своими надеждами. Потом повернулся и тотчас же замер, вжимаясь спиною в шершавые доски забора.
Кто- то дышал поблизости, шевелился, похрустывая щебнем. Кто-то здесь был — и не один! Всем существом своим, всеми нервами ощутил я присутствие чужих людей; они находились совсем рядом, в нескольких шагах от меня. И так же, как и я, они таились в тени забора, прятались. Но от кого? Зачем?
Поначалу я предположил было, что это бендеровский пикет, сторожевое охранение, на всякий случай выставленное Хозяином… Но тут же сообразил, что если бы это было так — я непременно должен был бы знать об этом. Ведь не ради же меня, в самом деле, торчали они здесь!
Нет, это были сторонние, пришлые люди. И появились они неспроста. Что-то они затевали.
«Неужто чекисты?» — подумал я, содрогнувшись. И тотчас же до меня донесся торопливый шепоток; судя по голосам, переговаривались трое.
— Ну как там? — спросил один.
— Да все тихо, — прошептал другой, — спят, должно…
— А может, и не спят, — с коротким смешком отозвался еще один голос — низкий, надорванный и сипловатый, — сидят, помалкивают, как мыши в норе… Да это, в общем, неважно. Все равно накроем.
Они помолчали. Затем кто-то сказал, позевывая:
— Закурить, что ли…
Вспыхнул трепетный огонек, и на секунду в колеблющемся свете увидел я склоненное лицо, воротник шинели, краешек солдатского погона.
Низкий, надорванный голос сказал — уже с начальственной интонацией:
— Ты тут иллюминацию не устраивай. Переулок просматривается насквозь, не понимаешь разве? Встань хотя бы за угол, дура!
Спичка погасла. Черная, вылепленная из мрака фигура солдата шахнулась в сторону и растворилась, растаяла. Исчезли и другие, смутно маячившие во мгле. Все они сгрудились за углом и там опять зашептались…
Я уже не слушал их. Я медленно отступал, прижимаясь к забору, — отходил все дальше, назад, к дому.
Теперь я прислушивался к иным голосам, к тем, что звучали во мне самом, поднимались из глубины души, из тайников ее… И один голос звал меня в покинутый дом. Призывал вернуться туда и предупредить людей об опасности. А другой кричал: «Беги! Скрывайся! Не делай глупостей, не заботься о чужих. Те все равно уже обречены, а ты еще можешь спастись. Ты и так почти уже спасся — вовремя выбрался из западни. Зачем же лезть в нее снова? Беги, беги, беги!»
Он был силен, этот Голос Страха. Он подавлял меня, обессиливал, напрочь глушил мою волю.
Рука моя внезапно нащупала калитку; я толкнул ее, и она приоткрылась. «Зайди сюда, — властно приказал Страх, — ну! Живее! Здесь ты сможешь отсидеться».
И вот в ту самую минуту, когда я уже хотел юркнуть в спасительную эту калитку, мне вдруг вспомнилась женщина, несмело и горестно плачущая в ночи…
Путь на Восток
— Добрались, значит, и до нас, — пробормотал, выслушав меня, Хозяин. — Быстро работают, сволочи, — он крепко огладил лицо, сгоняя с него остатки сна. — Оперативно, ничего не скажешь… Н-ну, ладно. Легко они нас все равно не возьмут!
Сунув руку под подушку, он вытащил оттуда увесистый пистолет и привычным движением передернул затвор, вгоняя пулю в ствол. Затем спросил:
— А у вас оружие есть?
— Нету, — замялся я, — как-то, знаете, не запасся. Я все больше привык — с ножом…
— Ну, голубчик, нож — это наивно! Здесь он вам не поможет. Не та ситуация.
Хозяин склонился к тумбочке, стоявшей у изголовья его кровати, пошарил там и извлек небольшой вальтер — никелированный, изящный, с наборной перламутровой рукоятью.
— Вот, держите! Вид у него, правда, дамский, игрушечный, но вы не обращайте внимания… Бьет хорошо, сильно.
Он зевнул, потянулся с хрустом. И тотчас обрел обычный свой вид — деловой, собранный, строгий.
— Кстати, документы у вас с собой?
— Там остались, — я мотнул головой, — в моей комнате.
— Где?
— Под подушкой.
— Сожгите! Немедленно сожгите! Или нет, ладно… Я сам. Затем он стремительно ринулся в коридор. И мгновенно дом охватила паника. Гулко затопали шаги. Дробясь и пересекаясь, заметались тревожные голоса.
Потянуло едким дымком — в соседних комнатах что-то жгли поспешно.
«А вот теперь пора уходить, — подумал я. — Теперь уже можно!»
* * *
Перед самым рассветом небо помрачнело, подернулось облаками. Темнота загустела, стала непроницаемой, и это помогло мне вторично выбраться из западни. Держа наготове вальтер (он уже успел привыкнуть к моей руке и лежал в ладони прочно, надежно и ласково), я пробрался во двор соседнего дома, оттуда — на сеновал, потом махнул через покосившуюся изгородь и оказался в чьем-то саду.
Дальше — я знал это — начиналась территория бойни. А там уже было недалеко и до железнодорожного полотна.
Однако добраться до полотна оказалось делом отнюдь не легким. Район был обложен со всех сторон. Кольцо облавы стягивалось неотвратимо и явственно. Повсюду в угольном мраке видел я шевелящиеся тени, улавливал подозрительные шорохи, бряцанье металла.
Меня, между прочим, сильно удивляло отсутствие в городе «звонарей» (на блатном языке так называются цепные собаки). «Почему они молчат? — недоумевал я. — Почему не лают? Куда они подевались?» В российской провинции, в любом, ее месте, даже и на окраинах Москвы, такое скопище людей среди ночи непременно бы вызвало общий собачий переполох… Но потом я сообразил, что, во-первых, город этот не русский, а именно — западный. И, кроме того, здесь совсем еще недавно шли бои. Дворовых собак почти всех повыбивали, разогнали — и это для чекистов было выгодным обстоятельством.
Выгодным для них так же, как и для меня!
Медленно, с трудом выбирался я из путаницы львовских улиц. Я крался, по городской окраине, поминутно вздрагивая и озираясь, и при каждом новом звуке пугливо приникал к оградам и деревьям. В иных местах приходилось двигаться ползком… Однажды я чуть было не столкнулся вплотную с каким-то человеком. Он прошел мимо, обдав меня кислым запахом махорки и шинельного сукна.
Свободно вздохнул я лишь в тот момент, когда передо мною возникли очертания станционных построек.
За ними уже растекалась неяркая прозелень. Низкое, подернутое мутью небо понемногу начинало светлеть. И, глядя туда, на восток, я подумал: значит, теперь мне нужно идти в этом направлении. Только в этом! Запад остался сзади, за спиною… И оглядываться на него уже нет смысла!
И сейчас же я оглянулся.
Я оглянулся невольно, объятый тревогой: сзади, за спиною, посыпались вдруг частые выстрелы. Они были слышны отчетливо. Простершаяся над городом тишина усиливала и множила их трескучее эхо.
Ахнул взрыв. Тяжкий медленный отзвук его прокатился по округе и приглушил перестрелку. Она помаленьку стала слабеть, выдыхаться. И тогда над крышами домов (над тем районом, откуда я только что выбрался) взошло багровое зарево пожара.
Оно взошло высоко, это зарево, и словно бы подпалило небо. Края облаков зарделись; косматую их пелену пронизал трепещущий мрачный свет.
Это гибла в огне бендеровская резиденция. Я вспомнил слова Хозяина: «Легко они нас не возьмут!» — и подумал о том, что он и его помощники — кто бы они ни были — оказались доблестными людьми. Они сумели достойно встретить беду. Ведь в конце концов каждый из них мог бы поступить точно так же, как и я, — выскользнуть из дома и скрыться! Конечно, идейный их путь и особенно их практика — все это не для меня; тут мы разные, мы навек чужие! Но все-таки в личном мужестве им не откажешь…
Стрельба — уже редкая и глухая — еще продолжалась какое-то время. Она то вспыхивала, то угасала, отступая все дальше, за край ночи, и наконец затихла совсем.
Я стоял, напряженно вытянувшись, глядя на Запад, на мятущиеся отблески огня. Потом отвернулся.
И увидел на Востоке такое же зарево.
Над станцией, над кущами садов, поднималось солнце — заливало кровли мутным багрянцем. Оно катилось в дымной, огненной мгле. Казалось, вся земля — из края в край — полыхает, объятая гибельным пламенем… Да так это, в сущности, и было!
Но размышлять на эту тему я не мог, не имел времени. Со стороны вокзала сюда, ко мне, шли гурьбою какие-то люди. Встречаться с ними было рискованно. И я, пригибаясь, юркнул в сторону, в палисадник, под защиту густо разросшихся акаций.
Там, в этих зарослях, я переждал, пока люди пройдут. Потом осмотрел себя и стал приводить в порядок: почистился, выбил пыль из пиджака, старательно надраил сапоги, навел на них блеск. И, упрятав пистолет в задний карман брюк, вышел, посвистывая, на дорогу.
Теперь надо было как можно скорее разыскать друзей. Они располагались в здешнем квартале — квартировали у вокзальных проституток.
К одной из них — к той, у которой поселился Левка Жид, я и направился тотчас же.
Это была девушка пухлая, щекастая, на низком ходу, и, вероятно, поэтому ее звали Булкой. «Я свою Булку за что люблю? — говорил Левка. — За оптимизм! Кормишь ее, ласкаешь — она смеется. Моришь голодом — опять смеется. Бьешь ее, дуру, — смеется еще того пуще».
Левка был, в какой-то мере, прав. Сколько я знал Булку, она вечно хихикала, веселилась; по любой причине заливалась мелким, грудным, рассыпчатым смехом.
Однако на этот раз она встретила меня хмуро.
— Уходи! — задыхаясь, проговорила она, стоя в дверях в одной рубашке. — Уходи быстрее! Тут такое творится!
— Что творится? — насторожился я.
— Кругом обыски, аресты, проверка документов… У меня этой ночью мусора два раза были. Слава Богу, Левка уже успел отвалить.
— Когда он уехал?
— Вчера днем. Собрал вещички и даже… — она вдруг всхлипнула, рот ее перекосился, — даже слова ласкового не сказал!
* * *
Не желая задерживаться во Львове, я покинул его в тот же день. Несколько остановок проехал в собачьем ящике… И повсюду, на любом разъезде, на каждой станции видел из-под вагона армейские сапоги. Они громыхали и цокали подковами, попирая булыжник, топча дощатый настил перронов. Их было множество, этих сапог! Железная дорога кишела чекистскими патрулями. Ехать дальше в таких условиях было опасно. Улучив момент (воспользовавшись тем, что разразился давно назревающий дождик), я украдкой отстал от поезда и схоронился в придорожной ржи. Дальше я уже шел все время пешком.
Происходило, в сущности, то же, что было когда-то на иранской границе. «Все повторяется, — уныло думал я, бредя по посевам, увязая в слякоти, разъезжаясь подошвами в мутных лужах, — все идет по спирали».
Да, действительно, все повторялось! Как и тогда, я стремился уйти от железной дороги — уйти подальше и, главное, поскорей… Разница заключалась лишь в том, что тогда, близ Ирана, я пропадал от жары и жажды, задыхался в пыли и мечтал обрести хоть каплю влаги. Теперь же я тосковал о солнце!
Темно-лиловая, как ночное небо, туча нависала над равниной; посверкивала и глухо ворчала. Дождь сыпал, не ослабевая. Ледяные его струи секли мне лицо и приминали тугие колосья. Я шел в хлебах по пояс, как в воде, раскачиваясь и с трудом переставляя ноги. Я вообще передвигался из последних сил, был на крайнем пределе. И единственное, что удерживало меня на ногах, это был страх. Инстинктивное желание уйти, избавиться от опасности. Незаметно пала ночь. Наступление ее уловить было непросто: над степью с утра клубилась сырая струистая сумеречь. Она постепенно сгущалась, мрачнела, наливалась чернотой… Я заметил, что молнии стали как бы ярче и пронзительней, и только тогда сообразил, что день уже, в сущности, прошел!
Надо мною возник короткий мертвенный белый свет. Он сверху донизу вспорол нависшую тучу — пошел по ней, ветвясь. Темнота раскрылась. На мгновение стали видны окрестности: тяжелые, глянцевые от влаги волны ржи, невысокий пригорок, силуэты хат. И неподалеку от меня — покатая верхушка стога.
Видение это вспыхнуло и исчезло. И сейчас же из мглистой бездны ударил яростный громовой раскат.
И опять раскололось и высветилось небо — дохнуло нестерпимым огнем и снова обрушилось с оглушительным треском.
Спасаясь от грозы, я кинулся к стогу; разворошил его, вырыл в нем просторное углубление и залез туда торопливо.
Сны мне виделись странные, какие-то морские: я где-то плыл, захлебывался, тонул… И мерз все время — отчаянно мерз! — никак не мог согреться.
Я проснулся совершенно мокрый, сотрясаясь от озноба. Одежда моя за ночь нисколько не просохла — наоборот! И все вокруг было на ощупь сырым и склизким. Озадаченный, выбрался я наружу и понял, в чем суть. Это было вовсе не, сено. (Да и откуда, в самом деле, могло взяться сено в такую пору, в самом начале мая?) Оказывается, я переночевал, зарывшись в кучу старой картофельной ботвы. Она была свалена на краю пустого перекопанного поля, и ее-то я принял в потемках за стог!
«Надо идти в село, — решил я, глядя на косогор, на смутно виднеющиеся в тумане крыши. — Попрошусь в какую-нибудь хату, отогреюсь хоть немного. Здесь, в глуши, мне уже нечего бояться!»
Еще издали, пересекая поле, я удивился безмолвию, царящему в селе. Не слышно было крика петухов, не мычали коровы, не скрипел колодец… «Что еще там стряслось?» — забеспокоился я. Поспешно поднялся по откосу, приблизился к околице и увидел, что село это вымершее, нежилое.
Многие дома здесь были разрушены, дворы захламлены, засыпаны прахом, единственная улица — изрыта воронками. Всюду виднелись следы былого огня и давнего запустения.
В этом месте, очевидно, проходила когда-то линия фронта. Я стоял, размышляя о разыгравшейся тут трагедии. Было тихо, пасмурно и жутковато. Неожиданно за спиною моей послышался шорох… Я выхватил пистолет, обернулся, всматриваясь в развалины, и с облегчением перевел дух.
Из- за груды обугленных досок выглядывала кошка. «Кис, кис», — позвал я. Она мяукнула в ответ и пошла, вытягивая шею, поставив палкой хвост.
Странно она шла! Неровно и как-то слишком уж неуверенно, словно слепая… Я подумал об этом и тотчас же понял, что так оно и есть. Кошка была слепой. Подойдя ко мне вплотную, она подняла голову. И на месте глаз ее обозначились черные пустые провалы.
Облезлая, покрытая струпьями, она ластилась ко мне и мяукала жалобно. «Последний живой обитатель села, — подумал я. — Но как же она все-таки кормится? Как она, незрячая, живет? И стоит ли так жить дальше? Не лучше ли разом покончить с ее мучениями?»
Невольным движением поднял я пистолет — хотел было выстрелить. И тут же опустил руку.
Она ведь ждет от меня не пули, а ласки или какой-нибудь еды… И стрелять в нее сейчас было бы кощунством. Было бы последней подлостью.
Уходя, я обернулся. И снова увидел кошку — в зыбких струях тумана. Она стояла, вытянув шею, и напряженно нюхала воздух. И голос ее, летящий мне вдогонку, напоминал отдаленный детский плач.
* * *
Так вот я шел по Украине — по следам недавней войны. Путь мой пролег через разрушенные села, спаленные перелески, опустелые хутора… после многих мытарств я угодил в Конотопскую тюрьму, а оттуда — в Харьков, на Холодную Гору. Затем проехал в этапном эшелоне по всей стране. Недолгое время пробыл на пересылке, в бухте Ванино. И, погрузившись в корабельный трюм, пересек туманное Охотское море.
Мой путь был извилист и непрост, но одно оставалось неизменным: я все время неуклонно двигался теперь на Восток!
День рождается из тьмы
Колыма
Этап наш прибыл в Магадан в бухту Нагаево поздней осенью 1947 года. Навигация кончалась уже; яростные штормы гремели над Охотским морем и заволакивали его снежной пеленою. Низкие тучи со свистом летели над белесой, изрытой ветром водою. И в горловине бухты, и у каменистых ее берегов уже кишело ледяное месиво; там образовывался припай.
После смрадных отсеков трюма — после многодневной качки и тесноты — соленый хлесткий ветер действовал опьяняюще. Шатаясь, кашляя, ежась от холода, сошли мы по трапу на берег. И вскоре очутились на пересылке, на знаменитой Карпунке — так называют колымчане центральный карантинный пункт.
Пересылка эта играет как бы роль чистилища: людей выдерживают здесь положенное для карантина время, сортируют их, перетасовывают и затем разгоняют по местным лагпунктам — по Дантовым «кругам»…
Одни из этих кругов уводят в рудники, в подземные, сумрачные недра, другие пролегают через болота лесотундровой полосы, третьи пересекают горы, четвертые — таежную глушь. Их много, этих кругов! Система колымских лагерей, именуемая официально Дальстроем, занимает территорию, равную примерно четырем таким странам, как Франция.
В сущности, Дальстрой — это особый мир, своеобразная республика. Государство в государстве. Здесь существуют свои законы, свой уклад, своя экономика. На многочисленных приисках и в рудничных шахтах добываются редкие и цветные металлы, конечно же, в первую очередь — золото!
На востоке страны нашей имеются два основных, самых мощных золотоносных центра. Один из них расположен в Красноярском крае, в бассейне Енисея, другой — в системе Дальстроя. И вот тут, на Колыме, намывается почти половина всего золотого запаса Российской Федерации. Помимо золота, отсюда в Россию идут также пушнина («мягкое золото»), уголь и слюда, первосортная древесина и ценные минералы. Она богата, потаенная эта республика! Богата, обширна, страшна.
«Колыма, Колыма, чудная планета, — поется в одной из старых лагерных частушек, — двенадцать месяцев зима, остальное — лето!» Сказано это метко. Климат здешний на редкость суров, зимы — длительны и свирепы. Полярная ночь начинается, по существу, с конца сентября.
В тот день, когда я впервые ступил на колымский берег (было всего лишь четыре часа дня), над причалом, над лагерными сторожевыми вышками, мерцало северное сияние. Зеленоватые зыбкие полотнища развертывались в вышине, в помраченной выстывшей бездне полыхали там и распадались бесшумно. И тусклым, каким-то мертвенным светом окрашивали землю и лица людей.
Зима уже, в сущности, наступила. И длиться ей теперь предстояло долго. Конечно, не двенадцать месяцев, как поется в частушке, но все же большую часть года!
Да, климат колымский суров: в середине зимы морозы бывают такие, что становится трудно дышать. Воздух обжигает гортань и верхушки легких. И пар от дыхания мгновенно густеет, шуршит у рта и осыпается сухими, колючими искрами.
В эту пору промерзшая почва трескается так же, как и безводный, выжженный зноем грунт пустынь. Со звонким гулом лопаются стволы деревьев. Гул идет по чащобе, и странно и жутко слышать, как звучит он в белой тиши, при полном безветрии.
Тайга полна голосами — и каждый голос здесь кричит о смутном, о безнадежном…
Птицы в такую пору безмолвствуют, зверье отлеживается в норах. И только люди копошатся на трассах и в рудниках, валят лес в тайге, уныло бредут по заснеженным дорогам. Подгоняемые конвоем, они идут, взявши руки назад и проклиная неволю.
«Будь проклята ты, Колыма, что прозвана чудной планетой! — так поется в другой широко известной лагерной песне. — Сойдешь поневоле с ума. Возврата отсюда уж нету».
* * *
Вот эту песню и напевал как раз Ленин, возясь на нарах карантинного барака, умащиваясь там, готовясь ко сну.
Мы лежали на одних нарах, рядышком. Справа от меня расположился Девка, молодой убийца с ангельским лицом. Слева — пожилой сибиряк по прозвищу Леший. Дальше, в самом углу, вил Ленин свое гнездо.
Узкоглазый, лысый, с бугристым шишковатым черепом, он копошился там и тянул, бормотал в половину голоса:
Прощай, дорогая жена,
Прощайте, любимые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Испить нам придется на свете.
— А ведь эта песня, братцы, про нас, — сказал внезапно Леший (он целый день пропадал где-то и только сейчас явился угрюмый, чем-то заметно удрученный). — Точно сказано! В самый цвет! Придется, ох, придется испить нам горькую чашу… Чует мое сердце.
— Не ной ты, за ради Господа, — сказал, осекшись, Володя Ленин. — Ну, чего ты, в самом деле?
— Да я не ною, — отозвался Леший. — Я так говорю, вообще… Но, с другой стороны, с чего бы это нам веселиться? Тут, среди придурков, в зоне обслуги, мне один знакомый растратчик встретился. Когда-то мы чалились вместе во Владимире. Так он мне порассказал кое-что…
— Что же, например? — спросил я.
— Н-ну что… — Леший поджал губы, крепко потер ладонью череп. — Много всякого. Насчет сучни, например. Ее здесь, оказывается, навалом. В каждом управлении половина лагпунктов — сучьи.
— Быть не может, — дернулся Ленин.
— Все точно, брат, — сказал со вздохом Леший, — все точно. На Сасумане — сучня, на Коркодоне тоже. И в Маркове и в Анюйске. И по всей главной трассе… Кругом ихние кодлы!
Он зашуршал папиросами, закурил, закашлялся, поперхнувшись дымом.
— Учтите, здесь на Карпунке тоже имеются суки. Недавно мне рассказывали такая мясня была, ой-ой! Пятнадцать трупов за одну ночь настряпали.
— Кто ж — кого? — спросил Девка.
Он помалкивал все это время, лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Теперь он вдруг привстал, опираясь на локоть.
— А черт его знает, — передернул плечами Леший, — я не уточнял.
— Да и какая разница, — проговорил я уныло. — Главное в том, что колесо это докатилось сюда, на край света. Теперь спокойной жизни уж не будет.
— А ты что ли спокойную жизнь ищешь? — спросил Девка. Свежий розовый рот его улыбался, ресницы подрагивали, роняя на щеки пушистую тень.
— А ты что ли нет? — покосился на него Леший.
— А я нет, — сказал небрежно Девка. — Зачем она мне? Если б я тихую жизнь искал, я бы себе другое занятие выбрал.
— Правильно, — подхватил Ленин. — У фрайеров — одна участь, у блатных — другая… Мы все тут живем, как на войне! — при этих словах он коротко, остро взглянул на меня и повторил со значением: — Как на войне! Это — закон. А кто не понимает — тот не наш…
«Ну вот, опять началось, — подумал я. — Опять он, негодяй, под меня подкапывается… Когда, наконец, он уймется?»
В этот момент заговорил сибиряк — и как бы невольно поддержал меня:
— Как на войне — это верно, — прищурился он, — только что ж хорошего? И почему вы, братцы, думаете, что блатным тихая жизнь не нужна? Она всем нужна, а уж тем более нам! — он протянул узловатый свой, темный палец — ткнул им Ленина в грудь. — Вот ты. Сколько времени ты уже шустришь? Когда в первый раз подзасекся?
— Да уж давно, — сказал Ленин, — в тридцать девятом.
— И где отбывал?
— В Тайшете.
— Ну, а я тяну лямку с тринадцатого. Понятно? Беломорканал строил вот этими вот руками. Понятно? Кандалакша, Медвежьегорск, Сегеж — это все мои места… Сколько у меня там корешей осталось — подумать страшно! И в Тайшетлаге тоже побывал, но до тебя еще, задолго. В тридцать третьем году, когда Канал окончили, нас всех, кто жив остался, поосвобождали досрочно. А потом началась изоляция. И я по новой загремел… Вот так, брат. А ты толкуешь! Если уж кто и прожил жизнь, как на войне, — так это я. Ну а что толку? Что я видел? Только буры, карцеры, режимные зоны. Доходил на штрафной паечке, всю дорогу дерьмо хлебал. И теперь опять придется… Опять придется хлебать…
Я никогда еще не видел Лешего таким возбужденным. Он разошелся не на шутку; изрытое глубокими морщинами лицо его побагровело, взялось густыми пятнами.
— Да к тому же еще сучня… С ней, конечно, ладу не будет. Тут борьба насмерть. Или — или. Или они нас — на колбасу, или мы их — на котлеты… Середины нет.
— Вот, вот, — подхватил Ленин, — я об этом как раз и толкую.
— Что ж, ты прав. Но, черт возьми, как все это отвратно! Для молодых, для таких, как ты или Девка, для вас эта жизнь в новинку… Ну а мне она давно уже обрыдла. Я ей по горло сыт.
Наклонясь над краем нар, Леший сплюнул шумно. И затем ребром ладони провел по жилистой шее своей, по хрящеватому кадыку:
— Вот так вот сыт!
— Что-то я не пойму, — медленно сказал тогда Ленин. — Уж не думаешь ли ты завязать, отойти от нас, а?
— Завязывать мне не к чему, — устало отмахнулся Леший. — Как теперь завяжешь, как отойдешь? — он как-то сразу сник, увял, расслабился. — Что я могу? Только замки курочить. А переучиваться — поздно. Нет, я к своему ремеслу присужденный навечно. Каким был, таким, видать, и кончусь. Только вот хотелось бы в покое…
— И где ж ты этот покой сыскать думаешь? — спросил Девка. — Им тут, батя, и не пахнет. Тут кровью пахнет. А покой — он где? Разве только на коечке, в санчасти, да еще на том свете.
— Да-а-а, санчасть, — мечтательно протянул Леший, — затесаться бы туда. Замастырить какую-нито болезнь! Вот только какую? Самос главное, чтобы все было без промаха…
— Ну, если хочешь наверняка, — сказал из угла Ленин, — коси на сумасшедшего. Способ старый, испытанный. Сумеешь доказать, что ты псих, на свободу пойдешь. Психов актируют с ходу.
— Да, но как доказать? Как вообще это делают — с чего начинают? Эх, знать бы…
— А чего тут знать, — усмехнулся Девка. — Дело плевое, простое. Ты говорил, что всю жизнь дерьмо хлебал… И еще, мол, придется. Так?
— Ну, так.
— Вот и хлебай теперь! По-настоящему! Начни его жрать — и лады; тут уж никто не усомнится. Дело верное. Да к тому же еще — и витамины…
— Ладно, не трепись, — поморщился Леший. — Ишь, скотина, чего надумал. Сам хлебай, если нравится.
* * *
Мы долго так толковали. И потом, угомонясь, каждый ворочался на нарах и думал свое… И мысли были тягостны и томны. И темны были окна барака; за ними стлалась полярная ночь. Там, повитая мглою, на тысячи верст окрест простерлась холодная неведомая земля.
Заснул я поздно и был среди ночи разбужен истошным воплем:
— Эй, урки, сюда! Скорее!
Ошалелые, плохо соображающие спросонья — что к чему, урки посыпались с нар. Ринулись к дверям и окружили стоявшего там парня.
Он стоял, привалясь спиной к дверному косяку. По щеке его и по шее шел косой багровый рубец. Телогрейка была разорвана и сплошь залита кровью.
Постанывая и морщась, потрогал он рану на шее. Пальцы его мгновенно окрасились в красное. Обвел нас помутненным взглядом и, указав окровавленной рукою на дверной проем, сказал с коротким дыханием:
— Спите, ядрена мать, греетесь… А там сучня блатных режет! — потом он всхлипнул и начал медленно оседать, сползая по притолоке наземь.
После освещенного барака ночная мгла показалась плотной, почти осязаемой. Полярные сполохи давно уже отплясали и выцвели. Небо теперь засевали звезды. Ледяные, далекие, они не разгоняли тьму, наоборот, подчеркивали ее еще сильнее.
Не сразу, с трудом освоился я в потемках и различил, наконец, фигуру человека, лежавшего, скорчившись, на земле, неподалеку от входа.
Здесь же маячили еще какие-то люди. Увидев шумную нашу ораву, они засуетились; сгрудились на миг, а потом рассыпались, убегая.
Не колеблясь и не раздумывая, я бросился вдогонку. За плечом моим кто-то хрипло, с присвистом, дышал. Потом, матерясь и гулко топая, поравнялся со мною Девка. В руке его поблескивало стальное лезвие. «Вот ловкач, — подумал я, — уже раздобыл где-то, вооружился! А я, как дурак, — с пустыми руками…»
— Ну, ты шустрый малый, — пробормотал я завистливо, — откуда перо? С этапа, что ли?
— Нет, — прерывисто ответил он на бегу. — У этого взял, у подколотого. Крепко они его сделали, сволочи. Саданули не только в шею, но и в бок. А другого — видел, наверное? — на земле, у барака… Того, кажется, — начисто, — он перевел дух и затем, толкнув меня локтем, сказал: — Видишь вот тех двух, которые слева? Я их сразу приметил. А ну-ка, давай поднажмем!
Фигуры убегающих заметно приблизились, стали отчетливее — мы догоняли их. Приятель мой рассмеялся.
Я бежал с ним рядом и торопливо соображал: «Как быть мне, что делать? С минуты на минуту мы должны столкнуться с врагами, сойтись вплотную — лицом к лицу — и что тогда? Девке хорошо, он успел о себе позаботиться. А я, безоружный, сразу же окажусь под ударом…»
От ножа, конечно, можно уберечься; существует немало рукопашных приемов, рассчитанных на такие именно случаи. И все-таки, все-таки… Недаром же ведь существует старая донская поговорка: «Казак без клинка — голый. Он — как баба с задранным подолом!»
Сейчас я чувствовал себя именно таким вот — голым и беспомощным. Сознавать это было неприятно. Из живота возник и шел по коже мерзкий щекотный холодок. Но остановиться я уже не мог: мною двигали инерция и жестокий гончий азарт.
Фигуры впереди застыли, замерли. К ним присоединилась еще одна — внезапно вывернулась откуда-то из темноты. И тогда они, все трое, поворотились к нам лицом. Очевидно поняв, что уйти от погони не удастся, суки решили принять бой.
Теперь нас разделяло всего лишь несколько шагов. Я замедлил бег и напрягся весь, заходя сбоку, наметив себе крайнюю из фигур… Вдруг кто-то цепко ухватил меня сзади за рукав и оттеснил в сторону. И, скосив глаза, я увидел Лешего — это он, оказывается, все время дышал мне в затылок.
— Погоди-ка, — бормотнул он хрипло, — не суйся зазря. Тут надо умеючи.
— Да я умею, — возразил я, — когда-то в армии проходил эту науку.
Он, казалось, не слышал меня, рванул за рукав и отбросил назад. И, загородив собою, крупно шагнул к сучне.
— Ну, держитесь, падлы! — пронзительно вскрикнул Девка. — Живыми не уйдете!
И в этот самый момент над головами нашими сверкнул голубой прожекторный луч. Он описал в темном небе восьмерку и потом упал на нас, накрыл с размаху. И ослепил, и высветил каждого.
Я увидел лица врагов; они были искажены страхом и злобой. Самый крайний из них — тот, кого я наметил себе, — чем-то разительно напоминал Гундосого. Такой же был он тощий, жилистый, длинношеий. И так же по-совиному смотрели его круглые, бесцветные, тесно посаженные глаза.
И так же точно он дергался и бубнил что-то, заслонясь рукою от света.
Прожектор бил с угловой вышки. И оттуда, спустя мгновение, прозвучала четкая автоматная очередь.
Зону охватила тревога. Затмевая звезды, возник в вышине еще один луч. Пришел с другой стороны, снизился, уперся в стену соседнего барака — подрожал там, пошарил. И медленно, словно бы ощупью, двинулся к нам.
— Тикайте, братцы, — завопил Леший протяжно. И сейчас же толпа распалась, рассеялась.
Слепящие, бьющие наперекрест лучи как бы разделили людей непроходимой чертою: суки подались в одну сторону, блатные — в другую.
Едва мы вернулись в барак, туда ворвались надзиратели. С ними явились и санитары; ночные эти тревоги были здесь, очевидно, делом привычным.
Раненых подобрали, унесли в лазарет. Нам же было велено умолкнуть и спать. «Если кто-нибудь выйдет наружу, — заявил старшой — низкорослый татарин в лейтенантских погонах, — охране разрешено стрелять без предупреждения!»
Потом мы долго еще не могли успокоиться. Было решено отныне дежурить ночами по очереди. Кинули жребий. И выбор, как водится, сразу же пал на меня.
Так вот прошла первая моя ночь на Колыме!
Примостясь у печки, неподалеку от входа, я покуривал, глядя в огонь и размышляя о том, какой я, в сущности, невезучий! «Никогда еще мне не выпадал хороший жребий. Не было удачи ни в чем — и даже мясо в супе не попадалось ни разу!.. И если такова моя обычная участь, то что же ждет меня впереди? Какие еще неприятности уготованы мне в проклятом этом краю?»
Судилище
Неприятности начались на следующий же день.
Выспаться утром мне так и не удалось: всех нас погнали на медицинский осмотр, и процедура эта была долгая, неприятная, нудная.
Отдохнуть от треволнений минувшей ночи я смог лишь после обеда (мясо в супе не попалось мне и на этот раз!). И только угрелся, погрузился в забытье, как почувствовал, что кто-то теребит меня за ногу.
Раздраженный, разгневанный, я свесился с нар. И увидел незнакомое мне лицо: толстогубое, усыпанное крупными рыжими веснушками.
— Вставай, Чума, — проговорил рыжий. — Я за тобой.
— А ты кто такой?
— Неважно, — ответил он.
— Но в чем дело?
— Дело в том, что меня послали… Велено привести. Вставай!
— Кто послал? — спросил я, потягиваясь и зевая, с трудом продираясь сквозь липкую одурь сна.
— Урки.
— Зачем?
— Иди — там узнаешь!
— А где они?
— В соседнем бараке, — он нетерпеливо махнул рукой. — Вся кодла собралась. Специально. Ждут тебя!
И мгновенно я поднялся, трезвея и настораживаясь. Передо мною стоял посланец кодлы.
* * *
Кодла собралась в дальнем, самом темном углу барака. И первым, кого я там увидел, был Ленин.
Он восседал на нарах, скрестив по-турецки ноги, упираясь локтями в широко раздвинутые колени.
— Приветик, — сказал он, наклонив бугристый свой, выпуклый лоб. — Садись, Чума. Ближе садись! Есть до тебя разговор.
— О чем разговор? — спросил я, усаживаясь и ощущая смутное щемящее беспокойство. Не нравился мне его тон. Ох, не нравился… И непонятным, и странным было молчание, которым встретило меня остальное ворье.
— Так о чем же? — повторил я, оглядывая пестрое блатное сборище.
— Да так… Кое о чем. А может, ты сам догадываешься, а?
— Нет, — сказал я, — не догадываюсь. И ты не темни — говори прямо!
— Ну, если прямо… — он прищурился, чмокнул губами. — Тогда ответь: ты в армии служил?
Я ожидал всего, что угодно, но только не этого вопроса. И на какой-то миг онемел, растерялся… «Как он узнал? — зигзагом прошло в голове. — Откуда?»
И тут же пришла вторая мысль:
«Теперь я пропал. Любой блатной, побывавший в армии, механически зачислялся в разряд сучни… А ведь сейчас с сучнею идет война. И если я не оправдаюсь, не вывернусь, меня отсюда не выпустят. Зарежут здесь же, на этих нарах… Главное сейчас — не колебаться. Не признаваться ни в чем! Надо вести себя так же, как и на следствии. В конце концов, точных данных у него нет. Не может быть… Но все-таки — как он узнал?»
— Н-ну, поэт? — тихо, ласково сказал мне Ленин. — Что же ты вдруг притих?
И сейчас же послышался высокий, мурлыкающий голос Девки:
— Не молчи, старик, ох, не молчи!
— Да я не молчу, — медленно, цедя сквозь зубы воздух, проговорил я. — Просто — противно… Противно отвечать! — и, глядя на Ленина, спросил, ломая глазами его взгляд: — Откуда ты все это взял?
— С твоих же собственных слов, — быстро ответил Ленин. — Ты сам проговорился. Сам признался.
— Сам? Не смеши меня. Когда это было?
— Вчера ночью.
Ленин грузно повернулся, позвал:
— Coco! — и немедленно из полутьмы выдвинулся какой-то смуглый, восточного типа человек. — Расскажи, Coco, — приветливо, собрав морщинки у глаз, сказал Ленин, — расскажи, как все было?
— Да просто было, — гортанно и хрипловато заговорил Coco. — Ночью, когда мы за суками погнались, я оказался возле Лешего — сзади бежал…
В это мгновение вновь послышался насмешливый, ленивый Девкин тенорок:
— Сзади? Вот как!
И тотчас же по нарам, по лицам людей, прошла волна веселого оживления.
Я не мог понять: подыгрывает мне Девка или же просто резвится? Разгадать этого парня вообще было нелегко. Однако реплика его помогла мне: она сразу разрядила атмосферу и настроила собрание на игривый лад.
И за это я был благодарен Девке.
Зато Coco не мог прийти в себя от возмущения.
— Ты, слушай, меня нэ подначивай, — вскипел он, размахивая руками. — Нэ строй намеки… Сзади! — он фыркнул и побагровел. — Я нэ бегун. Нэ спортсмэн. Рэзать мы можем, а бэгать — нэт.
— Ладно, ладно, — потрепал его Ленин по плечу. — Кто ж в этом сомневается?
И потом — скороговоркой, косясь в ту сторону, где находился Девка:
— Ты, ядрена мать, не мешай, не мути воду.
И опять, обращаясь к кавказцу, держа ладонь на его плече:
— Больно уж ты горяч, — проговорил он с укоризной. — Нельзя же так! Человек пошутил, а ты…
— Какие шутки, слушай? — кипел и ерзал Coco. — Тут разговор серьезный.
— Ну, так и продолжай, — сказал Ленин. — Значит, ты был рядом…
— Совсэм рядом!
— И все слышал?
— Конэчно.
— И можешь повторить — сейчас, при всех?
— А почему нэт? — Coco пожал плечами. — Ясное дело — могу.
— Так повтори, — тихо, настойчиво проговорил Ленин. — Расскажи блатным, о чем вчера болтал Чума? Что он говорил Лешему?
— Об армии говорил. О том, что он там изучал всякие приемы…
Теперь все смотрели на меня; молча смотрели, выжидающе. Они тяжелы были — эти взгляды. Я ощущал их почти физически.
— О, Господи, какая чушь, — сказал я, стараясь держаться как можно непринужденнее. — Не нашли другой темы. Что ж, я и действительно говорил…
— Ага, — подался ко мне Ленин. — Ага!
— Что — «ага»? Я говорил. Но как! В каком смысле!
— А-а-а, — отмахнулся он небрежно, — это не играет…
— Нет, почему же, играет, — возразил я, — еще как играет! Я говорил о том, что знаю армейские приемы, ну и что? Мало ли где и как я мог их изучить? Знать их — одно. А быть в армии, служить — совсем другое. Если уж мы начнем эти понятия смешивать… Вот ты, например!
Я стремительно повернулся к Coco — уцепил его согнутым пальцем за воротник:
— Ты кто — грузин?
— Мингрелец, — растерянно ответил он. — А почему?…
— Шашлык любишь?
— Конечно.
— Знаешь, как его приготовляют?
— Знаю.
— Ну, а сам жарил когда-нибудь?
— Еще бы! Сколько раз…
— Так, может, ты не блатной, а повар? — спросил я медленно.
— Что-о-о? — Coco стал надуваться, глаза его вышли из орбит, челюсть отвалилась. — Как ты сказал? Опять намеки?
На нарах грохнули. Глядя на веселящихся, гогочущих урок, я развел руками и сказал смирным голосом:
— Вот так вот, ребята, можно обвинить любого из нас. Каждого! Один знает одно, другой — другое… Мало ли кто из нас что знает?… О чем тут толковать? И мне вообще непонятно: какой смысл во всем этом копаться? Есть ведь поважнее дела. По зоне вон сучня бродит: половина пересылки в се руках…
— Вот потому, что половина пересылки, — сказал Ленин, — потому нам и надо знать: кто у нас кто… И ты не верти! — он поднял палец и помахал им перед моим лицом. — Ты говорить мастак, я знаю. Умеешь изворачиваться… Поэт! Только здесь это не поможет. Что в Ростове проходило — на Колыме хрен пройдет.
— Это еще что за намеки? — спросил я, подражая кавказцу, подделываясь под его интонацию. — Куда ты клонишь?
— Все туда же, — усмехнулся он, — все туда же, — и, насупясь, собрав складками кожу на лбу, он спросил, отделяя слова: — Так, ты утверждаешь, что в армии не был, не служил?
— Нет, — сказал я твердо, — не служил.
— И можешь доказать это?
— А ты, — прищурился я, — ты можешь доказать обратное?
— Я — нет, — замялся Ленин, — но ведь имеются люди…
— Какие люди? Вот этот Coco? Да он же не русский. Мало ли что ему могло померещиться?! Ему всюду разные намеки чудятся… Смешно! И вообще, урки, — тут я привстал и осмотрелся, выказывая всем видом своим недоумение и праведный гнев, — я не пойму, что здесь — воровское толковище или наш советский суд? Это только на суде так делается — обвиняют без причин… А у нас, у блатных, все должно быть по справедливости, по правде.
Кодла снова загомонила, задвигалась, кто-то проворчал из полутьмы:
— Кончайте этот балаган!
И еще один голос прорезался сквозь шум:
— А где, кстати, Леший? Куда он подевался? Давайте его сюда! Спросим — и точка. И все дела.
— Вот это правильно, — подхватил Coco. — Пусть сам Леший скажет. В самом деле, где он?
Лешего, признаться, я боялся больше всего. (Coco был не опасен мне — я обезвредил его без труда!) Отсутствие сибиряка удивляло меня с самого начала; удивляло и, конечно, радовало. И сейчас я напряженно ждал: что ответит Ленин на этот вопрос?
— Ч-черт его знает, — сказал озадаченно Ленин. — Не пойму, — он засопел, поскреб ногтями лысину. — Пацаны всю зону облазили, с ног сбились. И сейчас еще ищут. Запропастился куда-то, прямо как в воду канул!
— А может, его в зоне уже и нет? — хихикнул Девка. — Может, он в побеге?
— И сколько мы так сидеть будем? — поинтересовался Конопатый — тот самый парень, который вызвал меня на это судилище.
— Подождем еще немного, — сказал Ленин. — Авось, найдется. Время терпит.
— Да нет, — возразили ему, — не терпит…
— Но ведь толковище не кончилось! — угрюмо и веско заявил Ленин. — Вы что, правил не знаете? Дело это оставлять нельзя. Надо что-то решать… А Леший найдется, появится.
Однако Леший так и не появился. Урки ждали его долго. Некоторые от скуки стали резаться в карты. Кто-то звучно всхрапнул. Затем в углу послышалась песня:
Костюмчик серенький, колесики со скрипом
Я на тюремный на бушлатик променял.
Это была моя песня! И блатные знали это. И, услышав ее, я подумал с облегчением: раз поют, значит, верят… Значит, здесь у меня есть сторонники. Что ж, это неплохо. Мы еще поборемся, Володя! Потягаемся! Мы еще кокнемся — посмотрим, чье разобьется…
Дверь барака распахнулась с грохотом; ворвался взъерошенный, запыхавшийся пацан.
— Нашелся, эй! — закричал он еще с порога. — Нашелся ваш Леший!
— Где ж он? — встрепенулся Ленин.
— В санчасти.
— Он что, заболел, что ли?
— Да вроде бы, — сказал пацан, отдуваясь и шмыгая носом. — Не поймешь — то ли всерьез, то ли косит, притворяется.
— Как же он косит?
— Странно… — востроносое, щуплое лицо паренька дрогнуло, исказилось гримасой…
— Но все же? Что он там делает?
— Ест дерьмо…
И сейчас же звонко, заливисто захохотал Девка:
— Взаправду ест? Хлебает?
— Ну да, — кивнул, поеживаясь, рассыльный. — Хлебает.
— И как же он хлебает?
— Да прямо рукой — из больничной параши…
— Ну, молодец, старик! — воскликнул Девка. — Послушался все-таки дельного совета… Ай, ловкач, ай, пройдоха!
Он сотрясался весь, стенал и захлебывался от хохота. Но окружающие молчали: людям было на этот раз не смешно.
И чтобы пресечь неуместное это Девкино веселье, кто-то сказал — досадливо и нетерпеливо:
— Ладно, заглохни! И вообще, хватит о дерьме. Давайте-ка, чижики, потолкуем о главном.
— Вот и я — о том же… — подхватил Ленин. Но его перебили:
— Насчет Чумы — разговор без пользы. Дело это мутное.
Без Лешего тут все равно ничего не решить… И сейчас не это главное.
— А что? — спросил заносчиво Ленин. — Что же?
— Главное то, что вокруг нас — суки! Чума прав. Они вооружены, а мы — с пустыми руками. Так не годится. Надо что-то делать… Где-то доставать ножи!
* * *
Тем и завершилось роковое это судилище. Обвинение, предъявленное мне Лениным и Coco, осталось недоказанным. Основной, самый важный свидетель по делу выбыл внезапно и навсегда.
Странно все-таки переплелись наши судьбы: вот уже второй раз сибиряк этот выручал меня, уберегал от беды.
Минувшей ночью он уберег меня от сучьего ножа, теперь же, невольно, — от ножа блатного.
Я долго думал потом о Лешем… Во всем ведь есть свои пределы; та отчетливая черта, переступать которую нельзя… Теперь, отступя от событий и взирая на них спокойно, со стороны, я отлично вижу эту разницу планов, это несоответствие между целью и средством. Но тогда, на нарах, окруженный кодлой, я прежде всего думал о собственном своем спасении. И известие, которое принес рассыльный, переполнило меня жгучей радостью.
Конечно, и потрясло, и смутило, как и всех прочих. Но все-таки первым моим чувством было облегчение… Я словно бы сразу вернулся к жизни, ощутил под ногами твердую почву.
Конец Ленина
А теперь начинается самое трудное; я как-то даже боюсь рассказывать… Признаваться в собственных своих слабостях — куда ни шло. На это еще можно решиться. Гораздо труднее пойти на признание в подлости.
А впрочем, не знаю. Не знаю. Может быть, в том, что я совершил, никакой особенной подлости и нет? Да, пожалуй, что и нет.
В конце концов, моя вражда с Лениным зашла так далеко и сделалась столь очевидной, что поневоле возникал вопрос: кто — кого? Было ясно: если я не уберу, его, не уничтожу, то он рано или поздно уничтожит меня. Он уже попробовал сделать это, но неудачно. Зачем же было мне ждать повторения? Ленин ведь был не из тех, кто останавливается на полдороге…
Есть старинная босяцкая поговорка: «Умри ты сегодня, а я завтра». Вот в соответствии с ней я и решил поступить.
Проще всего было бы, конечно, затеять с Лениным драку — подловить его на нож и покончить все разом. Однако этот самый верный и испытанный способ был в данном случае почти неосуществим. Все усложнялось тем, что мы с ним по идее были не врагами, а соратниками; находились в одних рядах, в одном и том же клане.
Все конфликты между блатными, все спорные проблемы решаются, как правило, на общих сходках. И для того, чтобы в этих условиях устранить врага, лучше всего действовать не силой, а хитростью.
Сшибаться в схватке запрещено, зато подсиживать друг друга, интриговать, ловить на промашках — можно сколько угодно! Внутрипартийная борьба, в принципе, везде одинакова, всегда одна и та же… Что ж, я с чистой душою воспользовался своим правом.
Ленин начал первым. Теперь, по правилам игры, наступила моя очередь.
* * *
Течение дальнейших событий оказалось для меня весьма благоприятным. Начать с того, что Ленин — вскоре после памятной этой сходки — внезапно угодил в карцер: поспорил во время утренней проверки с надзирателем, нагрубил ему и получил пять суток строгача.
Обстоятельство это привело к неожиданным результатам… Дело в том, что Ленин был марафетчиком. До сих пор я как-то не обращал на это внимания. Да и то сказать — для меня здесь не было ничего необычного! Почти все мои друзья и знакомые, каждый по-своему, увлекался марафетом. А так как в здешних условиях добывать наркотики было очень трудно, если не сказать невозможно, то все они прибегали к заменителям: принимали всевозможные лекарства с сильнодействующими веществами. Девка, например, употреблял кодеин — лекарство от кашля. Ленин пробавлялся желудочными каплями, содержащими в себе опиум.
Когда Ленин был с нами в бараке, он ухитрялся регулярно доставать свои капли — постоянно ходил в санчасть, просил друзей позаботиться об этом. Теперь же, сидя в карцере, в полнейшей изоляция, он оказался лишенным всех этих возможностей.
* * *
Вскоре по зоне разнесся слух, что с Лениным творится неладное — он бьется в истерике и требует в камеру врача.
Слухи о том, что происходит за бетонными стенами карцера, просачивались в зону разными путями. Иногда их приносил нам кто-нибудь из штрафников, отбывших наказание, иногда дневальные штабного барака. Каждодневно общаясь с начальством, растапливая печи и моя в кабинетах полы, дневальные эти, естественно, слышали многое, были о многом осведомлены. Среди них особым доверием арестантов пользовался некто Кирей — в прошлом довольно известный крымский спекулянт.
Вот этот самый Кирей случайно подслушал разговор, который вел оперуполномоченный (по-лагерному кум) с одним из надзирателей, работающих в карцере. Подслушал и немедленно сообщил обо всем блатным.
Что ж, состояние Ленина было понятным. У него началась реакция, известная любому наркоману.
За всякое увлечение приходится расплачиваться — это старая истина. И, пожалуй, самая тяжкая, самая мучительная расплата выпадает на долю лагерных наркоманов… Мы знали это. Знали также и то, что заполучить врача в карцер было для Ленина делом почти безнадежным. Работники санчасти допускались к штрафникам лишь в особых, чрезвычайных случаях.
Но даже если бы кто-нибудь и явился в карцер к Ленину, это тоже вряд ли бы ему помогло.
Все наши хитрости и уловки были, в принципе, известны администрации. Она зорко следила за выполнением правил. И если в обычных условиях — в общей зоне — правила эти еще как-то можно было обойти, то в карцере любая такая попытка была обречена на провал. Не каждый лагерный «лепила» (почти все они были заключенные), далеко не каждый стал бы помогать Ленину и рисковать своим благополучием.
Среди местных медиков имелся один лишь человек — бывший студент мединститута Сема Реутский, на которого можно было рассчитывать. Сема был фрайер, конечно. Но фрайер, что называется, «битый», «прокаженный». Он считался политическим (сидел по пятьдесят восьмой статье — за болтовню), но душа у него была наша. Уроженец Одессы, он вырос среди портовых босяков, когда-то дружил со шпаною и навсегда сохранил в себе авантюрный душок.
На него-то как раз и надеялся Ленин и уповали блатные.
Однако все получилось иначе.
На третий день, после того как Ленин угодил в карцер, Сему неожиданно угнали на этап (его перебрасывали на Сасуман в приисковую лечебницу). Он покинул пересылку утром. А чуть позднее — перед обедом — штрафников посетил кум.
Кум пробыл в карцере довольно долго; осматривал камеры, толковал с арестантами. Был он и у Ленина (об этом стало известно от того же Кирея) и о чем-то беседовал с ним…
Содержание их беседы осталось неизвестным; оперуполномоченный заходил к Ленину один, без провожатых. Впрочем так он и всегда поступал, и факт этот сам по себе не значил еще ровным счетом ничего.
Заинтересовало и озадачило блатных другое обстоятельство.
После того как кум посетил карцер, Ленин сразу же успокоился и затих. Самочувствие его странным образом улучшилось, припадки кончились. И это, естественно, наводило на мысль, что он наконец-то сумел получить свои капли.
Сумел получить. Но из чьих же рук? Неужели из рук проклятого опера?
Такое предположение казалось невероятным и диким. Но иного ответа на вопрос этот не было, не находилось…
А еще через пару дней в бараке нашем внезапно был сделан повальный обыск. Надзиратели перерыли все помещение и в результате добрались до тайника (он находился в углу барака, под полом), где хранилось все наше оружие: самодельные ножи и пиковины.
Кстати, об оружии. Для изготовления ножей в лагерных условиях употребляются обычно пилы — преимущественно ручные. Из полотна одной пилы «ножовки», например, получается три превосходных финяка! Пиковинами называются металлические, полуметровой длины штыри или толстые прутья, остро заточенные с одного конца. Материал для этого имеется в изобилии на любой стройке; из таких прутьев состоит бетонная арматура! Вблизи Карпунки — в пору описываемых здесь событий — возводились бетонированные здания каких-то складов. Оттуда и попали к нам пиковины.
Оружие это, вообще говоря, страшное. В драке пиковиной пользуются по-разному. Чаще всего — в соответствии с названием, как своеобразной пикой. Она отлично приспособлена для этого. Она протыкает человека с легкостью, как булавка бабочку. Можно также бить стальным этим прутом наотмашь; от такого удара череп раскалывается, словно грецкий орех.
Привыкший к ножу, я поначалу отнесся к новому оружию с сомнением. Девка же оценил пиковины сразу. И когда их изъяли у нас, сокрушался и негодовал, пожалуй, сильнее всех прочих.
И именно он один из первых высказал вслух мысль о том, что виновен во всем этом не кто иной, как Ленин!
— Акромя некому, чего тут гадать, — заявил он, сидя как-то ночью на нарах и шумно отдуваясь и жмурясь, прихлебывая из кружки дымящийся черный чифир. — Заложил нас, продал за флакон своего марафета. Это дважды два. Но ведь каков подлец! Бдительность травил, повсюду врагов искал, все допытывался, кто чем дышит…
— Такие завсегда первыми сучатся, — поддержал его старый карманник Рыжий. — Я, братцы, знаю: повидал на веку… Сколько хошь примеров есть.
* * *
Я сидел здесь же, возле Рыжего, но в разговоры не ввязывался. Курил, помалкивал, медленно цедил чифирок. Чифир — напиток удивительный, ни с чем не схожий. Он распространен на всем азиатском севере. Приготавливают его из обычного «черного» чая, но по-особому, по-азиатски. Принцип здесь таков: как можно больше чая и как можно меньше воды. Как правило, на литр кипятку идет сто граммов заварки. Чифир отличается от обычного чая еще и тем, что его не настаивают на кипятке, а варят так же, как картошку. Густое это, терпкое варево обладает возбуждающими свойствами. От него гулко вздрагивает сердце и кровь становится горяча. Веселым звоном идет чифир по жилам, и проясняет мысли, и будит воспоминания.
Любопытная эта особенность чая была, между прочим, хорошо известна древним. Задолго до того, как арабы открыли способ дистилляции алкоголя, крепкий чай (вот именно такой чай «чифир») употреблялся в качестве веселящего напитка. Секрет этот знали древние греки, семиты, сирийские племена, а также народы Малой Азии и Дальнего Востока…С течением времени секрет чифира в большинстве стран утратился, забылся; веселящий этот напиток сменился новыми… сохранился он только в Евразии- и на северных окраинах материка. Здесь им и поныне пользуются охотники, оленеводы, золотоискатели и погонщики собачьих упряжек. Пользуются не зря, не случайно! В условиях севера чифир, по сути дела, незаменим. Он греет лучше всякого спирта. Спасаться спиртом от холода опасно, алкоголь коварен. Это знает любой северянин. Выпивка бодрит лишь вначале, а затем расслабляет, затуманивает и валит с ног.
Нет, чифир в этом смысле куда надежнее и вернее! Он поддерживает в пути и на привале. Он помогает коротать в тайге томительные долгие ночи. Веселит усталых людей — будоражит их и побуждает к долгим беседам. Потому-то он так и популярен на востоке страны. И не только среди туземцев, но и среди пестрого населения арктических лагерей.
Особенно много чифиристов среди блатных. Напиток этот является для них как бы своеобразным наркотиком. Его пьют с наслаждением, смакуя каждый глоток. Пьют обычно не с сахаром, а с солью. Еще лучше годится здесь копченая рыбка. Если добавить к этому хорошую крепкую папиросу, то получается неплохой букет!
Этот букет, конечно же, способен оценить не каждый; тут нужен знаток, нужен истинный любитель.
Такими вот знатоками были почти все мои приятели, в том числе и Девка, и Рыжий. Да и сам я тоже понимал в этом деле — любил посидеть, подумать над кружкой горячего чифирку.
И теперь, расположившись на нарах, я неспешно цедил сквозь зубы густую пахучую влагу. Смаковал ее. Закусывал копченой рыбкой. Дымил папиросами — хорошими и крепкими, добытыми вместе с закуской у поваров на итээровской кухне.
И молчал. Упорно молчал, несмотря на то, что мог бы при желании рассказать ребятам немало интересного…
Мог бы открыть им всю правду и объяснить, каким образом удалось Ленину обрести свой опиум.
Он получил его честно; он никого не обманул и не предал! Злополучный этот флакон с лекарствами передал ему Сема Реутский. Перед отъездом Сема все-таки успел заскочить в карцер. И я был свидетелем этому. В то самое утро я успел побывать в больничном бараке…
* * *
Я оказался там совершенно случайно; проходил мимо и вспомнил вдруг о Лешем. И тотчас решил его навестить. Леший помещался в отдельной палате, в самом конце коридора. И первое, что ощутил я, проникнув туда, был запах. Тошнотворный запах дерьма. Сокрушительный и едкий аммиачный смрад.
Крепко зажимая нос ладонью, переступил я порог и увидел Лешего. Он сидел в углу на краешке низкого дощатого топчана. Темное, изрытое глубокими морщинами, лицо его было опущено, кисти рук безвольно свисали промеж расставленных колен.
Я окликнул его раз и другой, но он не ответил, не шевельнулся, только чуть покосился на меня из-под нависших бровей, сверкнул белками и погасил взгляд.
В комнате было полутемно; сквозь зарешеченное окошко сочилась белесоватая сумеречь, клубилась у стен и размывала, затуманивала очертания предметов. Я не разглядел, не приметил деталей. Но общий вид помещения и фигура Лешего (сгорбленная его поза, его немота, его запекшееся темное лицо) и, главное, чудовищный, невыносимый запах — все это запомнилось мне надолго.
По сей день стоит только подумать об этом, на мгновение углубиться в былое, и сразу же передо мною возникает больничная палата, силуэт Лешего, смрадный, мерзостный полумрак…
Вот так, с перехваченной глоткой, пошатываясь и почти не дыша, выбрался я тогда в коридор. Торопливо закурил. И, удрученный, двинулся в выходу.
И у самых дверей — лицом к лицу — столкнулся с Семой Реутским.
Внимательно посмотрев на меня, Сема спросил:
— Что с тобою, старик?
— Да понимаешь, — пробормотал я, задыхаясь, — я сейчас у Лешего был…
— Ах, у психа! — он усмехнулся. — Ну и как? Сбежал, я вижу, не выдержал?
— Поневоле сбежишь, — ответил я. — Не представляю, как он там сидит. Как выдерживает?… Ведь задохнуться можно! Послушай, — я взял его за рукав. — Почему?…
— Ну, как почему? — Сема пожал плечами. — Как почему? Ты же сам знаешь, что он жрет, чем, так сказать, питается.
— Знаю, — кивнул я, — но все-таки… Ему что же — специально приносят?
— Вот именно! По приказанию главврача. Он как увидел Лешего, сразу решил, что тот косит. Ну, и нарочно, сволочь, распорядился. Пускай, говорит, жрет. Пускай этот вариант оправдывает. Я его, говорит, отучу хитрить. Нравится дерьмо — что ж, ладно. Будет получать регулярно, три раза в день. Посмотрим, что он запоет.
Реутский умолк, наморшась, и затем, придвинувшись ко мне вплотную:
— Мне все же непонятно, — проговорил он, понижая голос. — Этот Леший, что, в самом деле, косит? Или, может, он болен по-настоящему?
— А черт его знает, — уклонился я. Сема хоть и хороший был парень, свой парень, но все-таки открывать блатные секреты таким, как он, было нельзя, не положено. — Ты ведь медик, тебе и карты в руки, — я сказал так и сейчас же добавил: — А что тебя, собственно, смущает?
— Да вот именно то, что Леший, с одной стороны, никак не походит на настоящего шизофреника. Понимаешь? Не укладывается в рамки. Ни под какую категорию его не подведешь. А с другой стороны, это самое дерьмо… Какой же нормальный человек станет его есть? Да еще так, как Леший.
Безотказно, старательно, три раза в день… Три раза! Ты только подумай!
— И неужели безотказно?
— В том-то и дело.
— Но послушай, — сказал я, — раз уж он и в самом деле таков, значит, что-то есть. Ты же сам говоришь: ни один нормальный человек так не смог бы… Какую-нибудь комиссию ему назначат все же? Должны? Как ты думаешь?
— Конечно, — махнул Сема рукой. — Если так будет продолжаться… Главврач прямо заявил: или я его разоблачу, расколю, или же — открою новый случай в психиатрии. И так и эдак — все равно истина сокрыта в дерьме. Чем больше его Леший сожрет, тем лучше… Вот как он заявил! Он негодяй, конечно, подонок. Но человек опытный, этого от него не отнимешь! И, что самое печальное, неглупый.
— Значит, истина сокрыта в дерьме, — повторил я медленно. — Что ж, кое в чем он, пожалуй, разбирается — твой начальничек! Он у тебя философ, Семка.
— Он во многом разбирается, — уныло подтвердил Сема Реутский. — И на этап я сейчас ухожу из-за него! Из-за этого философа!
И сейчас же он заспешил, засуетился — вспомнил, что до отправки на этап остается всего лишь часа полтора…
— Времени в обрез, а дел уйма, — сказал он, торопливо прощаясь со мною. — Надо в каптерке побывать, сдать кое-какое барахлишко. Потом получить у нарядчика старый должок, да еще успеть заскочить в карцер. Там один тип сидит — из ваших. Прислал мне ксивенку: просит желудочные капли. Он у меня раньше бывал, я его вообще-то знаю. Только вот кличку запамятовал, — Сема сощурился, покусал губу. — Какая-то партийная. Не то Сталин, не то Берия… Нет, скорее — Ленин.
* * *
Вот как все это было!
Конечно, я сделал подлость: схитрил, отмолчался, утаил от ребят своих правду.
Я схитрил — и спасся таким образом. Избавился от заклятого своего врага, подвел его под удар.
Некоторые из урок, правда, настаивали на том, что дело это надо еще доследовать.
— Торопиться с выводами нельзя, — заявляли сомневающиеся, — и уж тем более нельзя судить человека заочно. Пусть Ленин освободится из карцера, предстанет перед обществом и даст ответ…
Этот голос благоразумия был все же довольно слабым, вняли ему не все. Большинство было настроено недобро и агрессивно.
В этом всеобщем озлоблении угадывалась некая истеричность; такая же, в сущности, как и та, что охватила толпу блатных в бухте Ванино, в бане, на пересылке. Тогда все кончилось нежданной кровью. И сейчас результат получился тот же.
Разница заключалась только в том, что тогда, в бухте Ванино, убийство произошло публично, на глазах у людей. Теперь же все совершилось втайне.
Втайне не только от начальства, но и от самих блатных.
Ленин вышел из карцера поздно вечером. Кодла встретила его сумрачно, с настороженным любопытством, и он сразу почувствовал это. Попробовал было выяснить, в чем дело. Однако внятного ответа никто ему так и не дал. Близился отбой, пора было спать, а толковише, по идее, предстояло долгое. Урки решили отложить разговор до утра.
— Что ж, ладно, — хрипло буркнул Ленин, укладываясь на нарах, на старом своем месте, — разберемся завтра — что к чему. Только учтите, братцы: кто меня подсидит — еше не родился. А кто родился — трех дней не проживет.
Это были последние его слова!
Утром — перед самым отбоем — труп Ленина был обнаружен в уборной.
Уборная эта — небольшая фанерная будка — помещалась возле барака, у задней его стены. Там-то и расправились с Лениным. Судя по всему, его подстерегли в темноте и задушили, набросив на шею полотенце.
Душить полотенцем — испытанный, старый арестантский, способ. Он удобен тем, что на горле у убитого не остается почти никаких заметных следов. Есть лишь одна характерная особенность: сзади, возле затылка, в том месте, где полотенце скручивается жгутом, неизбежно возникает легкий кровоподтек или небольшая ссадина.
Такая вот ссадина имелась и у Ленина. И для блатных мгновенно стало ясно: расправу над ним учинил человек, знающий традиционные приемы.
— Кто бы это мог быть? — недоумевали ребята. — Кому могло это понадобиться? Кто-то, очевидно, заинтересован был в том, чтобы убрать Ленина как можно скорее, не дожидаясь общего толковища…
Сложная партия
Возникла редкостная ситуация. Расследованием странного этого убийства блатные занялись вместе с властями.
В тесный контакт с оперуполномоченным они, конечно, не входили. Но интересы в данном случае совпадали: обе стороны изо всех сил стремились добыть истину.
Но добыть ее так никто и не смог!
Личность убийцы установить не удалось, и опер, в конце концов, закрыл дело. Блатные же не хотели, не могли успокоиться. И хотя поиски их были безрезультатны, случившееся долго еще занимало ребят, служило предметом многих бесед и раздумий.
Как- то раз на эту тему разговаривали и мы с Девкой. Случилось это перед вечером; мы сидели за шахматного доскою, разыгрывали весьма сложную партию.
* * *
Шахматами на пересылке увлекались почти все; игра эта пользовалась чрезвычайной популярностью. И вовсе не потому, что здесь собрались знатоки и умельцы, отнюдь нет. Дело в том, что шахматная игра, так же, как и домино, в отличие от карт, вовсе не считалась азартной. Она была дозволена, она не преследовалась законом, и потому лагерники — зверехитрое племя! — зачастую картежной игре предпочитали именно эту.
Играли, естественно, на «интерес». Каждая партия оценивалась в десять рублей — по картежному принципу. Да и вообще принцип этот оставался и торжествовал, несмотря ни на что! Сражения за шахматной доскою были, по сути дела, столь же азартны и заразительны, как и «стос», и «очко», и «бура».
По- настоящему играть здесь не умел никто: в теории урки разбирались слабо. Но это никого особенно не смущало. Отсутствие теоретических знаний с успехом возмещали иные качества — усидчивость, вдохновение, природный дар…
Таким вот даром обладал Девка; у него с течением времени выработался определенный, довольно четкий стиль — наступательный, с активным движением пешек, с внезапными и мощными фланговыми ударами.
Я играл неровно, разбрасывался и часто зевал. Но иногда в минутном озарении мне удавались все же неплохие комбинации, особенно с участием коней. Эти фигуры в шахматах я, признаться, любил больше всего.
Итак, примостясь у гудящей печки, мы с Девкой разыгрывали очередную партию. Преимущество было на моей стороне; я только что сделал удачный ход — снял конем тяжелую его фигуру и пробил брешь в неприятельской линии.
— Ну, ты ловок, собака, — завистливо пробормотал мой партнёр, — умеешь ходить конями.
— Конечно, — ответил я, жуя папироску. — Кому ж еще и уметь, как не мне — казаку!
— Нет, но как ты все же ухитрился?!
Девка навис над доскою, сгорбился, опустив подбородок в подставленную ладонь. Посидел так, помял пятернею лицо, затем сказал со вздохом:
— Н-да, правильно. Я же все вроде бы учел — все ходы. А самый рисковый, оказывается, вот он… О черт! Всегда он не там, где ожидаешь! Всегда, вообще, не только в шахматах…
— Что ж, — кивнул я, — на этом мир стоит.
Так вот мы философствовали небольшое время. Незаметно разговор перешел к последним событиям — к смерти Ленина. Задумчиво и осторожно передвигая на доске фигуру, Девка сказал:
— Скучная эта все же смерть — в сортире…
— Да еще — неизвестно от чьей руки, — подхватил я и добавил, погодя: — Здешний лепила точно сказал: «Истина сокрыта в дерьме».
— Какой еще лепила? — рассеянно, озирая доску, спросил Девка.
— Главный. Начальник больницы.
— А ты что, знаком с ним?
— Да нет. Просто я недавно заходил в больничку — ну и разговорился там с одним парнем. Ты его знаешь, наверное…
И тотчас же я осекся, выронил окурок. Я чуть было не проговорился, не назвал имя Реутского… А делать этого было нельзя. Никак нельзя! Стоило мне только привлечь к нему внимание — и все могло бы рухнуть, обернуться бедою. В конце концов, ушел он на этап не так уж далеко; в случае надобности уркам нетрудно было бы разыскать его и наладить с ним связь. И тогда мое лукавство сразу раскрылось бы, стало бы для всех очевидным…
— О ком ты говоришь? — поинтересовался Девка.
До сих пор он разговаривал, глядя вниз, на шахматы, теперь вдруг посмотрел на меня в упор.
Я полез, кряхтя, под стол за окурком. Достал его, повертел в пальцах и выбросил. И поспешно сказал, раскуривая новую папироску:
— А впрочем, вряд ли ты его знаешь… Это ведь так, мелкий придурок. Я с ним, в общем-то, случайно познакомился, мимоходом.
— А в больничку зачем заходил?
— Лешего хотел повидать.
— Ну и как?
— Видел, — кутаясь в дым, ответил я, — видел… Не приведи Господь! Вспоминать и то невмоготу. С души воротит.
— Он что же — все жрет?… Питается?
— Жрет. Три раза в день — регулярно. Весь какой-то черный стал, обугленный.
— Еще бы, — усмехнулся Девка. — Небось, почернеешь.
— Как он только выдерживает, — я развел руками. — Там от одного запаха загнуться можно.
— Ничего-о, — протянул лениво Девка, — выйдет на волю — отдышится.
— Ну а если не выйдет? Если его не сактируют, тогда как? Лепила этот, насколько я знаю, ему не верит, сомневается. Нарочно, негодяй, три раза в день дерьмом кормит — экспериментирует, понимаешь ли, проверяет.
— Неужто не верит? — поднял брови Девка. — Ай-яй! Тогда дело плохо.
— Вот так и получается, — сказал я, Ленина кто-то втихую устряпал… Неизвестно кто… Ну а этот дурак губит себя сам! Собственными, так сказать, руками!
Приятель мой сидел, все так же сгорбившись, вытянув шею, посматривая на меня из-под пушистых своих ресниц. И я уловил в его глазах какое-то напряжение, какую-то глубинную, смутную мысль.
— От чьей руки Ленин помер, это, конечно, неизвестно, — сказал он медленно. — Но вот кому это на руку — понять нетрудно.
— Кому же? — прищурился я.
— Тебе!
— Что-о-о? — сказал я, привставая.
— Да, да, — повторил он, — тебе! — и небрежно махнул рукою. — Ладно, не суетись. Мы одни, никто нас не слышит. Ты мне вот что объясни — только честно, по-свойски…
— Ну? — я склонился к нему, оперся кулаками о край стола.
— Объясни: зачем ты его убил?
Слова Девки ошеломили меня. Я тяжело опустился на заскрипевшую скамейку. Затем спросил сдавленным голосом:
— Ты это что — серьезно?
— Да уж серьезней некуда.
— Но… Почему ты так решил?
— Да так, — он усмехнулся, вздернув верхнюю губу. — Больно уж ловко ты конями ходишь! — покосился на доску, потрогал кончиками пальцев шахматные фигуры. — Удаются тебе кривые хода, удаются…
— Слушай, — нахмурясь, сказал я тогда, — кончай свои шуточки! При чем здесь эти дурацкие хода? Если ты что-нибудь знаешь…
— Ничего я не знаю, — пожал он плечами. — Просто так мне кажется.
— Если кажется, — проворчал я — надо креститься.
В этот момент кто-то за моей спиною проговорил хрипловато:
— Ну, как у вас тут, братцы? Чей верх?
Я живо обернулся и увидел Рыжего. Сутуловатый и щуплый, с костлявым, поросшим медной щетиной лицом, он навалился на меня, оперся о мои плечи.
— Перевес, кажись, на твоей стороне, Чума, — проговорил он, помедлив. — Ну да; ну да. Точно!
— Ну, это как сказать… — Девка поджал в усмешечке губы. — Перевес пока небольшой. А счастье, оно сам знаешь, переменчивое.
Отвлекшись невольно от шахмат, мы теперь вновь и с явной неохотой вернулись к игре. Былой азарт был уже утрачен; мы оба играли вяло, думали каждый о своем. И в результате эта партия наша окончилась вничью.
* * *
Ночью я лежал на нарах, ворочался и никак не мог уснуть. Мне было просторно лежать. Места, занимаемые некогда Лешим и Лениным (они располагались по обе стороны от меня), места эти были теперь пусты. Я остался один в полутемном нашем углу.
Хотя нет — не один. Ушедшие по-прежнему были со мною, мерещились мне и мешали забыться. Я попеременно видел то жуткий, немой силуэт сибиряка, то лицо Володи Ленина — распухшее, судорожное, неживое. Видел их обоих и размышлял об их участи. И с тоскою, с отчаяньем думал о собственной своей судьбе.
Судьба вела меня по тем же путям… То, что случилось с этими двумя, было, в принципе, уготовано и мне. Третьего варианта я не видел, не угадывал. Просвета не было. При всех обстоятельствах мне предстояло погибнуть, кончиться. Погибнуть от ножа или от петли. Или же — угодить в больничную палату.
В сущности, я испытывал сейчас приступ той самой, погибельной тоски, что когда-то впервые посетила меня на Кавказе и с тех пор преследовала повсюду.
Кто- то тронул меня за рукав. Я вздрогнул и увидел Девку.
Он, как всегда, улыбался. На щеках его подрагивали ямочки. Верхняя губа приподнялась лукаво и хищно.
— Не спишь, старик? — дохнул он мне в ухо.
— Н-нет, — сказал я.
— Поговорим?
— Ты все о том же?
— Да, понимаешь, хочу уточнить…
— Чего тут уточнять? — я оперся на локоть, потянулся за спичками. И потом, прикурив, сказал: — Все твои домыслы — бред. Ты же ничего не можешь доказать!
— Да чудак-человек, — зашептал, склонившись ко мне, Девка, — я вовсе и не собираюсь ничего доказывать. Я тебе не враг, наоборот! Просто интересно… Зачем?
— Но почему это, собственно, так заинтересовало тебя? — я пожал плечами. — Ты же ведь сам профессиональный мокрушник, душегуб. Всю жизнь сырость разводишь… Разве не так?
— Ну, так, — опустил он пушистые ресницы.
— Сколько за тобой мокрых дел?
— Да много, — отмахнулся Девка.
— Ну, вот! Комстролил людей — ни о чем таком не задумывался, а теперь вдруг…
— Ах, да погоди, — заторопился он. — Я о чем говорю? Если бы за мной кто-нибудь охотился так же, как Ленин за тобой, я тоже бы его устряпал. Запросто! Без лишних слов! Подпас бы где-нибудь — и кранты. Тут рассуждать не приходится. Но ведь Ленин… — он на секунду умолк, наморщился раздумчиво. — Ленин последнее время был уже неопасен тебе. Усекаешь? Он уже кончился, спекся. Потерял весь авторитет свой, всю свою власть.
— Ну, правильно, — подхватил я, — после карцера он был неопасен. Я это понял сходу. И посуди сам — какой же мне был смысл его убивать?
— Значит, нет? — спросил Девка и посмотрел на меня выжидающе.
— Значит, нет, — сказал я, твердо глядя в чистые его, прозрачные, немигающие глаза.
Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Потом он моргнул и отвернулся. Отполз было в сторону, но тотчас же воротился. И вновь услышал я сдавленный его шепоток:
— По чести, по совести — не ты?
— Не я.
— А если подумать?
— Все равно не я.
— А если хорошо подумать?
— Да нет же, черт тебя возьми! — хрипло и яростно произнес я тогда. — Пристал, как репей… Нет, слышишь? Нет! Не я.
— Н-ну, ладно, — сказал он с коротким вздохом. — на нет и суда нет. Спи!
И мягко, кошачьим движением спрыгнул с нар моих на пол.
* * *
Разговор с Девкой и эти его подозрения взволновали меня и расстроили чрезвычайно. В любую минуту он мог поделиться своими соображениями с другими — и тогда… Что произойдет тогда, я не знал, не представлял себе. Но при одной только мысли об этом мне сразу же становилось не по себе.
«Хоть бы скорее нас разогнали отсюда, — думал я, — отправили б меня куда-нибудь. И подальше. И по возможности — одного. Ах, скорей бы, скорее!»
В этом я видел единственное свое спасение… И в скором времени действительно меня угнали на этап.
Наконец-то я расстался с опостылевшей Карпункой и с ребятами, которых я начал невольно сторониться. Отправили меня, надо признаться, вовремя. Перед этапом я едва не впутался в опасное дело. Проживи я на пересылке еще немного — случилось бы непоправимое… Нет, Девка тут был ни при чем; на этот раз я мог сгубить себя сам.
Усталый, издерганный, исполненный смятения, я однажды чуть было не ушел в побег.
Во льдах
Россия — страна парадоксов. Она — как чемодан с двойным дном… Это — страна угрюмого многовекового рабства и одновременно лихой, невиданной по масштабам вольницы.
Когда-то казачья дикая вольница потрясала державу, властвовала над ее окраинами и даже колебала трон. Порою она выплескивала за пределы отечества. И тогда черный дым пепелищ вставал над персидскими берегами и над излучинами сибирских рек.
Затем наступили иные времена. Вольница изменилась, обрела иные, черты и признаки, ушла в подполье, превратилась в нынешний преступный мир.
Она изменилась. Но кое-что все же осталось в ней, схожее с прежним… Так же, как и во времена Разина и Пугачева, она, эта вольница, простиралась во все пределы страны. Она укрывала беглых, принимала в свое лоно ожесточившихся и заблудших. И будучи загнанной в лагеря, за колючую проволоку, даже и там оставалась верной себе, жила свирепой своей жизнью, признавала только собственные законы. Как могла противодействовала властям. И упорно, как и подобает истинной вольнице, стремилась при любой возможности обрести свободу, вырваться на простор.
Стремилась даже тогда, когда это было вроде бы бессмысленно, безнадежно, — в условиях Крайнего Севера, в белых пустынях Колымы.
Побег на Колыме означает верную смерть, неминучую гибель. Спастись и укрыться там негде: населенные пункты редки, и приближаться к ним опасно. Опасно прежде всего потому, что местное население, наряду с основным своим промыслом — охотой и оленеводством, активно охотится также и за беглецами. Охота эта узаконена. Она поощряется властями. Любой туземец, обнаруживший беглого лагерника, имеет право убить его и получить соответствующее вознаграждение. Дополнительный этот промысел не сложен. Для получения премии вовсе не надо тащить в комендатуру труп беглеца, достаточно предъявить властям отрубленную правую руку или же уши убитого. В связи с этим на севере возникла и долгие годы существовала своеобразная черная биржа, где наряду с пушниной и золотом высоко котировались также и человечьи уши.
И тем не менее арестанты упорно рвались на волю; уходили и гибли в лесном бездорожье, в болотистых тундрах, во льдах.
И потому-то побег на Колыме называется среди арестантов весьма колоритно: беглец уходит не на волю, нет, — он «уходит во льды».
* * *
Все началось с того, что ко мне явились двое блатных, два парня из соседнего барака. Они явились по делу… Но сначала я хочу представить их вам.
Один из этих блатных носил забавную кличку — Сопля. Профессия у него тоже была своеобразная: он занимался грабежом, но грабежом деликатным, лишенным обычной для данной профессии грубости и хамства.
Особая эта «деликатная» разновидность встречается в основном в больших городах, в крупных культурных центрах. Суть ее такова: расположившись в пивной или же в каком-нибудь ресторане, грабитель (он работает в контакте с официантами) выискивает среди посетителей кабака подходящего клиента — хорошо одетого «сазана». Знакомится с ним, затевает беседу и потом угощает выпивкой за свой счет. По его знаку официант приносит пиво; клиент выпивает — и хмелеет, впадает в беспамятство. Дело в том, что пиво это не простое — оно смешано с девяностоградусным спиртом. Подобная «взрывчатая» смесь почти не ощутима на вкус; пиво в этом смысле компонент идеальный! Отличить нормальный напиток от такого «ерша» можно лишь по внешним признакам — по форме пивных бокалов и кружек, по цвету и качеству стекла… Этим и пользуется грабитель, «ловец сазанов». Заранее условившись с официантом, в каких бокалах будет подано чистое пиво, а в каких — смесь, он щедро накачивает ничего не подозревающего фрайера, затем помогает ему выбраться наружу. Заботливо отводит в темный переулок. И там спокойно, не торопясь, раздевает его.
Сопля занимался этим промыслом давно и успешно. Но как-то раз ошибся — перепутал посуду. И пал жертвой собственной хитрости. Отвел клиента в переулок, раздел его там, но уйти не сумел, не смог. Рухнул рядом со своей жертвой и уснул под забором. Поздней ночью их обоих подобрал милицейский патруль и доставил в отделение. И когда Сопля очнулся, он был уже за решеткой.
Лагерного партнера его звали Копыто. Это был известный кавказский домушник. Подвизался он в Рустави — крупном промышленном городе, расположенном неподалеку от Тбилиси.
Копыто был вор удачливый, работал чисто, умело. Руставский угрозыск долгое время охотился за ним — и ничего не мог с ним поделать. Но в конце концов ловкача все же накрыли. Причем взяли его не с поличным, не на деле, а по чистой случайности. Сгубила Копыто любовь к сувенирам.
После очередной нашумевшей квартирной кражи на дом к нему нагрянула милиция с обыском. Оперативники искали хоть каких-нибудь улик… Обыск, однако, оказался безрезультатным; ничего уличающего обнаружено не было. Но тут случилось неожиданное.
Кто- то из работников розыска обратил внимание на забавную статуэтку, помещавшуюся в углу, на этажерке. Громоздкая, окрашенная в белый цвет, статуэтка эта изображала курицу, окруженную выводком цыплят. Милиционер достал ее с полки и тут же, не удержав, выронил из рук. Металл, из которого она была отлита, оказался необычайно тяжелым. Заинтересовавшись этим, оперативник поскреб краску ногтем… и из-под нее, ко всеобщему изумлению, блеснуло червонное золото.
Никакого отношения к недавней краже игрушка эта не имела. Но все же появление ее здесь необходимо было как-то объяснить… Двенадцать килограммов чистого золота — это не шутка! Встал вопрос: откуда и как достал Копыто редкостную эту вещицу? Подобных изделий в продаже нет. А выдать статуэтку за фамильную ценность, он — сын пролетария и профессиональный жулик — тоже, конечно, не мог.
Хранение золотых запасов строжайше запрещено законом; на сей счет существуют отчетливые и жесткие правила. Копыто знал их отлично. Он знал, что может в результате получить срок гораздо более серьезный, чем тот, что причитается за обычную кражу, и немедленно признался во всем.
Он раздобыл эту статуэтку во время ночной работы, на квартире у секретаря руставского горкома партии. Работа прошла удачно, были унесены многие вещи. Статуэтку эту Копыто, по его словам, взял уже уходя, на память. Взял из соображений сугубо эстетических. Просто ему понравилась курочка! Никакого особого значения он ей не придал тогда и, кстати сказать, до последней минуты не предполагал, какую ценность она представляет!
Чистосердечное это признание было, однако, встречено с некоторым недоверием. Оказалось, что секретарь горкома о совершившейся краже в милицию не заявлял… И потом упорно отрицал ее на следствии.
Следствие тянулось долго и привело к неожиданным результатам. Выяснилось, что в Тбилиси и в Рустави давно уже существует черный рынок — подпольный валютный рынок, к которому причастна вся почти местная власть и партийная верхушка. Ценности, обращающиеся там (иностранная валюта, каменья и золото), были поистине огромны.
Похищенная курочка — на общем фоне — выглядела мелочью, баловством. Мелочь эта тем не менее оказалась роковой для многих. И, в частности, для самого Копыто. Он пошел по серьезной статье; им занялся ОБХСС — отдел борьбы с хищением социалистической собственности. Доказать свою непричастность к валютному рынку он так и не смог и в результате получил срок «на всю катушку» — двадцать пять лет лагерей со строгой изоляцией.
Теперь он и Сопля мечтали о побеге — хотели уйти «во льды». И усиленно готовились к этому.
На них так же, в принципе, как и на Лешего, подействовала та ситуация, которая сложилась в лагерях в послевоенную пору. Разразившаяся в невиданных масштабах «сучья война» — резня и кровь, и постоянные тревоги — все это нагоняло тоску и рождало острое чувство безысходности… Чувство это испытывал любой лагерник, но, разумеется, каждый по-своему.
И когда ко мне пришли с разговором Сопля и Копыто, я принял их идею с интересом. До сих пор я как-то не думал о побеге. Теперь вдруг увидел в этом единственный и верный шанс избавиться от всех моих проблем.
Но прежде всего нужно было исполнить их просьбу. А заключалась она вот в чем. Замыслив побег (я уже объяснял, сколь сложное это дело на Колыме), блатные решили предварительно позаботиться о пропитании. И с этой целью подыскали себе партнера — здоровенного парня-украинца, сидевшего за растрату. Хохол этот (имя у него было классическое — Тарас) предназначался специально «на мясо»… Дело это, в общем, обычное. На севере так поступают нередко: прихватывают с собою заранее намеченную жертву и кормятся ею в пути.
Тарас ни о чем таком не догадывался. Был он прост и наивен: сидел впервые и стремился в побег, скучая по дому, по родной своей солнечной Украине. Ребята уговорили его легко и быстро. Но затем он вдруг заупрямился, загрустил, как-то странно притих. И объявил, что раздумал, что бежать пока не намерен.
Причину отказа объяснять он ребятам не захотел и на все их попытки узнать, что же, собственно, произошло, — отвечал стереотипной унылой фразой:
— Нэ трэба. Хочу почекать трохи.
Так ничего и не добившись от него, друзья решили теперь послать на разведку меня.
— Ты ведь у нас грамотный, — сказал мне Копыто, — слова всякие знаешь. Ты, я уверен, сумеешь его колонуть. Разговорись с ним по душам, похрюкай.
— Главное — что? — вмешался Сопля. — Главное, выяснить: в чем причина? Может, он что-то почуял, узнал?
— Ну, это вряд ли, — лениво отмахнулся Копыто, — просто сомневается, гад, боится. Духа не хватает… Это бывает.
— Так сколь же он будет резину тянуть? — возмущенно спросил тогда Сопля. — Сколь он будет чекать?
— А вот это пусть Чума и выяснит, — сказал Копыто и просительно заглянул мне в глаза. — Сделаешь, друг, а? Сам понимаешь — без мяса нам как же? Нельзя, никак нельзя…
— А может, все-таки обойдемся? — пробормотал я. — Мне, например, таких харчей не надо. Я к ним все равно не притронусь.
— Ну, это дело твое, — решительно возразил Копыто. — Вольному воля… Можешь не притрагиваться. Можешь и вовсе не идти в побег. Но все же просьбу уважь. На тебя вся надежда!
— Н-ну что ж, — согласился я, помедлив, — ладно, попробую.
И я попробовал: разыскал отступника, познакомился с ним. И вот какой произошел у нас разговор.
— О чем молчишь, Тарас? — спросил я, усаживаясь рядом с ним на нарах.
— О доме молчу, — скучным голосом отозвался Тарас.
Плечистый и грузный, он лежал, заложив за голову мощные свои, перевитые тугими жилами руки. Лицо его было задумчиво.
— О доме, — повторил он и вздохнул прерывисто.
— А кто у тебя там?
— Та мамо. Одна, — он еще вздохнул. — Как она там — без меня, без кормильца?
— Что ж, трудно ей? — спросил я вкрадчиво.
— Та знамо — не сладко. Ведь одна. Как перст! Да еще — болезная… Который год пенсию ждет — и все без толку.
— Н-да, — проговорил я тогда, — плохо дело. Если б у меня так было, я бы не раздумывал. Рванул отсюда — и все дела.
— Я и сам поначалу так мыслил… Но потом усомнился… Вот рассуди-ка, — он привстал, опираясь на локоть, приблизил ко мне скуластое сумрачное лицо. — Ты хлопец понимающий, с душой. Такие песни складываешь!
— А ты разве знаешь мои песни? — спросил я быстро.
— Знаю, — скупая, смутная улыбка скользнула по лицу Тараса. — Гарные песни, душевные… Вот скажи: мой побег ей не повредит? Как думаешь?
Слова его озадачили меня. Возникла странная ситуация. Оказывается, парень этот знал меня, доверял мне, ценил. Он любил мои песни! И вовсе не ждал от меня беды…
Представляете теперь мое состояние? С одной стороны, я должен был посодействовать блатным: этого требовала воровская этика, верность данному слову. А с другой — как я мог это сделать? Как мог я обманывать этого парня, губить его, обрекать на съедение? Нет, на это у меня не было сил.
И, закурив, захлебнувшись дымом, я сказал погодя:
— Если уж ты хочешь знать мое личное мнение, то, пожалуй, бежать нет смысла. К чему? Ты ведь этим ничем никому не поможешь… А навредишь — это уж точно. Это, брат, наверняка!
* * *
Итак, с задачей, порученной мне, я не справился — пожалел симпатягу, подвел друзей и невольно, таким образом отсрочил назревающий побег.
Заглядывая вперед, скажу: побег этот тем не менее состоялся! Я узнал об этом спустя небольшое время, когда находился уже в Тауйске, в сельскохозяйственном лагере. Как это ни поразительно, во льды вместе с блатными ушел и Тарас; все-таки они сманили его, увлекли с собой. Каким образом они сумели это сделать — не представляю! Вероятно, сыскался новый какой-нибудь говорун, ловец бесхитростных душ…
Дело они затеяли дерзкое: бежать с пересылки до сих пор никому почти не удавалось. За время существования Карпунки было три таких случая. И всякий раз побег осуществлялся не из общей пересылочной зоны, а с рабочих объектов, из тех мест, куда выводили заключенных на работу.
На Карпунке насчитывалось несколько трудовых бригад — три или четыре, не более того. Помещались они в отдельном, обособленном от прочих секторе; попасть туда было нелегко. Но ребята ухитрились все же войти в контакт со старшим нарядчиком и перекочевать к работягам.
Они затесались в бригаду ремонтников, работавших на трассе — и дождались-таки своего часа…
Из- под конвоя уйти им удалось сравнительно легко: помогла внезапно разыгравшаяся метель. Затем они направились в сторону от трассы — в сопки. И там след беглецов затерялся. Дальнейшая их судьба загадочна и туманна. Впоследствии пронесся слух, что в тайге, неподалеку от Охотска, обнаружен был труп Тараса. Парень был кем-то застрелен. Он погиб, но все же не так, как рассчитывали оба его сообщника, Сопля и Копыто. А те, кстати, сгинули бесследно и напрочь. Что там в глуши произошло? Может быть, в дороге, в диком этом безлюдье, роли переменились, и те, кто мечтал о «мясе», сами, в конце концов, угодили к хохлу на обед?
Что ж, возможно, что именно так и случилось. В тайге ведь все бывает! Безумный этот мир исполнен всяческих неожиданностей и самых разных чудес.
И если говорить обо мне, то я тоже испытал внезапное ощущение чуда. Испытал его в тот момент, когда, прибыв по этапу в тауйский лагерь, узнал вдруг, что этот лагерь — женский!
Мясо в супе
Тауйск — один из самых южных населенных пунктов на Колыме. Находится он вблизи Охотского моря и защищен от северных ветров грядою безлесых пологих гор, именуемых по-дальневосточному сопками. Климат тут сравнительно мягкий и ровный, и не случайно в этом именно месте расположено подсобное хозяйство, снабжающее овощами главное управление Дальстроя.
Подсобное это хозяйство обширно; в него входят несколько лагпунктов. Основной контингент здесь — женщины.
Есть в здешних лагерях, конечно, и мужчины, однако количество их невелико. В основном это инвалиды, слабосильные, старики: все те, кто был отвергнут отборочной комиссией и в результате угодил в «отсев».
Попал в такой вот отсев и я.
На комиссии меня сразу же признали временно нетрудоспособным. Что ж, в этом была своя истина: после харьковской голодовки я так и не оправился, не пришел в себя по-настоящему. И хотя прежней слабости я уже не испытывал, вид у меня все же был достаточно скверный.
Тщедушный и тощий, с бледной шелушащейся кожей, с выпирающими дугами ребер, я предстал перед медиками, и тотчас же кто-то из них махнул небрежно рукою: «В слабосилку!»
А затем прозвучало слово «Тауйск».
Стоявший рядом со мною Рыжий шепнул мне, посмеиваясь и мигая:
— Ну, вот, старик. Ну, вот. А ты все ныл, на судьбу роптал… Наконец-то и тебе досталось мясо в супе! Да еще какое — хо, го!
* * *
Мы прибыли в лагерь вечером, в лиловый час снегопада. Со мною был еще один списанный в отсев доходяга — пожилой, приморенный, страдающий одышкой. И сразу же, как водится, конвоиры отвели нас в баню.
Утомясь и промерзнув за день, мы долго с наслаждением мылись, скреблись, обливались горячей водою. Мы находились одни в просторном этом помещении; здесь было тихо, полутемно… Затем разомлевшие, размякшие, пошлепали босиком в предбанник. И обнаружили вдруг, что наше нижнее белье исчезло.
— Черт возьми, — озадаченно пробормотал мой спутник, — неужто тут шкодники поработали? Хорошо хоть верхнее не тронули — там у меня гроши…
Он торопливо кинулся к брошенному на лавку бушлату — развернул его, ощупал подкладку. И затих, успокоенный. Я сказал, раскуривая папиросу:
— Странные какие-то шкодники!
В этот момент низкий протяжный женский голос сказал:
— Что, мальчики? Бельишко ищете? Мы его тут простирнули маленько. Подождите — сейчас высохнет… Сейчас, сейчас!
Мы обернулись и увидели стоящую в дверях молодую женщину в халате'. Она стояла подбоченясь, прислонясь круглым плечом к косяку. Лицо ее озаряла лукавая усмешка. А сзади за ней виднелись другие лица — женские лица — их было много! И все они смотрели на нас, разглядывали нас пристально и бесцеремонно.
Вот тогда-то спутник мой — имя его было Семен — сказал, тихо охнув:
— А ведь мы, браток, к бабам попали!
— К нам, к нам, — закивала, сощурясь, женщина, — в наше распоряжение. А что? Или вы не рады?
— Да нет, — пробормотал я, — рады, конечно. Еше бы!
— Ну, вот и ладно, — сказала она удовлетворенно. Обернулась к стоящим позади, о чем-то пошепталась с ними и затем, призывно поведя рукою, добавила: — Идите сюда, получите белье! И не стесняйтесь, чего там. Идите! Все равно ведь вы — наши!
И мы пошли, поеживаясь и сутулясь. Мы шли, как на линии огня, под обстрелом женских глаз.
* * *
Как выяснилось впоследствии, эпизод с бельем был не случайным. Узнав о нашем прибытии, в бельевой собралась вся местная элита — поварихи, нарядчицы, работницы КВЧ. Они как бы устроили нам смотрины. Внимательно обозрели каждого и тут же распределили нас, договорились между собой, кто кому достанется.
Семен достался начальнице производственно-плановой части. Сухопарая и шустрая, эта дама крепко уцепила его за рукав и увела, плотоядно жмурясь, помаргивая белесыми ресницами.
Я попал в лапы к мощной бабе — заведующей столовой. Она была на голову выше меня, значительно шире в плечах; курила махорку и материлась сиплым басом. Душа у нее, впрочем, оказалась нежная… А звали ее Муза.
— Цыпочка моя, — гудела Муза, прижимая меня к необъятной своей, тяжелой колышащейся груди, — котеночек мой, детка… Жалкенький мой, приморенный… Но ничего. Я тебя поправлю!
Она жила в итээровском бараке, но отдельно ото всех, в небольшом закутке. Закуток этот был тесен для нас; мы долго ворочались, сотрясая топчан и колебля фанерные стены. Потом я уснул, прикорнув на груди у Музы, погрузившись в тепло, вдыхая запах жарких се подмышек. И всю эту ночь мне снились пески Туркестана, пустынные миражи, солончаковые степи у иранских границ.
Утром мы встретились с Семеном в столовой. Едва мы уселись за стол, Муза поставила перед нами две миски с дымящимся, огнедышащим супом. Сказала «кушайте» и улыбнулась, раздвинув лоснящиеся щеки.
— Ну, как дела? — спросил я, разглядывая приятеля. Он выглядел неважно. Лицо его за ночь осунулось, заострилось.
— Да как, — пожал он плечами, — сам понимаешь… всю ночь глаз не сомкнул. А что я могу? Я ей, гадюке, втолковываю: обожди, мол, не лезь пока, дай оклематься малость, в себя прийти…
— И что же она? — полюбопытствовал я.
— Не понимает, змея, не сочувствует. Мало того — еще обижается. Ты, говорит, весь в моих руках. Захочу, говорит, обратно по наряду шугану. И ведь шуганет — свободное дело!
— Что ж, — сказал я медленно, — здесь, брат, ихняя власть… Матриархат!
— Вот, вот, — подхватил он, — прямо не знаю, как быть.
— Напрягись, — усмехнулся я, — постарайся как-нибудь. Надо, Сеня, надо.
— Да ведь я загнусь! — хрипло, с каким-то даже стоном воскликнул Семен. — Копыта отброшу.
— Чем на каком-нибудь руднике загибаться, лучше уж здесь, — возразил я, — на бабе, в тепле. Это дело святое.
С минуту он молчал, насупясь и шумно дыша. Потом сказал, придвигая миску:
— Уезжать отсюда, конечно, не хочется. Глупо все-таки. Такой шанс, если вдуматься, раз в жизни выпадает. Бабы мне, в общем, до лампочки, а вот харчи… Ты только посмотри, какой суп! Это даже и не суп — сплошное мясо…
* * *
Я прожил в этом лагере до весны. Работа у меня была легкая: я заготовлял дрова для кухни. И частенько, отработав положенное время, уходил и слонялся по зоне: заглядывал в бараки, знакомился с бытом женщин.
Он кое в чем заметно отличался от нашего, мужского; в нем было немало странного и трагичного… Вот этот трагизм ощутил я отчетливее всего.
Я видел всяких женщин — истеричных, кликушествующих, исступленно озлобленных; видел надломленных и отрешенных, с пустыми, оцепенелыми, безжизненными глазами. И все это не от непосильной работы (по лагерным понятиям подсобное хозяйство — курорт!) и не от голода (в сельскохозяйственных лагерях такого типа кормят, в принципе, неплохо — гораздо лучше, чем в других). Это все у них было от тоски, от тоски по утраченному и запретному.
Как-то раз мне довелось попасть в барак к лесбиянкам… Сейчас, когда я пишу эту книгу, мне уже немало лет. Пошатавшись по свету, я успел обрести некоторый опыт и могу теперь рассуждать и сравнивать. Так вот — о специфической этой любви. Ее не следует смешивать с той, что бытует в повседневной обыденной жизни. В лагерях она выглядит по-иному. Здесь ведь все обретает особые, небывалые формы!
Лагерный режим, отделивший мужчин от женщин, породил нелепые, уродливые характеры; среди лесбиянок появились так называемые «коблы», существа, имитирующие мужчин, подражающие им в повадках, в интонации, в одежде.
Коблы эти были суровы, напористы, агрессивны. Их боялось все население лагеря. Они хлестали водку, принимали наркотики, резались в карты. И безжалостно помыкали своими любовницами — безвольными и забитыми «ковырялками».
Как правило, каждый из коблов имел несколько таких любовниц — занимался ими по очереди и крепко держал в руках свой гарем. Но были и случаи, так сказать, моногамной любви; порою в женских бараках возникали диковинные альянсы, справлялись странные свадьбы…
…В бараке, куда я однажды забрел, разыгрывалась как раз такая свадьба. Все было, как положено: кто-то пел, кто-то дробно выбивал цыганочку. И посреди всеобщего веселья — у накрытого стола — всхлипывала молоденькая лесбияночка.
Сидящий рядом с нею «жених», коротко стриженный, одетый в расписную косоворотку, посмотрел на меня угрюмо и с беспокойством. (Я, право, не знаю, какой род применителен здесь — мужской или женский? Первый как-то не подходит… да и второй тоже. Но все же это скорее Он, чем Она.) Он явно воспринял меня как врага, как потенциального соперника! И все время, пока я находился здесь, я чувствовал на себе неотрывный, вязкий его взгляд.
Потом я отвлекся, забрел в другой конец барака и заговорил с какой-то девушкой. Мы сидели в углу, на нижних нарах. Кто-то окликнул меня негромко. Я оглянулся: передо мной стояла невеста — та самая лесбияночка, что плакала давеча, уронив на стол тяжелые медные пряди волос.
— Зачем ты пришел? — проговорила она. — Уходи отсюда… Скорее… Я боюсь!
— Чего ты боишься? — спросил я.
— Не знаю… Он на все способен, — она оглянулась поспешно. — На все, на все… Еще убьет тебя.
— Что-о? — произнес я насмешливо. — Не болтай чепуху. И успокойся, сядь. Ничего он со мной не сделает.
— Ну, не тебя убьет, — прошептала она, — так меня… Это точно. Уходи, уходи. Ах, прошу тебя!
И я ушел — растерянный, недоумевающий, подавленный всем тем, что я здесь узнал и увидел.
* * *
Были у меня и другого рода приключения. Как-то раз, весною, меня похитили воровки.
Здесь я снова хочу напомнить о матриархате. Ситуация, если вдуматься, была весьма схожей. Я оказался всецело во власти женщин и сразу же утратил все свое былое значение, стал играть несвойственную мне пассивную роль. В сущности, я уже не распоряжался собой! Право выбора принадлежало не мне, а другим; я просто плыл по течению, переходил из рук в руки, менял покровительниц.
Любовью Музы я согревался недолго. Меня отбила у нее начальница ППЧ, та самая дама, которая — помните? — увела в ночь Семена… Он жаловался на нее не зря: в конце концов, она все же осуществила свою угрозу и шуганула его, отправила вон из зоны. На пересылку он, слава Богу, не попал, остался здесь же, в Тауйске, но на отдельной мужской подкомандировке — там, где ютились все прочие доходяги. Собственно говоря и мы с Семеном должны были после бани угодить туда же и остались лишь благодаря Юлии Матвеевне, так величали эту самую начальницу. Решающее значение имел памятный случай в раздевалке; чем-то мы, вероятно, прельстили здешних баб… Юля с ходу выбрала Семена. Но потом, разочаровавшись в нем, решила переиграть все заново. Разговор ее с Музой был короткий; та не посмела активно возражать. Погоревала, повыла — и отступилась. Спорить с начальницей планово-производственной части было делом опасным. Должность эта в лагерных условиях самая важная. Она связана с учетом и распределением кадров, от нее зависят любые назначения, и в этом смысле Муза (так же, как и все мы) находилась в Юлиных цепких руках.
Что вам сказать о ней? По специальности она была плановиком, когда-то работала в министерстве тяжелой промышленности и сидела теперь за какие-то махинации с отчетными ведомостями. Срок у нее был не малый — десять лет, но зато статья бытовая, удобная, из разряда так называемых «должностных». К таким, как она, охранники относились снисходительно, с некоторым даже сочувствием: ведь если вдуматься, каждому из них — в любой момент — могла грозить такая же точно статья, каждого ожидала подобная участь…
Женщина эта была хищная, ненасытная, с характером столь же колючим, как и проволока, окружавшая лагерь. Я убедился в этом очень скоро. Но что поделаешь — терпел.
Я терпел, но чувствовал себя неважно. Пресловутое «мясо в супе», которое так нежданно даровала мне судьба, оказалось на поверку слишком уж приторным, обильным, перенасыщенным. Я ведь пользовался им не задаром. Его приходилось отрабатывать — и как еще отрабатывать! И я уже не радовался этому мясу, как раньше, мне помаленьку становилось тошно.
И вот в дополнение ко всему меня однажды вечером умыкнули. Случилось это после отбоя. Я брел по зоне в апрельской ростепельной мгле. Внезапно передо мною замаячили смутные женские фигуры; окружили меня, приблизились. И я услышал:
— Эй, парень, стой!
— Ну, что еще? — спросил я.
— Идем-ка с нами.
— Куда?
— Там увидишь.
— А зачем?
— Идем, идем!
— Бросьте, бабочки, — устало проговорил я. — Ну вас всех к черту. Надоело. Я спать хочу.
— Ты не шебурши, — угрожающе шепнули сзади, — делай, что говорят!
И тотчас я ощутил на шее ледяное щекотное прикосновение ножа.
«Ого! — подумал я. — Это что-то новое!» Я оказался в довольно глупом положении. Сражаться с женщинами я не хотел (да и вряд ли смог бы: я ведь был безоружен, а они все — с ножами!), а учинять скандал и звать на помощь я тоже, конечно, не мог: слишком уж это выглядело бы смешно. Пришлось смириться и пойти.
Так, под конвоем, я был доставлен в барак, где обитали воровки. Это я понял сразу, едва переступил порог.
Здесь было жарко натоплено, чисто и как-то даже нарядно. На многих нарах пестрели занавесочки, от дверей к столу был протянут узорчатый половичок.
Стол стоял посреди помещения — в самом центре. На нем поблескивали водочные бутылки, дымился котелок с чифиром, виднелась какая-то снедь. Тут же лежала рассыпанная колода карт.
А возле стола помещалась огромная, низкая, заваленная подушками кровать. И на этой кровати, развалясь и посасывая папироску, сидела женщина в коротком халатике.
Лицо у нее было сухое и угловатое. Лоб закрывала черная растрепанная челка, на левой щеке — от края рта до уха — багровел косой рубец.
— Привет, — сказала она мне. — Садись! — указала место рядом с собой и протянула руку, испещренную лиловыми узорами татуировки. — Будем знакомы. Алена. Кличка Чинарик, — и, прижмурив глаз и улыбаясь, проговорила медленно:
— Чуешь, куда ты попал?
— Догадываюсь, — ответил я, пожимая узкую и влажную ее ладонь. — Судя по всему вы здесь все — из одной масти. Цветные. Воровахуйки.
— Точно, — кивнула она.
И кто-то со стороны добавил:
— Передком воруем, жопой притыриваем.
— Не откуда вы взялись? — подивился я. — Который месяц живу тут — о вас и не слыхивал.
— А нас тут раньше и не было, — сказала Алена. — Мы всего неделя, как прибыли. Из Ягодного — знаешь, может?
— Слышал, — отозвался я.
— Ну, вот. Оттуда. Приехали, а здесь только и разговоров, что о тебе… Шутка ли — живой мужик в зоне ходит!
Она вдруг хихикнула, обнажая черные, прореженные цингою зубы.
— Мы уж третий год мужского запаха не слышали. Ну, ясное дело — решили попользоваться.
— И… как же вы решили? — спросил я, мрачнея.
— Да очень просто. Кому добрая карта выпадет — тому и фарт держать.
— Вы что же — разыграли меня?
— Ну, ясно.
— И кому ж эта карта выпала?
— Мне, — сказала она, поигрывая бровью, — Мне, лапочка. Мне!
Алёна привстала и потянулась к столу. Халатик ее (он был много выше колен) приоткрылся, полы его разошлись… Белья под ним не оказалось.
— Давай-ка выпьем, — проговорила она. Взяла со стола бутылку, плеснула из нее в стаканы и затем, подавая один из них мне, сказала:
— Тащи! Бросай в кишку!
Мы разом подняли стаканы. Я медленно выцедил водку, утерся. Сейчас же мне услужливо подали закусочку — кусок копченой рыбы.
Прожевывая ее, я огляделся.
В бараке царила напряженная, пристальная тишина — такая же, как в театре перед началом спектакля. Да, в сущности, так оно и было! Рассевшись на нарах, женщины (их здесь было что-то около двадцати) жадно смотрели на нас с Аленой, перешептывались меж собою и явно чего-то ждали.
— Что это вы все примолкли? — пробормотал я стесненным, сдавленным голосом.
— А тебе хочется, чтоб шум был? — насмешливо спросила Алена.
— Ну, не шум, — я пожал плечами. — Но все-таки… Как-то уж очень мрачно здесь у вас. Скучно.
— Сейчас будет весело, — кивнула Алена.
Она помещалась теперь вплотную ко мне; халатик ее по-прежнему был распахнут, и тусклый отсвет лампы скользил по ее животу, лежал на раздвинутых коленях.
— Заделаем музыку… — она мигнула мне. — Ладно! — и затем, отворотясь на минуту, призывно щелкнула пальцами. — Эй, Сатана, ты где?
— Здесь, — отозвался голос с нар.
— Возьми гитарку, спроворь что-нибудь.
— А что — к примеру?
— Н-ну, про это… Про любовь… Сама должна понимать, — Алена резко взмахнула рукой. — Делай!
И вот в тишине, в прокуренном бараке, дрогнули струны, потекла мелодия старинной воровской ростовской песни:
А ты не стой на льду,
Лед провалится.
A нe люби вора.
Вор завалится.
Вор завалится, будет чалиться,
Передачу носить не понравится…
У Сатаны был чистый и сильный голос. Гитара в ее руках звучала надрывно и трепетно.
Эх, пить будем и любить будем,
А беда придет — бедовать будем…
Вслушиваясь в песню, Алена затихла, затуманилась, приникла ко мне. Потом проговорила медленно:
— Видишь, как тебя ублажают! Сидишь, словно король на именинах. То того тебе, то этого… Ты хоть ценишь?
— Ценю, — сказал я.
— Тогда еще по одной, а?
Она снова наполнила стаканы. Мы выпили, и я почувствовал, как поднимается в груди моей хмельная жаркая волна. Стало весело и легко.
Голова пошла кругом. И уже я сам, не дожидаясь приглашения, потянулся к бутылке.
— Эх, Аленушка, — сказал я, обнимая се одной рукою и держа в другой стакан, наполненный до краев. — Хорошее, вообще-то, у тебя имя… Как в сказках.
— Хорошее, — кивнула она. — Да я и сама тоже гожусь. Разве не так?
Рука моя лежала на ее плече; худое и щуплое, оно было обнажено. Халатик сполз, опустился, и Алена не пыталась его поправить.
Я залпом выпил водку, отдулся. Сказал, поглаживая се ладонью:
— Годишься, конечно. Только вот тощевата малость. Костями колешься. Но эт-то ничего… Беда небольшая.
— У кости мясо вкуснее, — усмехнувшись, ответила она и посмотрела на меня в упор. Глаза у нее были темные, мерцающие, жаждущие.
— Что ж, — сказал я, — раз пошла такая пьянка… Давай! И я, привстав, огляделся, отыскивая в бараке место поукромнее.
— Идем-ка вон туда — в уголок.
— А зачем? — проговорила она медленно.
— Ну, как зачем? — удивился я. — Или ты, может, не хочешь?
— Хочу. Но почему же в углу, в темноте?
— А где же?
— Здесь, — сказала она и шевельнулась, уминая задом подушки.
— Но ведь мы на виду, — сказал я. — На нас смотрят.
— А пускай! — она небрежно повела плечиком. — Нам-то с тобой это не помешает, а девочкам — интересно.
— Так ты что же, хочешь им сеанс выдать?
— Ну, да, — сказала она просто. — А почему нет? Такое не каждый день выпадает. Пусть они хоть поглядят, отведут душу… Да ты не тушуйся, миленький. Ты на них не обращай внимания, не отвлекайся. Делай свое дело… — она проворно легла навзничь — раскинулась на подушках. — Делай, ну!
На какое-то мгновение я растерялся, но только на мгновение. Я ведь был пьян. Пьян тяжело, беспросветно. Голова у меня кружилась, и мысли дробились и путались, и от хмеля, от близости женщины, от надрывной и щемящей музыки — от песен Сатаны — от всего этого было мне сейчас горячо и томно.
«В конце концов, — подумал я устало, — какая разница? Хотят смотреть — пусть!»
Я склонился к Алене и тотчас же невольно забыл обо всем. Звуки померкли. Время остановилось.
* * *
Утром я выполз из барака. Постоял, шатаясь, у крыльца. С наслаждением хлебнул ветра — знобящего, чистого, пахнущего солью и талым снежком, и потащился к себе — утомленный, измотанный, на подгибающихся ногах. Я чувствовал себя скверно. Жизнь мне была не мила… «Нет, — уныло размышлял я, — дальше так продолжаться не может: Еще полгодика в этих условиях — и конец. Срока мне не отбыть, свободы не увидеть».
Юля встретила меня молчаливая и заплаканная. Она не спросила ни о чем, и это меня, признаться, удивило. Зная ее характер, я ожидал реакции более бурной.
Шмыгая носом и всхлипывая, она сказала:
— Пришла из управления бумага. За подписью начальника оперативного отдела. Требуют отправить тебя на пересылку, причем немедленно. И под усиленным конвоем.
— Почему? — спросил я. — Что еще случилось?
Она молча пожала плечами и подняла ко мне покрасневшие, запухшие глаза:
— Что ты натворил?
— Не знаю, — протянул я озадаченно. — А в бумаге разве не сказано?
— Нет. Велено отправить — и все.
— Когда же?
— Завтра, — сказала она. — Ничего не поделаешь — надо.
— Ну, тогда я пойду, — сказал я и поднялся, направляясь к дверям. — Надо приготовиться, вещички подсобрать…
— И попрощаться кое с кем, — добавила она, поджимая губы. — Так, что ли? У тебя ведь здесь много подружек.
— Какие еще подружки? — досадливо отмахнулся я. — Брось, не занудствуй.
— Знаю, — сказала она, — все знаю! Знаю, где ты эту ночь провел.
— Так а что я мог сделать? — возразил я устало. — Я ведь не сам в тот барак приплелся, так получилось…
— Эх, ты, — сказала она со вздохом. — И за что я тебя, кобеля, люблю? Вот знаю, какой ты, а все равно расставаться жалко! Ну хорошо, — она склонилась к столу, зашуршала бумагами. — Иди! Вечером увидимся.
Прощание с Колымой
Я провел весь этот день в сборах и прощаниях… Навестил Музу, заглянул к рыжеволосой лесбияночке, побывал еще в некоторых местах. И уже под самый вечер увиделся с Аленой.
Я сидел на том же месте, что и давеча ночью, — у стола, в самом центре барака. И опять вокруг теснились воровки. И снова надрывалась гитара. После недавнего публичного сеанса я чувствовал себя поначалу неловко и как-то скованно… Но потом разошелся, освоился.
— Угоняют, значит, — вздохнула Алена, — жаль. Только я во вкус вошла. Да и вообще…
Сейчас же Сатана (она помещалась на этот раз здесь же, у края стола) проговорила, сильно рванув струны:
— Эх, жизнь наша проклятая!
— Да, не везет, — мигнула ей Алена. — Вроде бы и карта выпала, а фарту все одно нет.
— Вы что же, негодницы, — спросил я, — опять меня тут в картишки разыгрывали?
— Опять, — усмехнулась Алена, — опять, лапочка.
— Ну, и кому же досталось?…
— А вот ей, — она кивнула в сторону Сатаны. — Ее была очередь.
— Была да сплыла, — отозвалась Сатана уныло. И тут же подалась ко мне, уставилась дымными, дышащими зрачками. — Не вышло у нас с тобой… Обидно. Уж я бы постаралась! Все бы соки из тебя выпила!
Рослая, грудастая, с широкими боками, она сидела, закинув ногу на ногу, положив на колено гитару. Левая бровь Сатаны была заломлена, в углу рта тлела папироска.
— Все бы соки, — повторила она, — да… это уж точно! От Алены ты как-то еще уполз, а от меня так просто не ушел бы, не-ет, не ушел.
— Живым бы не выпустила? — прищурилась Алена.
И мгновенно среди толпящихся вокруг женщин возникло шумное оживление. Кто-то выкрикнул, давясь от смеха:
— Сатана — деловая баба. Сурьсзная. Чуть что не так, утюг в руки и по кумполу…
— Бросьте, дуры, болтать, — ленивым низким голосом отозвалась Сатана. — Ну, чего, кобылищи, ржете! При чем тут утюг?
— То есть как при чем? — захлебывались в толпе. — Первый срок-то ты из-за чего получила?
Я заинтересовался подробностями. И узнал их вскоре. Сатана сама рассказала мне обо всем. История ее была такова: когда-то, лет пять назад (звали ее тогда более скромно — Наташей), она жила во Владимире, имела семью и, мечтая об артистической карьере, посещала местное музыкальное училище. Семья у нее была небольшая: только она да муж ее, Николай Дормидонтович. Он работал на железной дороге, был старшим вагонным мастером и частенько по долгу службы отсутствовал ночами — уходил в депо на дежурство.
Как и большинство семей, Наташа с мужем ютились в коммунальной квартире. Огромная эта квартира была набита битком. Здесь в восьми комнатах жило в общей сложности человек тридцать; люди многодетные, усталые, обремененные хлопотами и заботами. Во всем этом сонмище была лишь одна молодая вдовушка (Сатана иначе не называла ее, как шалавой и сучкой), которая никакой семьи не имела, забот не знала и проживала в веселом одиночестве в самом конце коридора. Из-за нее-то, из-за этой шалавы, все и произошло.
Наташа давно уже замечала, что вдовушка вьется вокруг Николая, норовит попасться ему на глаза в коридоре или на кухне — мелко хихикает, крутит по-сучьи подолом. Замечала, но не придавала этому значения… Но вот однажды муж ее собрался, как обычно, на ночное дежурство. Надел шинель, взял узелок с харчами и, попрощавшись с Наташей на пороге, ушел, А среди ночи она была разбужена странным шумом. Кто-то возился возле двери. Затем она растворилась, и в комнату вошел Николай. Он был мертвецки пьян и к тому же в одном исподнем белье!
Скребя ногтями волосатую грудь, что-то невнятно мыча и поддергивая сползающие подштанники, он приблизился к кровати, покачался над ней и рухнул ничком. И почти мгновенно заснул.
Задыхаясь и торопясь, Наташа выбралась из постели и как была в одной сорочке побежала по ночному коридору. Дверь, ведущая в комнату вдовушки, оказалась незапертой. Наташа толкнула ее, ступила на цыпочках за порог. И увидела свою соперницу: та спала полуголая, широко разбросав ноги. Простыни сползли на пол. В изголовье лежали две подушки. Рядом, на тумбочке, поблескивал графинчик с недопитой водкой, громоздилась грязная посуда. И среди тарелок увидела она узелок, тот самый узелок с едой, который она ежевечерне вручала Николаю, отбывающему на дежурство!
Здесь же, небрежно брошенная на стул, валялась его одежда: китель, штаны, форменная шинель. «Вот, стало быть, где он дежурит, — подумала она, мертвея, — вот у кого он проводит ночи! У этой потаскухи, у стервы…»
Лютая ревность ужалила ее. Горло стиснула судорога. Не помня себя, забыв обо всем на свете, она схватила тяжелый чугунный утюг, стоявший в углу на полке, и с одного удара размозжила сопернице череп.
Впоследствии на суде выяснились некоторые дополнительные детали. Николай, как оказалось, провел у этой вдовушки немало ночей. (На работе он обычно сказывался больным — знакомый лекарь доставал ему необходимые справки.) В ту роковую ночь он особенно крепко выпил, заснул в объятиях любовницы и затем, пробудясь, вышел из комнаты по нужде.
Хмельной, обеспамятевший, еще не очнувшийся ото сна, он справил нужду и вместо того, чтобы вернуться к вдовушке, по привычке направился к себе. Он сделал это машинально: ноги сами занесли его в родную обитель…
Судьи, в общем-то, отнеслись к Наташе снисходительно; убийство было явно непредумышленным, совершенным в состоянии аффекта. Ей дали всего шесть лет — срок по нынешним временам небольшой, терпимый. Его еще можно было как-то отбыть и вернуться к нормальной жизни. Однако в тюрьме характер у Наташи изменился. Она ожесточилась, стала дерзкой и бесшабашной. Сблизилась с воровками, получила прозвище Сатана. В женском лагере под Владивостоком, там, куда она попала вначале, произошел шумок: группа воровок объявила забастовку, отказалась выходить на работу, а когда надзиратель стал выгонять их на развод, кто-то сзади рубанул его топором. Всем, кто участвовал в этом шумке, дали впоследствии дополнительный срок. Была здесь и Сатана и тоже, как и все, получила двадцать лет: таков был традиционный лагерный «довесок»!
Обо всем этом она теперь поведала мне небрежным, каким-то скучающим тоном. Она словно бы говорила не о себе, а о ком-то другом… Прошлое (это было заметно) уже не волновало ее, не трогало. Все в ней давно перегорело, подернулось пеплом, и лишь об одном она сожалела — о том, что ей так и не удалось закончить музыкальное училище. Музыка влекла ее по-прежнему и, надо сказать, удавалась ей. Играла она проникновенно, с душой. И обладала к тому же сильным низким голосом.
Закончив свой рассказ, она вздохнула коротко. Взяла с колен гитару. Опустила лицо. И тихонько запела, искоса поглядывдя на меня:
Вот лежим мы, сумрачно и немо,
Смотрим в зарешеченное небо.
За окном вагона дымный вечер.
От любви далекий путь излечит.
И тут же она оборвала песню — прихлопнула струны ладонью. Возникла напряженная тишина. Сатана глядела теперь куда-то мимо меня, поверх головы. И все, кто толпились здесь, смотрели туда же. Я медленно обернулся: в дверях стояла надзирательница.
Низкорослая, в распахнутом полушубке, в синей суконной юбке, она мне запомнилась еще с ночи; тогда, в самый разгар веселья, кто-то заглянул с улицы в барак, крикнул шепотом: «Атас!» И тотчас же Алена набросила на меня одеяло, навалила сверху подушки и разлеглась на мне, развалилась лениво.
— Что это вы, девки, гужуетесь? — спросил сипловатый голос. И я, осторожно отогнув краешек одеяла, увидел в щелку низкорослую женщину в погонах старшины.
— Именины справляем, — ответила Алена.
— Кончайте, — сказала надзирательница. — Или уж хотя бы не шумите так… А то звон — на всю зону. Это куда годится?
Теперь она стояла, глядя на меня в упор, поджав в усмешке темные, растресканные губы.
— Эй, — сказала она и поманила меня пальцем. — Эй, ты! Кончай резвиться. Не все коту масленица… Идем-ка со мной.
* * *
Утром следующего дня меня вывели под конвоем за зону и посадили в машину — в большой крытый грузовик.
Во мне все теперь вызывало сомнение и беспокойство: и неожиданный этап, и эта машина, и обилие конвоя (меня сопровождало трое автоматчиков). Юля сказала, что бумага пришла из главного управления, из следственного отдела… «Чего они там от меня хотят? — недоумевал я. — И куда меня теперь волокут? Коль уж в машине, значит, далеко… Так куда же? В управление? Или, может быть, на штрафняк? И если туда, то за что?»
Ехали мы долго и все время трактом, по людным местам. Наконец фургон вильнул и остановился. Распахнулась дверца. Ворвался ветер в проем. И передо мною в белесой мути, в клубах сырого тумана, возникли знакомые очертания пересылки… Вот этого я ожидал меньше всего!
Еще сильнее забеспокоился я, когда увидел, что ведут меня не в карантин и не в общий сектор, а в БУР (так называется Барак Усиленного Режима, являющийся внутри-лагерной тюрьмой). Приземистое это каменное здание помещалось неподалеку от вахты, под сторожевою вышкой. Меня завели туда, обыскали тщательно. И затем затолкнули в камеру.
Я пошарил по карманам, собрал и ссыпал в ладонь табачные крошки. (Папиросы и мешок с харчами у меня отобрали сразу же.) Затем закурил и прилег на низкие нары. Я лежал, касаясь плечом стены, чувствуя сквозь телогрейку ледяной ее, цементный, сосущий холод. Вдруг я привстал настороженно. Кто-то пел за стеной:
Ты проституткою была,
Тебя я встретил.
Сидела ты под вербой на скверу.
В твоих глазах метался пьяный ветер,
И папиросочка дымилась на ветру…
Непонятно было почему, каким образом просачивалась песня сквозь цемент, сквозь тюремную стену. Слова слышались отчетливо… Впрочем, я тут же понял — почему. У окна, в углу камеры, змеилась черная трещина (постройка эта была, видимо, давняя, и — как и все, что создано руками заключенных, — халтурна и непрочна). Трещина рассекала стену от потолка до пола. Примостясь в углу, приникнув ухом к трещине, я вслушался в смутный голос соседа… и узнал его. Это был голос Девки!
«И вот опять, опять мы встретились с тобою, — напевал Девка, — ты все такая же, как восемь лет назад. С такими жгучими и блядскими глазами…»
Я окликнул его. Он умолк, зашуршал у стенки. Потом спросил торопливым шепотом:
— Это ты что ль, Чума?
— Я.
— Когда прибыл?
— Час назад. А ты?
— Да уж третий день пошел.
— Кто-нибудь есть еще — из наших ребят?
— Нет никого, — сказал Девка, — вся кодла теперь на Индигирке. На строгом режиме. Там такое творится — ой-ой!
— А ты где был все это время?
— Там же…
— Почему ж тебя привезли? — удивился я. — По какой причине?
— По той же, что и тебя…
— Но в чем дело? — спросил я озадаченно.
— А ты разве не знаешь? — проговорил усмешливо Девка. — Не догадываешься?
— Видит Бог, никак в толк не возьму.
— Ну так вспомни Ванинскую пересылку.
— А что — пересылка? Что… — начал было я, но тут же в памяти моей возникла пересылочная баня — клубы пара, мятущиеся тени, кровавая пена на скользком полу… И, уже догадываясь о сути, но все же инстинктивно, не желая верить этой догадке, я сказал погодя:
— Послушай… Речь идет, насколько я понимаю, о том деле… Ну — о мокром. Так?
— Конечно, — отозвался Девка. — О чем же еще?
— Но ведь следствие уже было… Закончилось!
— Теперь это все раскручивают заново; ищут тех, кто первым начал… Ну и взялись за нас. Усекаешь?
И вот тут я забормотал слова, за которые мне стыдно и по сей день; не за слова, вернее, а за тот тон, каким они были сказаны.
— Послушай, Девка, при чем тут я? В той истории я ведь никак не замешан. Даже пальцем не прикоснулся ни к кому; ты сам это знаешь. Ну, скажи — ведь знаешь? Ска…
Что- то жалкое, искательное просквозило в этих моих словах; что-то такое, что заставило меня, смутясь, оборвать на полуслове начатую фразу. И Девка тоже почуял это. И, посопев, помедлив несколько, сказал:
— Знаю, все знаю! Только ты не ной. Не скули. Оправдываться перед прокурором будешь… Ну, а если до меня коснется — я, конечно, подтвержу, что ты тут ни при чем. Мне тебя волочь за собой по делу тоже резону нет.
— А тебе, — спросил я, заминаясь, — тебе, ты думаешь, не отвертеться?
— Мне — нет, — сказал он. — Мое дело тухлое.
— А тебя уже вызывали?
— Один раз. К старшему оперу.
— И о чем он спрашивал?
— Да, в общем-то, ни о чем конкретном, — проговорил в раздумье Девка. — Чего-то он все крутил вокруг да около… У меня такое ощущение, будто он выжидает…
— Чего же?
— Наверное, ждет каких-нибудь дополнительных сведений. Или, может, распоряжений начальства… Не знаю, старик. Да и чего гадать попусту? Рано или поздно все само прояснится!
И вскоре все прояснилось: опер ждал, оказывается, начала навигации. И с первым же рейсом отправил нас с Девкой на «большую землю» — во Владивостокскую следственную тюрьму.
Встреча с Лешим
Мы не одни ехали с Девкой во Владивосток; в зябком сумрачном отсеке трюма помещались вместе с нами еще двое зеков. Их так же, как и нас, отправляли на переследствие, но по другому делу… А в соседнем отсеке (об этом мы узнали на следующий же день) оказался наш товарищ — Леший.
Он все-таки добился своего! Перехитрил всех, в том числе и главврача пересылочной больницы. Как ни старался главврач разоблачить Лешего, на какие ухищрения ни пускался, ему все же пришлось смириться и подписать в конце концов актировочный акт.
Леший отплывал теперь на свободу. Вместе с партией других освобожденных — здесь их насчитывалось человек пятнадцать — его должны были высадить на берег в бухте Находка, расположенной неподалеку от главного Владивостокского порта.
Там же кончался и наш маршрут, так что весь этот многодневный путь мы должны были проделать по соседству с ним — в самой тесной близости.
Обычно этапники встречались с вольными пассажирами во время прогулок на нижней палубе в кормовой части судна. Нас везли на старом полуледокольного типа корабле под названием «Тауйск». И слово это, когда я увидел его, входя на борт, показалось мне весьма символичным: в нем было как бы напоминание о тауйском неповторимом периоде моей жизни, о благословенном «матриархате»… И чем дальше я уплывал, тем с большим умилением и какой-то даже нежностью думал обо всем этом, припоминал громогласную Музу, бесшабашную Алену, тоскующую и смятенную Сатану. И даже былая повелительница моя, начальница ППЧ, даже она сейчас представлялась мне несколько иной, слегка очищенной от присущей ей плотоядности.
Нас выводили на прогулку, как правило, в середине дня — в послеобеденное время. По сторонам располагался конвой. А за ним среди палубных надстроек и возле бортов теснились вольные. Конвой разгонял их время от времени, но появляться им здесь все же не мог помешать. Они перебранивались с конвоирами, зубоскалили, окликали нас, и при любой удобной возможности подбрасывали нам табачок и хлеб.
Вот в этой оборванной и горластой толпе вольняшек я снова — впервые за долгое время — увидел Лешего… Господи, как он изменился! Он словно бы постарел лет на десять: сгорбился, похудел, как-то весь усох. Косматая борода его и длинные, нечесаные, спутанными прядями лежащие на плечах волосы — все было осыпано грязною сединой. Раньше седины этой не было; она появилась за минувшую зиму. Да, нелегко далась ему свобода!
Эту самую фразу — слово в слово — произнес Девка; он выразил нашу общую мысль! И я вздохнул, пристально вглядываясь в согбенную, маячившую неподалеку фигуру.
Леший стоял, ссутулясь, прислонясь к фальшборту. Он держался в стороне от толпы — никак не смешивался с нею. Он был молчалив и угрюм. Хлесткий ветер трепал и развевал его сивые космы. И сейчас он всем своим обликом действительно походил на лесного демона, на дремучего лешего; он полностью оправдывал эту свою кличку.
— Эй, — позвал его Девка. — Эй, Леший, ты что, не узнаешь? Топай сюда!
Фигура у борта распрямилась медленно. Из-под надвинутых бровей глянули на нас расширенные мутноватые зрачки.
Оскалясь, он шагнул к нам. И тотчас же толпа на его пути расступилась, раздалась. Люди явственно сторонились Лешего, шарахались от него, как от чумного.
Мордатый, в распахнутом ватнике парень проворчал с брезгливой гримасой:
— Куды прешь, паскуда? Куды прешь, твою мать?… Не смей до нас касаться, понял?
И вот что самое удивительное: все эти возгласы, эту брань Леший воспринимал безропотно, с какой-то странной отрешенностью. Он не протестовал и не сердился, он молча, медленно шел к нам сквозь пустоту. Шел так, как если бы он был один на корабле. Один на всем свете. Да он и в самом деле был во всем свете один…
Послышался еще чей-то голос:
— Убить его мало, подонка!
Леший остановился, озираясь. И тогда, вступаясь за старого товарища, я сказал с укоризной:
— Вы что это, братцы, навалились на него? Кончайте. Не прискребайтесь. Не видите разве: человек болен…
— Да какой это человек, — возразили мне тут же. — Люди дерьмом не питаются.
— Так это он — с понтом, понарошку, — ответил я. — И вообще, все это было давно.
— Я не о том, что раньше, — гневно выкрикнул мордатый парень, — я о том, что сейчас.
— Сейчас? Неужели?… — начал было я и притих, пораженный.
— Ну да, — подтвердил парень. — Жрет дерьмо, понимаешь. И ведь как еще жрет! По собственной своей охоте! Как взошел на борт — так сразу же и начал… Да о чем разговор? — он вдруг усмехнулся. — Спроси его сам. Вы же друзья с ним? Вот и спроси.
Леший стоял в двух шагах от нас, переминался, хрипя и дергаясь. Улыбка, взошедшая на его лице, постепенно угасла, сошла. Глаза занавесились бровями.
Улыбка его угасла, но прежний оскал остался. И было теперь в этом оскале что-то незнакомое, волчье…
— Леший, — тихонько позвал его Девка. — Слышишь, Леший, да что с тобою?
Тот не ответил. Но зато отозвался начальник конвоя.
— А ну, прекратить разговорчики, — заорал он хрипло. — Эт-то что такое? Правил не знаете? Ишь, паразиты, устроили тут митинг… Почуяли слабину?
Он отогнал от нас вольных, в том числе и Лешего, и велел конвоирам кончать прогулку.
Потом в трюме мы долго с Девкой беседовали обо всем случившемся; судьба Лешего взволновала нас чрезвычайно. В сущности, он ведь никого не обманул, разве что самого себя. Притворившись сумасшедшим, он затем и в самом деле стал таковым. Выбрал себе страшную участь. И был теперь конченым, пропащим. Был уже болен по-настоящему.
После этой встречи с Лешим видеть его как-то уже не хотелось. Да он и сам, очевидно, не стремился к этому. На прогулках во всяком случае мы его больше не встречали.
* * *
А затем у берегов Японии началась полоса штормов, и все последние дни этапа мы отсиживались в трюмном отсеке. Вернее, отлеживались. Как обычно в таких случаях я безотчетно грустил и сочинял стихи, а Девка спал. Спать он мог подолгу и при любой погоде. А когда просыпался, то обычно лежал, полузакрыв глаза, и пел негромко.
Блатных, босяцких песен он знал множество. Предпочитал в основном сентиментальные, со слезой… Однако на сей раз репертуар его был иной. Он пел теперь песни, тема которых — расстрел.
Песни эти легко объединяются в особый цикл. Сюда, например, входит знаменитая песня тамбовского повстанца атамана Антонова: «Что-то солнышко не светит, над головушкой туман. Или пуля в сердце метит, или близок комиссар. На заре кричит ворона: „Коммунист, открой огонь! В час последний, похоронный, трупом пахнет самогон“.
Помимо нее есть также песня „Белый свет“, написанная неизвестным автором и отредактированная мною еще в бытность мою на Кавказе: „Завтра поведут нас на расстрел. Приговор жесток и неизменен. Вот уже восток заголубел. Заклубились пепельные тени. Я на зарю взгляну в последний раз… Ну и что ж, и пусть в минуты эти, кроме твоих рук, и губ, и глаз, ничего не жаль мне на планете“.
Есть в арестантском фольклоре немало и других песен — такого же плана. Девка, повторяю, знал их все. И пел их теперь, наборматывал с какой-то унылой, однообразной настойчивостью. Репертуар этот не прибавлял нам веселья… И я, не выдержав, сказал:
— Меняй пластинку, Девка, и без того тошно!
— Эх, — отозвался он с коротким вздохом, — эх, старик… Ты говоришь „тошно“… А с чего веселиться?
— Но все-таки! Давай-ка что-нибудь поприятней.
— Душа тоскует, — пробормотал Девка. — Ей не петь, ей плакать охота.
Он сказал это задумчиво, собрав жесткие складки у рта. Я никогда еще не видел его таким. Я привык к постоянным его ленивым ухмылочкам, к насмешливому равнодушию, к жестокому его цинизму, привык к этому и не представлял себе Девку иным. Изо всех знакомых мне уголовников, он был, пожалуй, самый законченный, отчетливый, характерный. Истинный босяк, сын Гулага, блатная душа!
А впрочем, что знал я о его душе? Что я вообще знал о нем?
Сентиментальных излияний он в принципе не любил, о себе рассказывал неохотно и мало. Лишь изредка, случайно (под чифиром или иным каким-либо марафетом) упоминал он о своем прошлом; вернее, начинал говорить и тут же осекался, сворачивая на другое.
В общем-то, прошлое Девки, насколько я смог уразуметь, было весьма типичным для нашей смутной эпохи. В чем-то его детство сближалось с моим, сближалось не по внешним признакам, а по глубиныой сути. Так же, как и у меня, все беды и сложности начались у него в годы сталинского террора — после распада семьи.
Девка (впрочем, у него было и нормальное христианское имя — Кирилл) родился в 1928 году на Ангаре в старинном таежном селе Богучаны. Отец его был политический ссыльный, из тех, кто в середине двадцатых годов в Ленинграде примкнул к партийной оппозиции и был затем сослан на поселение в Восточную Сибирь. Мать его — коренная сибирячка, таежница, чалдонка. Отец сошелся с ней вскоре после прибытия в село. Спустя небольшое время родился у них сын Кирилл. Однако прожили они вместе недолго. Поднялась новая волна репрессий, и в результате все, кто были ранее сосланы, в том числе и отец Девки, оказались за колючей проволокой, получили по десять лет строгорежимных лагерей.
Потом получила срок и мать; она была осуждена за связь с врагом народа. Ее угнали по этапу в Заполярье, а единственный ее сын (ему тогда шел всего лишь пятый год) попал в иркутский детприемник, в заведение, специально предназначенное для детей заключенных, оставшихся без призора.
Так началось хождение Девки по тем путям, что привели его впоследствии в преступный мир. Долгие годы скитался он по различным приютам и детдомам. Он переменил их множество. Постоянно убегал и неизменно ловился, и снова уходил в побег. Начало Великой Отечественной войны он встретил в Казани, в колонии для малолетних преступников; к тому времени за ним уже числились кое-какие дела…
Дела на первых порах были не крупные: базарные кражи, хищение „голубей“ (так называется белье, вывешиваемое во дворах для просушки). Потом он сблизился с профессиональным ворьем, с группой „слесарей“, орудовавших в городах Заволжья. Принятый в кодлу на правах пацана, Девка выполнял там всевозможные мелкие поручения: был связником, бегал за водкой, изредка выходил на ночную работу — стоял на стреме, принимал барахло… Но однажды, уже во время войны, произошел случай, сразу же изменивший его положение, возвысивший Девку в глазах блатных.
Случай этот известен, о нем Девка рассказывал мне подробно. Дело было в 1944 году, в Астрахани, куда он перебрался после того, как вышел из колонии. В тот год он достиг совершеннолетия, получил паспорт и по отбытии срока наказания был отпущен на волю уже как взрослый человек, не нуждающийся в казенной опеке.
Астраханская шпана приняла его радушно, в блатном мире все ведь известно о каждом. Старые связи помогли ему войти в местное общество. И вскоре, осмотревшись и попривыкнув на новом месте, он уже начал работать всерьез. Одно из первых крупных дел, доставшихся ему, было нашумевшее в Астрахани ограбление военторговского склада. Налет этот совершен был ночью по наводке. Наводчик, шофер автобазы, обслуживающей военторг, отлично знал расположение склада, был знаком с тамошними порядками. Охрана склада была военизированной, хорошо вооруженной. Как правило, дежурило здесь трое сторожей. Один находился снаружи в будке возле ворот. Двое других — во внутреннем помещении. Наружного охранника (он дремал, обнимая винтовку, закутавшись в бараний тулуп) обезвредили сразу с одного удара. Били кистенем, чугунной гирей на цепи. Оружие это, вообще говоря, страшное… Уголовники называют его „снотворным“.
Получив свою порцию „снотворного“, сторож упал, подергался и затих. Налетчики без помехи отомкнули ворота, проникли в склад и там сходу прихватили остальных сторожей. С ними пришлось маленько повозиться. Но все же дело обошлось сравнительно гладко, без лишнего шума.
Затем, отдышавшись и покурив, урки принялись очищать склад. Шофер, губастый, толстощекий, в защитного цвета ватнике, шнырял по складскому помещению и указывал, что где брать. Товар здесь был богатейший: рулоны первоклассного сукна, английская привозная диагональ, называемая в народе „подарок Черчилля“, свитера, кожаные регланы, офицерские хромовые сапоги. Стоимость всех этих вещей по военному времени составляла несколько миллионов рублей.
Сумма эта и сами вещи — все действовало на шофера гипнотически. Он был как в бреду. Суетился, цокал языком, хлопал себя ладонями по ляжкам. Он старательно помогал ребятам выносить тюки и погружать их в машину, но, по сути дела, только мешал. Вышел он из склада последним (было это уже перед самой зарею). Сел за руль. И вдруг сказал осипшим, каким-то клокочущим голосом:
— Стойте-ка, ребята. Меня что-то сторожа беспокоят. Я уходил — один из них вроде бы шевелился… Может, он очнулся, а? Не дай-то Бог. Ведь если он узнал меня, тогда хана!
— Не трепещи, голубок, — сказали ему, — не вибрируй. Тут все чисто. После кистеня не просыпаются.
— Ну, а если? — возразил, стукая зубами, шофер. Он весь дрожал мелкой дрожью. — А вдруг кто-нибудь видел, что тогда? Вам шуточки, а я ведь на виду… Нет, надо проверить, поглядеть.
Он поспешно выпрыгнул из кабины и скрылся, пригибаясь, в редеющей тьме. Он пошел не один; вслед за ним направился Девка. Четверть часа спустя Девка вернулся. Молча залез в машину, уселся на место шофера и потянулся к рычагам. Его спросили:
— Ну что? Как было? Шевелился кто-нибудь?
— Шевелился, — ответил, усмехаясь, Девка.
— Успокоил его?
— Конечно.
— Ну, лады. Поехали. Где шофер?
— Какой шофер? — отозвался Девка. — Нету шофера. И считайте, что не было.
— Что-о? Значит, ты и его — тоже?
— И его.
— Почему?
— Да так… Слишком уж он нервный.
— Но что же ты натворил, — упрекнули его. — Кто теперь поведет машину?
— Я сам, — сказал Девка, включая зажигание. — Сам поведу. О чем речь? В этом я кое-что понимаю. В детдоме в Кургане был у нас когда-то кружок автомобилистов…
После того случая за Девкой прочно укрепилась репутация „делового“ парня. Несмотря на возраст, он быстро вошел в закон. Его побаивались, с ним считались. Матерые старые урки — паханы — разговаривали с ним, как с равным. И для многих было лестно (да и спокойно, что говорить!), если на работу с ними выходил молоденький этот красавчик.
Он всегда был ровен, холоден и невозмутим. Где-то за этой невозмутимостью угадывалась скрытая, глухая ожесточенность. Очевидно, таким он стал смолоду; он словно бы мстил людям за былые горькие свои утраты. А может, и еще что-то крылось в его душе.
А впрочем, что я знал о его душе? Многое, очень многое в этом парне оставалось для меня неясным. И вовсе уж странным, необычным казалось мне нынешнее его настроение.
— Завтра причаливаем. Конец прогулке. Ты небось забыл о нашем деле?
— Нет, — отвечал я. — Разве о нем забудешь?
— Вот то-то, брат! Дело нам мотают скверное. Ты еще, может, и вывернешься, а я уж нет… Представляешь, что меня ждет?
— Во всяком случае не расстрел! Ну, воткнут сколько-нибудь. Может быть, даже и четвертак… Это не сахар, ясное дело, но все-таки жизнь не отнимут.
— Почем знать, — говорил он уклончиво. — Почем знать!
* * *
Во Владивостокской тюрьме нас сразу же разделили, развели по разным камерам. Виделись мы за все это время один лишь раз — в кабинете следователя, на очной ставке.
Следователь попался дотошный, въедливый. Раскручивая заново дело об убийстве в бане, он хотел знать все самые мелкие подробности. Идя по нитке событий, от конца к началу, он добрался до наших с Девкой имен. И теперь исследовал совместную нашу роль в этом деле.
В общем-то, причастность моего друга к убийству была бесспорной, вполне очевидной. Девка плеснул из шайки кипятком в лицо бегущему и остановил его, помешал ему скрыться. Обстоятельство это послужило как бы толчком к последующей трагедии… Однако эту шайку он получил из моих рук! Это ведь я наполнил ее кипятком и отдал затем Девке. Отдал сразу же, безо всяких помех. С точки зрения следователя это не могло быть случайностью: он усматривал здесь особый умысел, специальный расчет. Он считал меня прямым участником преступления. И упорно пытался это доказать.
Я возражал столь же упорно.
— Все произошло именно случайно, — доказывал я, — случайно и, главное, мгновенно. Я поступил так машинально, в растерянности и ни в коей мере не мог отвечать за последствия…
Эту мою версию поддерживал и Девка во всех своих показаниях. Мы с ним хоть и сидели отдельно друг от друга, но связь между нами все же была. Тюремная почта выручала нас, как и всегда. Девка сдержал свое слово: он все время выгораживал меня, защищал. И видит Бог, если бы не он, вряд ли бы я смог выпутаться из этой истории.
Следствие тянулось около двух месяцев. А затем была сделана очная ставка. Нас вызвали и предложили показать наглядно, как все было. (У криминалистов это называется „следственным экспериментом“.)
На этот раз Девка предстал передо мной таким, каким я привык всегда его видеть. Былая слабость его прошла; он был теперь по-прежнему спокоен, холоден и насмешлив.
Охотно согласившись на предложение следователя, он тотчас же уселся на пол и начал торопливо разуваться. Снял сапоги. Расстегнул пуговку на брюках. Тут его остановили. На вопрос следователя: „Что это он затеял?“ — Девка отвечал, помаргивая пушистыми ресницами:
— Вы же сами говорили, чтобы все было в точности… Ну, вот. Я и раздеваюсь. Дело-то ведь в бане произошло!
— Ладно, кончай кривляться, — нахмурился следователь. — Тоже мне артист!
Потом, когда эксперимент закончился и мы с Девкой подписали протокол допроса, товарищ сказал мне, лениво вытягивая слова:
— Прощай, старик. Вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся…
* * *
Он был прав! Темные предчувствия не обманули его; И не зря, недаром пел он в пути тоскливые „смертные“ песни.
Расставшись с Девкой, я навсегда потерял его из виду. И знаю о нем немного. Знаю, что он получил на суде двадцать пять лет, был затем отправлен на Ленские слюдяные прииски, там опять ввязался в какую-то „мокрую“ историю и вскоре приобрел еще один довесок. С течением времени у него накопилось по совокупности что-то около восьмидесяти лет лагерного сроку. Когда же в начале пятидесятых годов была вновь введена смертная казнь, такие, как Девка, первыми попали под указ. Кто-то вроде бы даже знал: где и когда Девка был расстрелян… Произошло это — по слухам — в Искитимском Централе, на всесоюзном штрафняке. Рассказывали, что на выездной сессии трибунала, вынесшей ему смертный приговор, Девка держался с изумляющим всех спокойствием, с обычной своей беззаботной ухмылочкой. И в последнем своем слове отнюдь не выпрашивал, как это водится, ни снисхождения, ни жалости. Единственной просьбой, с коей он обратился к властям, была просьба о харчах, о хорошем обеде. Причем он будто бы просил, чтобы этим обедом накормили — на помин его души — всех заключенных Централа.
Не знаю, правда ли это? Так ли происходило в действительности? Пожалуй, что так. Это все ведь очень похоже на Девку, вполне совпадает с его характером, с его образом. А может, то, что я слышал, было легендой. Не знаю, не знаю. Да и какая, в конце концов, разница? Своеобразный и не разгаданный, он возник в моей жизни — промелькнул в ней и сгинул. Он ушел из нее точно так же, как многие другие мои друзья: как и Кинто, и Королева Марго, и Леший.
* * *
О Лешем мне тоже довелось кое-что узнать… Он благополучно высадился в Находке на берег, сразу же отделился от прочих и скрылся в портовой толчее. Потом его кто-то видел однажды на окраине Владивостока. Леший бродил по переулкам и рылся в мусоре. Он был грязен, оборван и страшен лицом. Он явно был не в себе! Затем он исчез. И объявился месяц спустя в местной психолечебнице. Вроде бы он явился туда сам, по доброй воле. И на этом следы Лешего потерялись; дальнейшая его участь неизвестна. Что с ним сталось? Вылечился ли он в конце концов или так и умер, забытый и отвергнутый всеми?
„Этап, этап, телячьи вагоны“
Ну, а моя дальнейшая судьба сложилась так. По окончании следствия меня в скором времени отправили на этап. Однако на Колыму я уже не попал. Дальстрой не принял меня обратно. Решающую роль здесь сыграла особая пометка в моем формуляре (которой, кстати, раньше не было!), обозначающая мою принадлежность к блатным, к воровской мафии. Об этом, очевидно, позаботился следователь… Заключенный с таким формуляром ни на что хорошее, естественно, рассчитывать не мог; с точки зрения лагерного начальства он был фигурой сомнительной и опасной. Особенно опасной теперь, в связи с разрастающейся, ширящейся „сучьей войной“.
Война эта день ото дня становилась все кровопролитнее, обретала неслыханные масштабы. Начавшись в 1946 году на юге, она с течением времени докатилась до самых отдаленных уголков материка. Достигла она и пределов Дальстроя, и с конца сороковых годов тамошнее начальство стало отсевать блатных, начало старательно от них избавляться. Тех, кто уже имелся на Колыме, постепенно изолировали, согнали на штрафняки. А новых управление брало крайне неохотно. В этом был, конечно, свой резон. Колыме нужны были не урки, а работяги!
Так что следователь, желая напакостить мне, по сути дела, мне помог!
Летом 1948 года всю скопившуюся на второй речке ораву блатных (их насчитывалось здесь что-то около трехсот человек) отправили в Красноярский край на новую пятьсот третью стройку. Местная тюрьма была разгружена почти полностью. Остались лишь те, кто находился еще под следствием или дожидался суда. Остался таким образом и Девка. Мы с ним не смогли повидаться, но все же на прощание он сумел переслать мне записку.
В записке он, между прочим, снова напомнил мне об убийстве Ленина…
„Ты еще, может, понюхаешь волю, — писал он, — срок у тебя небольшой. Это мне, брат, нечего терять, а тебе прямой смысл поберечься. Только не зарывайся, не при на рожон. И особенно — со своими… В той истории с Лениным тебе пофартило, поперло, что говорить! Но ведь в другой раз такой номер может не получиться, учти это! И все-таки, между нами, я так до сих пор и не могу понять, зачем ты это сделал?“
Такова была последняя, прощальная весточка от друга! Ответить на нее я не успел.
* * *
„Этап, этап, телячьи вагоны“, — уныло напевал я, взгромоздившись на верхние нары и прильнув к зарешеченному окну. За ним, дымясь и вращаясь, пролетали неохватные хвойные леса. Эшелон пересекал Восточную Сибирь. Он шел тем же самым путем, что и десять месяцев назад, но в обратном направлении, на северо-запад.
Мы все знали, куда нас везут — на пятьсот третью стройку… Но какова она, эта стройка? Что нас ждет там? Об этом оставалось только гадать… Во всяком случае, предполагать надо было худшее. Арестантская мудрость гласит: „Перемены к добру не ведут“. Жизнь любого зека зависит от случайности, как при игре в орлянку. И всегда выпадает, как правило, решка. Решка, а не орел!
Как я устал по лагерям шататься.
Я пел негромко:
Решетки, нары, так из года в год…
Ах, черт возьми, как трудно исправляться,
Когда правительство на помощь не идет!
Этап, этап, телячьи вагоны.
Опять везут нас к черту на рога.
И с каждым днем, и с каждым перегоном
Все глубже грусть и все мрачней тайга.
Этап был долгий и тоскливый. Что рассказать о нем? Все происходило как обычно. Мы изнывали от тесноты и жажды. Томились голодом. Страдали от отсутствия табака. Я мог бы привести немало тягостных подробностей… Мог бы, но, думаю, это ни к чему. В принципе и так ведь все давно уже известно. О жестоких нравах, царящих в застенках, написано ныне множество книг. Помимо Солженицына тему эту разрабатывали Гинзбург, Марченко. И десятки других литераторов, отечественных и зарубежных. И в этом плане ничего нового я не добавил бы. Да и вообще задача у меня несколько иная; я отнюдь не стремлюсь к бытописательству. И жизнь даю в особом ракурсе: показываю специфический мир уголовного подполья, мир российской мафии. О нем мало кто знает. О нем никогда еще не писали по-настоящему, со знанием дела. А он заслуживает того! Заслуживает хотя бы из соображений исследовательских, познавательных. В конце концов, это ведь тоже моя Россия! Частичка ее истории, ее судьбы…
В Красноярске железнодорожный путь сменился водным, речным. Нас высадили из вагонов, недели три продержали на пересылке, а затем погнали к реке — грузиться в баржи.
Вот тогда-то впервые я увидел Енисей! Увидел его крутые, щетинистые от хвои берега. (По местному они называются „щеки“.) И пенные полосы, испещряющие фарватер. И солнечные блики на стылой, бешено мчащейся воде. И широкие плесы, рябые от ветра.
Река шумела мерно и неумолчно. Огромная, она дышала мощью и острой свежестью. Над ней нависали, текли лохматые грузные облака, кое-где перемежаемые пятнами чистой лазури. Оттуда, из облачных прорывов, струился прохладный режущий свет, падал в воду и отражался ею.
Енисей поразил меня своим размахом, суровой азиатской красотой. И, глядя на реку, жмурясь от слепящего света, я ощутил какой-то странный толчок в сердце. Безотчетно и сразу почуял я, что здесь отныне наступает в моей жизни что-то новое…
Разумеется, я не знал тогда, какие испытания мне уготованы на пятьсот третьей стройке, какие страшные дела я там увижу (и слава Богу, что не знал!). Не предвидел я и дальнейших жизненных перемен, связанных с этим краем, и очень жаль, что не предвидел! Но все же ощущение новизны было сильным и безошибочным.
Мертвая дорога
Пятьсот третья стройка представляла собою обширную сеть лагерей, разбросанных по правому берегу Енисея в среднем его течении. Главное управление стройки находилось в селе Ермаково — неподалеку от города Игарки — у самого Полярного круга.
Здесь велись работы по прокладке железнодорожной трассы Игарка-Норильск. Дорога эта должна была по идее протянуться на многие сотни километров, достичь Таймырского полуострова и связать таким образом два крупнейших в Арктике промышленных центра. В Норильске, как известно, добывают уголь и всевозможные руды. Игарка же — большой портовый город, перевалочная база, откуда экспортируется на Запад всевозможное сырье: ценные породы древесины, ворвань, меха.
Так вот, о строительстве. Ничего более нелепого и странного я, признаться; не встречал за всю свою жизнь!
Дело в том, что за Полярным кругом начинается зона вечной мерзлоты. Почва тут схвачена глубинным льдом. Лед этот непрочен; он подвержен вечным колебаниям, уровень его зависит от смены температур. Весной, например, почва подтаивает, границы мерзлоты понижаются, и тогда заполярная тундра превращается в болото. Осенью, наоборот, пропитанная сыростью, вязкая земля смерзается, вспучивается, покрывается трещинами… Кому пришла в голову безумная мысль прокладывать трассу в этих местах? Поговаривали, будто бы к проекту дороги приложил руку сам министр Берия. Что ж, похоже на это! Он ведь не утруждал себя излишними раздумьями, он просто приказывал.
Как бы то ни было, строительство велось с размахом, шло полным ходом… И в принципе почти не продвигалось.
Все, что здесь с огромными усилиями удавалось сделать за зиму, летом, как правило, разрушалось, приходило в негодность. Затем работы начинались заново: ремонтировалась насыпь, укреплялось полотно. И так повторялось беспрерывно.
К тому времени, когда я прибыл сюда, стройка уже существовала несколько лет. Протяженность трассы составляла тогда что-то около десяти километров. Да и то коротенький этот отрезок держался в основном потому лишь, что здесь — в районе Игарки — тундра была еще не настоящая, не сплошная; ее покрывала чахлая, так называемая „черная“ тайга. Лесотундровая эта поросль к северу редела, сходила на нет, а затем начиналась уже голая, скованная мерзлотою пустыня.
И у мерзлоты этой строителям не удавалось больше отвоевать ни единой версты!
Однако и отвоеванные версты оказались в результате ни на что не пригодными, не нужными никому. В самом деле — кто и зачем бы стал пользоваться дорогой, уходящей в пустоту, ведущей в никуда?!
Ею никто и не пользовался впоследствии. И когда я, четыре года спустя, покидал эти места, участок пребывал в запустении, в забросе. Бессмысленно и дико чернели станционные постройки, шатались и поскрипывали телеграфные столбы. Окрестные жители, кержаки и эвенки, боялись этой трассы, обходили ее стороной. И не зря, не случайно окрестили ее в народе „мертвой дорогой“.
Я рассказал обо всем этом для того, чтобы потом уже не возвращаться к теме строительства. Когда я думаю о пятьсот третьей стройке, мне видится иное… В памяти моей оживают картины, исполненные тревог и всяческих бедствий: яростные схватки, резня, лица сгибших друзей и врагов. И потому само это название — „мертвая дорога“- имеет для меня двойной, особый смысл.
* * *
По приезде на трассу я сразу же попал в Ермаково, в один из центральных лагпунктов. Здесь я встретился с давними своими приятелями: с веселым карманником Левкой Жидом, с ростовским взломщиком Соломой и с некоторыми другими знакомыми мне по Кавказу и Средней Азии.
Блатных имелось здесь немало. Ютились они все вместе в одном бараке. Переполненный, битком набитый барак жил особой, затейливой жизнью.
Вот как жизнь эта протекала.
* * *
Утро. По зоне мельтешат унылые силуэты зеков. Бригады торопятся на развод, тянутся к лагерной вахте.
Не торопимся никуда только мы с Соломой. Мы освобождены от работы: числимся больными. Лагерный врач Левицкий — свой человек. Он благоволит к блатным. Ко мне же он относится с особой симпатией: ему нравятся мои песни. Он считает, что у меня талант. Об этом он говорил мне частенько. И всегда помогал мне по мере возможности. И вот теперь мы с Соломой покуриваем, стоя возле барака. Мусолим цигарки, озираем рассветную зону, переговариваемся неспешно.
Солома настроен философски. Высокий, худой, с костлявым длинным лицом, он говорит, покашливая от махорочного дыма:
— Ты никогда не замечал, что лагерь — это, в сущности, уменьшенная копия всей нашей страны. Приглядись, влезь утром на крышу! Чуть свет идут на работу мужички, тащатся, кряхтя. Затем, попозднее, топают придурки: бухгалтера, парикмахеры, кладовщики — словом, интеллигенция. Эти не спешат… Урки, как водится, от работы отлынивают; они заняты своими делами. Ну а вокруг охрана, вооруженная власть. Все, брат, по шаблону, по одному образцу.
Из-за угла в туманных рассветных клубах возникает человек, плотный, в распахнутом ватнике. Это — каптер, работник вещевого склада. Он идет вперевалочку, напевая сквозь зубы:
Что я вижу, что я слышу,
Влез начальничек па крышу…
Увидев нас, кладовщик широко ухмыляется и потом, сделав непристойный жест, заканчивает, подмаргивая и кривляясь:
И кричит всему народу:
„Вот вам хрен, а не свободу!“
* * *
Полдень. Я лежу, прихлебывая чифир, растянувшись на нижних нарах. (Взбираться наверх, на свое место — лень.) В бараке пустынно и тихо. Я здесь один; Солома ушел по делам. В общем-то, мы с ним остались, не вышли на работу по причинам весьма серьезным. Дело в том, что вчера вечером в зону принесено было оружие: десяток пиковин, ножи, два кистеня. Оружие фабриковалось в центральных ремонтных мастерских (сокращенно ЦРМ), куда выходили на работу несколько здешних бригад. Люди, принесшие оружие, схоронили его вчера наспех, небрежно. Надо было срочно позаботиться о нем, подумать, как и куда его перепрятать…
Итак, я один. Как всегда в часы затишья, ко мне приходят стихи, и я бормочу их, смакую, прислушиваюсь к ласковому их звону.
Внезапно сквозь этот звон прорывается гулкий топот ног. Дверь барака распахивается с громом, и на пороге вырастает фигура Гуся.
Гусь! Это имя как-то незаметно сгладилось в моей памяти, забылось. А забывать о нем не следовало. О врагах вообще нельзя забывать! Когда-то в Харькове на Холодной Горе он поклялся мне в мести, пообещал „большую кровь“. Обещание это исполнилось, сбылось. И теперь наконец он дождался своего часа. Здесь, на проклятой этой стройке, мне суждено было встретиться не только с давними моими приятелями, но также и с врагами.
Сцена эта помнится мне отчетливо.
Коренастый, с темным, иссеченным шрамами лицом, Гусь какое-то время молчит, наслаждается эффектом. Затем неспешно шагает ко мне. Следом за ним вваливается в барак шумная орава.
Медленно, поскрипывая сапожками (они у него новенькие, начищенные до блеска!), Гусь приближается, подступает вплотную. Взгляды наши сталкиваются. И я отшатываюсь в глубину нар и застываю там, скорчившись.
— Здорово! — говорит Гусь и усмехается, наигрывая пиковиной. — Вот где мы наконец встретились. Или ты, может, не рад? Что-то ты, я гляжу, дрожишь, трепещешь… — он умолкает на миг. И затем, бешено округлив глаза. — Молись, паскуда! Теперь ты пойман, ты — мой!
Это верно: я пойман. Я в западне. Деваться мне некуда. Спереди и по сторонам толпится сучня; за спиной у меня глухая стенка, а над головою — доски верхних нар.
О, как я теперь проклинаю себя за лень, за дурацкую беззаботность; ведь окажись я на своем месте, все выглядело бы иначе. Там, на верхних нарах, у меня был бы простор, возможность для маневрирования. И, кстати, там в щели между досками спрятан у меня отличный, добро наточенный нож!
Неотрывно следя за Гусем, я помалкиваю и в то же время лихорадочно думаю о спасении. Надо прорываться наверх. Но как это сделать? Что предпринять? У меня ведь — ни единого шанса. Хотя нет, один, последний шанс все-таки имеется…
И в тот самый момент, когда Гусь, вдоволь натешась и вконец остервенев, наклоняется ко мне, заводя для удара руку, я вскакиваю и распрямляюсь стремительно. И головой вышибаю верхние доски.
Оглушенный ударом, я почти теряю сознание. Багряный, режущий свет на мгновение вспыхивает перед глазами, а затем их застилает мутная пелена.
Но все-таки дело сделано! Путь наверх к избавлению открыт. И я выбираюсь сквозь пролом. Я делаю это машинально, как бы в беспамятстве, но тем не менее достаточно быстро.
Очутившись на верхних нарах, я тотчас же с треском отдираю от стойки половину расколотой доски; она увесиста и покрыта кривыми гвоздями. Вид у нее устрашающий. Прикрываясь ей как щитом, я могу теперь передохнуть, собраться с силами и отступить к изголовью постели. К тому самому месту, где схоронен мой добро наточенный нож.
Но браться за нож, оказывается, уже нет нужды. Потрясенный случившимся, Гусь (лицо его теперь внизу, у моих ног) бормочет оторопело:
— Ушел, собака. Это как же так? Нет, погоди…
Гусь еще что-то хочет сказать, но его обрывают. Кто-то из его корешей выглядывает за дверь и тут же кричит торопливо:
— Отваливаем, братцы! Идут…
— Кто идет? — оскалясь, спрашивает Гусь.
— Вроде бы этот, как его? Солома. Ну, да… Он! И не один! И враги мои уходят. И Гусь на прощанье говорит мне, пряча пиковину в сапог:
— Счастливый твой Бог… Но все равно учти: я твой охотник, ты мой заяц!
* * *
Вечер. Действие происходит в том же бараке. Я сижу на своей постели. Лицо у меня все в порезах, голова забинтована; она саднит и ноет. Но душа спокойна. Теперь я снова в кругу своих!
Рядом со мною на верхних нарах размещаются двое урок. Один из них — в квадратных роговых очках; он носит кличку Профессор. Прозвище другого — Никола Бурундук. (На этих нарах ютится, разумеется, множество самых разных людей, но я сейчас вспоминаю лишь тех, с кем был связан наиболее прочно.)
Профессор сравнительно молод, ему еще нет тридцати. Лобастый и толстогубый, он лежит на животе и что-то пишет, старательно скребет карандашиком. Потом он поворачивается ко мне и протягивает листок бумаги, на котором изображен идущий человечек. Изображен так, как это делают дети. Вместо головы — кружок. Туловище обозначено одним длинным штрихом, руки и ноги — короткими, ломаными, врозь торчащими черточками. Под человечком — подпись. Гигантскими корявыми буквами выведено: „Чума“.
Раскоряченная эта фигурка — мой портрет. Профессор трудился над ним со вчерашнего дня. Особенно тяжких усилий стоила ему подпись: он ведь неграмотен, никогда нигде не учился. Потомственный уркаган, он вырос в московских воровских трущобах, содержался с детства в колониях для дефективных, а затем, когда созрел и оперился, был занят своими делами (он специализировался на квартирных кражах) и как-то мало думал об образовании. Отсутствие грамотности его не заботило. Пробел этот с лихвой восполнялся профессорским, вальяжным видом. Очки он стал носить давно и по причинам весьма серьезным. Глаза у него действительно скверные. Он испортил себе зрение в одной из московских тюрем. Спасаясь от какого-то гиблого этапа, он решил применить „мастырку“. Достал химический карандаш, накрошил его и потом засыпал глаза ядовитым этим порошком.
От этапа он спасся, но в результате чуть было не ослеп… Тюремные врачи спасли его, выходили. Велели носить очки, беречь зрение. И так дефективный этот жулик превратился в Профессора!
Теперь он лежит, поблескивая окулярами, смотрит на меня и заливается счастливым смехом. Он доволен собой. Работа удалась ему! В принципе он испытывает сейчас то победное чувство свершения, которое ведомо каждому художнику, любому творцу.
Никола Бурундук (он сидит по другую сторону от меня) выглядит, наоборот, необычно тихим, задумчивым, углубленным в себя. Он читает письмо, полученное из дому, от жены, морщит лоб, беззвучно шевелит губами. Некоторые места Никола перечитывает дважды. Это те, где жена его, Варька, пишет о детях, о семье… Губы его обмякают, растягиваются в улыбке.
Он семьянин, этот старый карманник! Он любит свой дом, часто с нежностью вспоминает супругу.
История их женитьбы такова.
Когда-то в годы немецкой оккупации Бурундук промышлял на Украине, в городах Донбасса. Работал он, как правило, в трамваях и пригородных поездах. И там, на тех же путях, орудовала группа воровок, среди которых старшей была знаменитая ширмачка Варька.
Варька обладала на редкость пышными формами. У нее была непомерная грудь и обширная („в три обхвата“, как пелось в частушке), обольстительная задница. По общему признанию шпаны, Варька считалась первой красоткой на всем юге — от Донбасса до Южного полюса.
Бурундук был наслышан о ней немало. И с нетерпением, с любопытством жаждал встречи. И когда они наконец увиделись с Варькой (произошло это в Харькове, в одном из слободских притонов), он сразу же и бесповоротно влюбился в пышнотелую эту карманницу.
Он забрел тогда в притон по делу: принес местному скупщику золотые часики, снятые у немецкого офицера… Барыга хитрил, торговался, нагло сбивал цену, и Николу это начало раздражать. Он уже хотел было забрать часы и уйти, но тут появилась Варька. И, увидев ее, Никола сразу ослаб. „Ладно, — сказал он, — бери, Каин, пользуйся, но только гроши на кон! И посылай за водкой. Сегодня я хочу гулять!“
Они веселились тогда, хлестали допоздна самогонку. Потом все скопом улеглись на полу спать. Перед утром Никола очнулся, мучимый жаждой. Встал, напился и вспомнил вдруг о Варьке. Она лежала неподалеку, у стены, посапывала во сне. Он прилег к ней, пристроился… А через неделю они поженились.
Вообще-то, Никола о женитьбе поначалу не помышлял. Но все же вынужден был пойти на это. Вынужден, как джентльмен. Дело в том, что Варька, к величайшему его изумлению, оказалась целочкой.
В ней он, впрочем, не ошибся. Она стала верной женой и к тому же отличной хозяйкой. Старое ремесло она бросила, завязала, всецело занялась семьей. В шахтерском городе Горловка на одной из окраинных улиц был у Варьки дом, доставшийся ей от родителей. Там она и поселилась с Николой. У этого бродяги началась теперь новая жизнь. Чтобы обезопасить семью, он в своем городе не шкодил, старался уехать подальше. Пропадал иногда по неделям и всегда аккуратно переводил деньги домой по почте. „Клал гроши на проволоку“, по выражению блатных. Он стал на удивление бережливым и расчетливым. И друзья не случайно прозвали его Бурундуком. Зверек этот, как известно, постоянно делает всяческие запасы. И не столько съедает, сколько хранит.
В Горловке же Бурундук появлялся всегда аккуратный, чисто вымытый, в отутюженном костюмчике. Фланировал по улицам об руку с молодой женою в окружении детишек. (Варька оказалась плодовитой, как крольчиха: она рожала чуть ли не каждый год!) Когда дети подросли, Никола отдал старших в школу и время от времени заглядывал туда, терпеливо сидел на родительских собраниях, иногда даже выступал, разглагольствуя о проблемах педагогики.
„Как я есть трудящийся элемент, — рассуждал он, обращаясь к учителям, — я хочу осветить вопрос с пролетарской точки… Дети, они кто? Они цветы нашей жизни и будущие помощники“.
Вообще, в городе Никола пользовался репутацией человека степенного, положительного. Он числился работником одной из местных сапожных артелей. (Считалось, что он модельный мастер, выполняющий заказы на дому.) Никаких заказов он, естественно, не выполнял. А в случаях надобности попросту закупал необходимое количество сапог на окрестных базарах.
Артельное руководство было у него „на крючке“: регулярно получало взятки. Причитающуюся ему зарплату Никола отдавал начальнику цеха. Таким образом, никто в артели не чинил ему ни малейших помех. Что говорить, Бурундук умел находить с людьми общий язык!
Не обошел он вниманием также и городское начальство. Бургомистр (при немцах) и председатель исполкома (при Советской власти) — все они щеголяли в подаренных им сапожках.
Спокойная, размеренная жизнь продолжалась довольно долго: все годы войны и после, вплоть до 1947 года. И за это время Никола не сидел ни разу! Ловили его, конечно, частенько, но всегда в итоге выпускали. Тут ему крепко помогала Варька. Бывшая карманница, она понимала, что к чему. Она знала толк в ремесле. У нее имелись специально припрятанные деньги (несколько десятков тысяч), которые она немедленно пускала в ход, как только узнавала об аресте мужа.
Явившись к потерпевшему (у которого, скажем, был похищен кошелек с тремя червонцами), она сразу же предлагала ему в качестве компенсации пятьсот рублей. В том случае, если фрайер все же колебался, она без раздумий удваивала сумму. Перед этим устоять не мог никто! И в конце концов потерпевший отказывался от иска. Дело погашалось. Если же возникали препятствия со стороны следователей, Варька подкупала и их.
Однако все на свете имеет конец… Пришел конец и благополучию Бурундука. Как-то раз он заехал слишком далеко от дома, погорел, был взят с поличным. Тогда только что ввели новый указ; дела оформлялись быстро, судебные процедуры были предельно упрощены. И когда Варька разыскала наконец мужа — тот пребывал уже в этапной камере.
— А все-таки я везучий, — бормочет он теперь, бережно складывая Варькино письмо. — Ведь если бы не было этой бабы, разве я смог бы столько гулять по свободе? Шесть лет, ты подумай! Шесть беспечальных лет! После этого и сидеть не обидно. Вроде как старые долги отдаешь!
Напротив меня, на противоположных нарах, помещается уркаган по кличке Солома — ценитель Есенина и „старый онанист“, как он себя называет.
Он называет себя так неспроста, это онанист убежденный, опытный, профессиональный! Постель его занавешена одеялами, отгорожена от всех прочих. Там, в уединении, в полумраке Солома предается своему греху, предается упорно и вдохновенно. Занятие это в его руках обретает особый смысл, становится как бы своеобразным искусством. Здесь решающую роль играет творческая фантазия.
Обычно, прежде чем начать действовать, Солома создает в воображении красочный образ какой-нибудь женщины. Причем образ не отвлеченный, а вполне конкретный. Это может быть известная киноактриса или, например, английская королева, чей портрет он случайно видел в журнале.
Создав определенный образ, представив себе женщину во всей реальности, во плоти, он наслаждается ею, вытворяет с ней все, что хочет… А затем, пресытясь, бросает, переключается на другую. В сущности, он владеет всеми красотками мира. И меняет их беспрерывно, с небрежной легкостью. Большего ловеласа и бабника еще не существовало! По сравнению с ним Казанова — это мальчишка, жалкий дилетант.
Иногда ему, впрочем, не хватает уточняющих деталей. (Он ведь реалист, Солома, он не любит абстракций и пренебрегает модернистскими веяниями.) В таких случаях он, выглянув из-за занавески, окликает меня:
— Эй, Чума! Помнишь ту актрисочку из иностранного фильма? Там еще есть сцена с автомобилями… Пикантная такая бабенка — помнишь?
— Да не совсем, — отвечаю я. — Какая актриса? Может быть, Сара Бернар?
— Причем здесь Сара? — отмахивается он. — На кой мне это старье! Я уж и не помню, когда имел ее… Да и какие там автомобили? Нет, я о другой! Мы же с тобой о ней толковали недавно. Она вначале переодевается в мужской костюм, что-то в гараже делает, а потом появляется на балу…
— А-а-а, так вот ты о ком, — соображаю я наконец. — Ты, наверно» имеешь в виду Франческу Гааль из кинофильма «Петер».
— Да, да, — воодушевляется Солома, — вот именно, Франческа! Она на балу появляется — как?
— Ну, как положено, — пожимаю я плечами, — в платье…
— Это ясно. Но в каком платье? В белом?
— Конечно, — говорю я, — в белом! Длинном, с эдакими оборками…
— Ага, ага! — костистое, лошадиное лицо его морщится в улыбке. — Ну, порядок…
И, деловито кивнув мне, он поспешно уползает в свою конуру.
По соседству с ним и также за занавеской живет грузинский князь, известный фальшивомонетчик Серега.
Серега ищет уединения по причинам несколько иным, чем у Соломы… Тот — поэт, фантазер, этот же — человек сугубо деловой. Выдуманные образы его не удовлетворяют. Будучи лишенный женской любви, он утешается любовью мужской.
Князь любит мальчиков; он имеет целый гарем и беспрерывно пополняет свои кадры. Как только в зону прибывает новый этап, он сейчас же отправляется на разведку. Отыскивает среди новичков таких, кто помоложе и посмазливей, и вербует их.
Он не запугивает не шантажирует, он именно вербует! Ублажает мальчиков, обхаживает их, делится с ними хлебом и табачком. Потом предлагает — разумеется, тоже не бесплатно — исполнить мелкую лакейскую работу: почистить сапоги, прибрать на нарах, постелить ему, Сереге, постель… На это, естественно, идет не каждый. Но тот, кто соглашается, в результате неизбежно попадает за занавеску! Из Серегинова логова мальчики выходят полностью прирученными и преобразившимися. Меняются они с поразительной быстротой; становятся кокетливыми и плаксивыми, начинают любить украшения… Их нарекают какими-нибудь женскими именами, и существуют они в дальнейшем уже в качестве лагерных девок.
Таких вот Катек и Олек в бараке нашем немало, что-то около пятнадцати человек. Все они кормятся возле блатных и потому обслуживают их весьма старательно. Помимо прямого своего назначения они имеют также и другие обязанности: выполняют всевозможные поручения, ведают хозяйством, служат на побегушках.
Положение их в лагерном обществе — самое низкое. Они и ютятся не вместе со всеми, а внизу под нарами. Шуршат там, возятся, переругиваются визгливо. Оттуда, из-под нар, их и вызывают в случае надобности.
Однако по сравнению с простыми серыми работягами живут они сытно и выглядят нарядно; блатные с охотой приодевают их, одаривают тряпками.
Особенно много подарков перепадает им порою от Левки Жида и Ваньки Жида — от двух самых лучших наших картежников.
С Левкой Жидом — виртуозным карманником и неутомимым трепачом — я уже познакомил вас раньше. Партнер его, Ванька, нисколько с ним не схож. Прежде всего потому, что он, несмотря на кличку, вовсе не еврей. Это простой рязанский парень — широколицый, курносый, с копною белесых, соломенных кудрей. Да и профессия у него соответствующая: он сельский налетчик, лесной бандит. Как и почему досталась ему кличка Жид, неизвестно. Но никаких комплексов в связи с этим у него нет; он охотно откликается на странное это прозвище, ничуть не возражает против него. В блатном мире антисемитизма ведь не существует! По воровскому кодексу все входящие в кодлу равны между собой. (Можно представить, как этот Ванька был бы поражен и озадачен, если бы он однажды перекочевал вместе со своей кличкой из воровской среды в другую, например, в общество частных мещан и благопристойных интеллигентов!)
Рязанский этот парень, хоть и простоват с виду, славится тем не менее как тонкий и проницательный игрок. И столь же умелым картежником является Левка Жид. Ребята эти спелись отлично. Противостоять им почти невозможно. И нередко бывает так, что половина барака — после ночной игры — оказывается к утру раздетой, сидит в обезьяньем виде. Проигранные тряпки пестрой грудой возвышаются на нарах, а два Жида торжествуют победу. При этом Ванька обычно помалкивает, ухмыляется добродушно. Левка же, наоборот, резвится, ерничает, трещит без умолку.
— Эй, Катька! — зовет он, стуча по нарам каблуком. — А ну, вылазь! Встань передо мной, как лист перед травой!
Катька вылазит сразу же. Брови у нее выщипаны, глаза подведены, намазанные красным губы сложены в угодливую улыбочку. Всем своим видом она выражает готовность и беспредельную преданность.
Склонившись к ней, Левка игриво щиплет ее за щечку, а потом говорит, широким щедрым жестом указывая на груду вещей:
— Ну, дура! Выбирай! Что понравится — то твое. И не стесняйся, бери смелее. Сегодня Левка добрый! Левка гуляет!
Иногда — от нечего делать, в часы затишья — Левка и Ванька сражаются друг с другом. Хотя они и друзья и все имущество у них общее, играют они все же с азартом, по-настояшему. Играют на интерес!
Зрелище это занятное, на него стоит посмотреть! Равные по силам, они к тому же еще отлично знают друг-друга, видят насквозь, понимают с полуслова. Bсe приемы и хитрости одного изучены другим досконально! Игра поэтому идет крайне напряженная, острая. И завершается иногда ожесточенными стычками.
* * *
Я описываю здесь один день — один из многих проведенных мною на «мертвой дороге». Утро, полдень и вечер уже прошли, миновали. Над лагерем простерлась ночь… И вот как эта ночь кончается.
Затеяв между собой игру, друзья в результате начинают спорить — накаляются, переходят на колкости. А перед утром между ними вспыхивает ссора.
Разъярившись, они соскакивают с нар, что-то кричат друг другу, будят весь барак. Особенно неистовствует Левка: он нанюхался кокаину и не помнит себя. Он весь дергается, дрожит, брызжет слюною. Лицо его перекошено злобой. Добродушный Ванька на этот раз тоже возбужден чрезмерно. До такого состояния игроки еще не доходили.
— Значит, я что же, заметываю, да? — вопит Левка. — Ты можешь это точно доказать?
— Точно не могу, — огрызается его партнер, — но чувствую… Ты на все способен.
— Так ты, стало быть, не веришь мне?
— Нет.
— Ну, тогда — кончики! Ты мне больше не друг, понятно?
— Ну и ладно, — отвечает Ванька. — И о чем разговор? Как сбежались — так и разбежимся…
А потом они начинают делить все имеющееся в их распоряжении имущество. Процедура эта затягивается надолго. Вещей много, но поровну разделить их никак не удается.
Озадаченные, стоят они, разглядывая три пары сапог… Как быть? Внезапно Ваньку осеняет дельная мысль:
— Давай так сделаем, — говорит он. — Каждый возьмет себе по паре, а оставшуюся раздробим. Один — левый сапог — тебе, другой — правый — мне.
— А на кой хрен он мне — один? — резонно вопрошает Левка.
— Чтоб было все поровну, — кривится в усмешке Иван. — Ты что же думаешь, я тебе свой отдам?
— Да не нужно мне твое, — отмахивается тот. — Но и своего я тоже не уступлю.
— Ну, значит, так и сделаем.
— Но почему мне именно — левый?
— Черт с тобой, бери правый.
— Ладно. Хотя нет, погоди: у правого голенище потерто.
— Ну, тогда давай так: мне оба голенища, а тебе — головки… Идет?
— Идет!
— Вот и порядок, — говорит Иван. — Давай руби!
Левка извлекает из тайника топор. Пробует ногтем острие. И потом, хрипя и шумно выхаркивая воздух, рассекает сапоги напополам.
— Эх, кричит он, — раз уж все поровну, — давай и остальное… в лапшу… Делить так делить!
И он начинает рубить все подряд — пиджаки, рубашки, плащи. Он в трансе, в истерике. Остановить его уже невозможно. Ванька пробует вмешаться, но тут же отшатывается, отступает, хоронясь от яростного Левкиного топора.
Весь барак, пробудясь, молча следит за безумной этой работой. И облегченно вздыхает, когда Левка наконец затихает и уходит в ночь. Он уходит, пошатываясь, путаясь ногами в тряпье, волоча за собою топор, перевитый цветными лоскутьями.
Спустя недолгое время он снова появляется на пороге. Глаза бледны, расширены и недвижимы.
Он с грохотом швыряет на пол топор. И все мы видим теперь на блещущем лезвии пятна темной, запекшейся крови.
— Ребята, — вздрагивающим голосом говорит Левка. — Я сейчас завалил одного — ссученного… Прямо в ихнем бараке, на виду у всех,… Дайте-ка покурить, ребята!
— Зачем же ты так — на виду? — строго спрашивает Солома, выглядывая из своего укрытия и протягивая Левке зажженную папиросу. — Нечисто работаешь, дружок.
— Не знаю, — говорит Левка устало. — Ничего не знаю, — и он проводит по лбу ладонью. — Голова болит…
«Наследник из Калькутты»
Левку Жида взяли этой же ночью.
Ворвавшиеся в барак надзиратели скрутили его и затем, заковав в наручники, отвели в карцер.
Уходя, Левка на миг задержался в дверях, оглядел барак, обвел нас помраченным взором. Потом прощальным жестом поднял скованные руки и исчез в редеющей тьме.
Час был уже поздний, предзаревой. Сквозь приоткрытую дверь тянуло острым, молодым морозцем. Близился новый день, однако Левка до него не дожил.
Утром при раздаче завтрака дневальный карцера заглянул в Левкину камеру и обнаружил там окровавленный, еще теплый труп.
Что там в точности произошло — осталось невыясненным. Известно было лишь одно: расправились с ним свирепо, с какой-то бессмысленной жестокостью. Левка Жид был весь искромсан, глаза его вытекли, лицо превращено было в кровавое месиво, грудь и живот носили следы многочисленных ранений. Все эти сведения я получил от Левицкого; по его словам, удары были нанесены не режущим оружием, а колющим. Такие точно следы оставляет пиковина.
Я сразу заподозрил в убийстве Гуся: ведь именно с этим оружием ходил он обычно. И только он мог проникнуть снаружи в карцер: предводитель местной сучни, он пользовался доверием охраны, находился в тесном контакте с ней. Его всюду пускали беспрепятственно. А вскоре догадка моя подтвердилась. Гуся, как оказалось, видели в это самое утро возле карцера. Окруженный своими друзьями, он сидел на корточках — сгребал с травы свежий, только что выпавший снежок и оттирал им ладони и что-то бормотал, кривясь…
Да, это была личность страшная! Я испугался теперь по-настоящему. Мне окончательно стало ясно: вдвоем нам не ужиться на этом свете. И единственный выход из создавшегося положения — как можно скорее превращаться из зайца в охотника.
С этих пор я стал настойчиво преследовать Гуся, караулить его, ловить (так же, впрочем, как и он меня!). Взаимная эта охота продолжалась довольно долго.
Был случай, когда Гусь подстерег меня снова (перед вечером, возле бани), и спасся я чудом, по чистой случайности. Выручил меня внезапно пришедший этап. Заключенных погнали с дороги мыться, и Гусь, завидев приближающуюся толпу, вынужден был ретироваться.
Было также два случая, когда я сам его подлавливал — и вроде бы подлавливал удачно. Но всякий раз он выворачивался, подлец, спасался, уходил от ножа.
Последний раз я, правда, зацепил его, добавил к многочисленным его шрамам еше один — и тоже на лице. Однако утешением это было слабым. Шрам лишь украсил моего врага!
И все же он в конце концов проиграл…
К сожалению, погиб он не от моей руки. Другие люди — не я — исполнили праведное это дело. Другим — не мне — довелось испытать чувство свершенной, торжествующей мести. И что, пожалуй, самое любопытное: люди эти никак не участвовали в сучьей войне, не ввязывались в наши дела; они вообще не имели к блатным никакого отношения.
* * *
С политзаключенными я раньше почти совсем не общался и как-то мало обращал на них внимания. В моих глазах они сливались с общей арестантской массой, их жизнь шла мимо меня, находилась за краем моих интересов.
Так было на Украине, и на Колыме, и во время всех моих этапов. Поначалу так было и на пятьсот третьей стройке.
Но потом я начал сближаться с политическими, стал приглядываться к некоторым — выделять из общей массы.
Масса эта помаленьку преображалась в моих глазах, принимала конкретные черты; что-то явственно менялось в окружающем меня мире… А может быть, это я сам менялся?
Да, конечно, я менялся — становился все более взрослым, обретал другое зрение.
Тяга к серьезному творчеству неуклонно росла во мне, переполняла душу до краев. И новое это наполнение уже никак не сочеталось с привычными понятиями, со старым образом жизни. Уголовный мир все ощутимее сковывал меня, стеснял, тяготил… С некоторых пор я начал испытывать потребность в общении с иною, более разнообразной и, главное, мыслящей средой. Мне нужны были люди, сведущие в литературе и искусстве, — такие, с которыми я мог бы не только поделиться своими идеями, но и кое-что почерпнуть взамен. Я искал толковых собеседников, советчиков, знатоков. И вскоре нашел таковых. Нашел среди политзаключенных.
Одним из них был Роберт Штильмарк. Сейчас это весьма известный советский беллетрист. Перу его принадлежит несколько произведений, среди которых самым, крупным, впоследствии неоднократно переиздававшимся, является роман «Наследник из Калькутты».
Роман этот он написал, пребывая в заключении на пятьсот третьей стройке. Произошло это, в сущности, на моих глазах. И вот при каких обстоятельствах.
* * *
Вскоре после того, как Роберт Штильмарк прибыл на стройку, его вызвали в штабной барак к старшему нарядчику Василевскому.
Нарядчик этот, человек немолодой уже, грузный, с широким крестьянским лицом и белесыми, шмыгающими глазами, спросил, разглядывая лежащий перед ним на столе формуляр:
— Вот тут написано, что ты по профессии — литератор. Это верно?
— В общем, да, — ответил Роберт.
— Что значит — в общем? Ты толком говори. Ты — литератор?
— Понимаете, — начал объяснять Роберт, — я когда-то заведовал литературной частью в театре… Так что правильней было бы — литработник. В досье указано не совсем точно. Хотя в принципе…
— Но ты в этом деле-то, — перебил его нарядчик, — в этом деле-то хоть разбираешься?
— В каком деле?
— Ну, в литературном.
— Разбираюсь, конечно.
— Ага, — покивал Василевский задумчиво. — Так, так, так…
Он сидел, развалясь и насупясь, прикусив зубом папиросу, положив на стол кулаки. Какая-то мысль одолевала его… Потом, тяжело шевельнувшись, он спросил, остро поглядывая на собеседника:
— А смог ли бы ты написать что-нибудь? Взять вот — и написать, а?
— Смотря что, — поднял плечи Штильмарк.
— Ну, к примеру, роман, — медленно, осторожно сказал Василевский; слово «роман» он выговорил по-тюремному — с ударением на первом слоге. — Смог бы, а? Скажи! Только не хитри, не валяй ваньку. Учти! — он поднял палец с толстым коричневым ногтем. — Со мной хитрить не надо.
— Да зачем это вам? — изумленно и растерянно спросил тогда Штильмарк. — Какой вам прок от того, могу я или нет?
— Эх ты, лопух. Своей пользы не понимаешь, — Василевский привстал, наморщась. Мокрые, облупленные губы его вытянулись. — Да ведь если роман получится, его ведь можно и в Гулаг послать, в министерство. Иди, скажем, самому Лаврентию Павловичу… Глядишь, он и освободит за это, помилует… Чем черт не шутит!
И, выйдя из-за стола, он шагнул к Штильмарку, дохнул ему в лицо:
— Давай попробуем. На пару… а? Я тебе создам условия, а ты напишешь. Но учти. Наши имена должны быть рядом! Я тоже иду в долю. Согласен?
— Но почему вы думаете, что за это нас непременно освободят? — усомнился Штильмарк. — Насколько я знаю, литераторов в наше время не милуют. Их, наоборот, истребляют.
— Так это их — за политику, — отмахнулся нарядчик, — пущай не лезут не в свое дело! И нам это тоже ни к чему… Зачем нам политика? Можно ведь и о другом…
— О чем же?
— Ну, вообще. О жизни… И лучше всего не о нынешней, не о нашей. Ну ее к бесу, эту жизнь. Самое разлюбезное дело — старина. Взять, к примеру, что-нибудь эдакое морское, заграничное… Да вот, посмотри: у меня тут все, что надо!
Василевский разжал потный кулак и протянул Штильмарку смятую, замусоленную бумажку.
Очевидно, он уже давно таскал ее с собой: бумажка сильно поистерлась, чернильные каракули, испещряющие ее, расплылись и спутались. И пахли потом. Все же Штильмарк, вглядевшись, разобрал некоторые фразы.
Судя по ним, нарядчик подготовил целый сюжет. Тут были все атрибуты традиционной пиратской романтики: сокровища и штормы, и необитаемые острова, абордажные схватки и ночные пожарища. Имелся также похищенный младенец знатного рода. А увенчивал этот набор ручной африканский лев.
— Ты понял? — склонившись к Штильмарку, гудел нарядчик. — Понял? Тут у меня все! Тебе ничего и выдумывать не надо. Садись и шуруй.
— Откуда вы все это взяли? — подивился Роберт, возвращая заказчику бумажку.
— Из литературы, — ответил тот важно. — Я ведь третий срок сижу… Дай Бог всякому!
И тотчас же Роберт понял, о какой литературе идет речь; он знал, как делаются тюремные романы. Опытный рассказчик, он сам когда-то развлекал в своей камере шпану, создавал чудовищные смеси из Стивенсона и Габорио, Хаггарда и Буссенара. Это все он знал отлично! Но никогда не думал, что ему предложат состряпать книгу по такому именно рецепту.
Из задумчивости его вывел голос Василевского:
— Ну, так что? Решай! Или — или. Или будешь в тепле сидеть, в зоне, перышком корябать, или пойдешь на общие…
Штильмарк задумался, косясь на тусклое, обметанное стужей окно, и согласился. Идти на мороз, на общие работы не хотелось, было страшно. «Да и вообще, — подумал он, — глупо отказываться. Судьба послала мне тщеславного идиота — этим надо воспользоваться! Хочет, чтоб я корябал перышком, — что ж, покорябаю».
* * *
Корябал он долго: года два, не менее того. Сначала он попросту волынил — тянул время (арестанту ведь некуда спешить!) Затем незаметно увлекся работой, почувствовал вкус к ней, записал всерьез.
Предложенный Василевским сюжет постепенно выстроился, обрел определенные очертания. Роберт добросовестно вогнал в роман все те детали, на которых настаивал нарядчик. С одним он только не смог управиться — с ручным львом.
— Послушайте, — не раз говорил он нарядчику. — Ну, зачем он вам, этот лев? На кой черт он сдался? Давайте уберем его, вымараем.
— Ты льва не трожь, — хмурился Василевский. Раз я сказал — пусть будет… Мне этот зверь, может, дороже всего!
— Но куда я его дену?
— Придумай! На то ты и есть писатель. Неужто во всем романе не найдется ему места!
— Но где, где это место? — горячился Штильмарк. — Я ведь пишу не о джунглях. Действие развивается в основном в Испании и на территории Соединенного Королевства. Ну и еще на кораблях корсаров. Что там делать этому дурацкому льву?
После долгой и нудной борьбы нарядчику все же пришлось уступить. Льва убрали — и заменили его гигантской, небывалых размеров собакой. Этот пес явился неким компромиссом, примирившим наших «соавторов».
Вот так он и рождался, роман «Наследник из Калькутты».
Когда рукопись была закончена, ее тщательно перебелили два опытных каллиграфиста — бывшие армейские писаря. Лагерные художники сделали карандашные портреты «соавторов». Затем роман был отдан начальству — и пошел по инстанциям.
Теперь оставалось только ждать… Где-то в глубине души Роберт сознавал, что надеяться, в сущности, не на что; не такое это было сочинение, чтобы за него могли освободить! Да и вообще, подобные чудеса в лагерях не случаются. Однако мыслями своими он с «соавтором» не делился. Разочаровывать нарядчика было, ему невыгодно; он ведь жил теперь неплохо, числился во внутрилагерной обслуге. И так, в тепле, надеялся высидеть весь срок.
Но вскоре обстоятельства изменились. Штильмарк стал замечать какую-то странную перемену в Василевском. С каждым днем тот становился все более замкнутым, отчужденным, недружелюбным. Нарядчик начал как бы сторониться приятеля, избегать его. А потом произошел случай, заставивший Роберта призадуматься всерьез и о многом.
Как- то ночью он отправился к друзьям, в соседний барак. Постель свою (спал он внизу, в тени, возле печки) Роберт приготовил так, чтобы при взгляде на нее казалось, будто там лежит человек, укрывшийся с головою. Он сделал это на случай ночного обхода для обмана надзирателей. Но обманулись — как выяснилось — не только одни надзиратели…
Вернувшись перед самой зарею, Штильмарк увидел, что постель его разворочена, растерзана; одеяло проколото в нескольких местах, а тугая, набитая опилками подушка разрублена топором пополам.
Кто- то ночью покушался на него, хотел прикончить его сонного. Это было непонятно и странно. Человек мягкий, покладистый, Штильмарк общался в основном с такими же, как и сам он, — неисправимыми интеллигентами (по-лагерному их зовут Укропами Помидоровичами). Среди людей этого круга подобные приемы были не в ходу; даже те, немногие, с кем он враждовал и не ладил, они вряд ли пошли бы на такое дело! «Нет, — резонно рассудил он, — здесь замешаны иного сорта люди».
Роберт уже видел, и не раз, как уголовники расправляются друг с другом; знал он, конечно, и о сучьей войне, о жесточайшей поножовщине, охватившей преступный мир. Однако с миром этим он никак не был связан. Там у него не было ни друзей, ни врагов. За что теперь хотели его убить? И кто конкретно был в этом заинтересован?
Кому он перешел дорогу — тихий интеллигент, безобидный сочинитель романа «Наследник из Калькутты»? Пожалуй, одному только человеку: своему химерическому соавтору…
Подумав об этом, Штильмарк вдруг понял и причины тех перемен, которые произошли в их отношениях.
Нарядчику необходима была книга, и он добился этого, получил ее! Он вовсе не был таким идиотом, каким казался вначале. Он действовал расчетливо и хитро! Пока Роберт писал, он был нужен, теперь же он только мешал. Мало того, стал опасен. Соавторство превращалось отныне в соперничество. Правда о том, как создавался роман, могла в любой момент всплыть наружу. А этого Василевский допустить не мог!
Единственным надежным способом избавиться от соперника было убийство. Так, собственно, и попытался сделать Василевский, но, конечно, не сам, не своими руками. Он использовал кого-то из уголовников, нашел настоящих, профессиональных убийц.
Сыскать здесь профессионалов не составляло труда. Многолетняя яростная резня породила их во множестве, а сама ситуация, связанная с борьбой группировок, открыла широкие возможности для различных комбинаций. Никогда не вникавший в блатные дела, Штильмарк теперь заинтересовался ими. И это обстоятельство привело его в результате ко мне.
* * *
В сущности, мы оба со Штильмарком как бы шли навстречу друг другу; двигались ощупью, медленно, словно во тьме. И встретились наконец, столкнулись. И эта наша встреча была знаменательной для обоих. В особенности, пожалуй, для меня!
Книжник, эрудит, знаток и ценитель поэзии, Роберт был первым человеком, отнесшимся к моим стихам профессионально и давшим мне деловые, толковые советы. В этом смысле пользу он мне принес неоценимую.
Хотя, конечно, я тоже оказался ему полезен!
В «сучьей войне» (как и во всякой настоящей войне) враждующие стороны не только сражались, но еще и активно следили друг за другом. В нашем лагере слежка за врагом была налажено неплохо; мы имели среди сучни надежную тайную агентуру. Этим я и воспользовался.
В том бараке, где размещался Гусь, жили также и простые работяги. Один из таких вот работяг (бывший солдат, фронтовик, побывавший некогда в Бухенвальде) всей душой ненавидел сучню, находя в ней сходство с немецкими лагерными «капо»; они ведь тоже вербовались в основном из уголовников! От этих «капо» он в свое время натерпелся немало. И вообще, блатных, перешедших на сторону охраны, сотрудничавших с властями, он считал самой мерзкой, низменной категорией. К нам, к «законникам», он также не испытывал особой нежности. Но все же выделял нас, ценил — по его словам — «за чистый стиль». И, поддерживая нас в междоусобной борьбе, нередко оказывал нам ценные услуги.
Вот к нему-то я и обратился за помощью; поручил ему выяснить все подробности, связанные с ночным покушением в итээровском бараке… И уже на следующий день стало известно, что на то дело ходили два парня — Носорог и Брюнет. Причем в их компании незадолго до того побывал Василевский.
Итак, все наконец прояснилось; опасения Штильмарка подтвердились полностью!
— Что ж теперь делать? — спросил удрученно Роберт. — Василевский не даст мне покоя, это ясно! Если уж он решил от меня избавиться…
— Так надо его опередить, — сказал я, — надо постараться избавиться от него самого. Это дело несложное. Но сначала припугнем его, посмотрим, что получится.
И тут же я начал действовать. Призвал молодую шпану (на пятьсот третьей стройке я имел уже видное положение, ходил в «авторитетных»), отобрал таких, кто посмекалистей, и потолковал с ними кое о чем…
И однажды Василевский, воротясь к себе поздней ночью (он жил в небольшой дощатой пристройке возле штабного барака), увидел записку, приколотую ножом к изголовью его постели.
В записке значилось: «Негодяй! Все, что ты затеваешь, — известно. Не мельтеши, сиди тихо и не трогай приличных людей. Если что-нибудь с кем-нибудь случится по твоей вине, запомни: то же самое будет и с тобой. Ты и так уже живешь лишнее. Пощады не жди. И это тебе — первое и последнее предупреждение!»
Угроза подействовала. Нарядчик понял, что у соавтора его имеются покровители. Испугался и присмирел. Покушения больше не повторялись. Отныне Штильмарк мог жить спокойно.
Мы виделись с Робертом часто и подолгу. Он не только беседовал со мной о литературе, но еще и снабжал меня ценными книгами. (Политические ухитрялись иногда доставать их с воли.)
Среди книг, полученных мною от Штильмарка, была одна, чрезвычайно заинтересовавшая меня и впоследствии сослужившая мне добрую службу. Называлась она «Оформление и производство газеты».
Вручая мне ее, Роберт сказал, морща в улыбке сухие, запавшие щеки:
— Прочти со вниманием и запомни: тут для тебя много полезного. Выйдешь на волю, это все пригодится. И как еще пригодится!
— Ты думаешь? — усомнился я. — Не знаю, не знаю… При моей безумной жизни…
— Безумная твоя жизнь на исходе. Пойми, чудак: ты — поэт. Человек творческий. И уже созрел для дела. С блатными тебе теперь не по пути.
— Куда ж я от них денусь? — пробормотал я со вздохом. — И рад бы отойти — да не могу. Сам знаешь: у нас война…
— Так ведь война — за решеткой, — возразил он, — а я говорю о воле.
— Ну, до этого еще надо дожить!
— Постарайся, — сказал он веско.
— Ладно, — усмехнулся я. И, раскрыв книгу, затрещал страницами. — Значит, говоришь, пригодится?…
— Несомненно! Редакционной работы тебе на свободе не миновать. Журналистика — обычный путь в литературу. А здесь в этой книге содержится все необходимое для профессионального газетчика. Образцы типографских шрифтов, корректурные знаки, журналистская терминология, словом, все… Читай, учись! Постигай квалификацию загодя!
Бремя славы
Соприкоснувшись с политзаключенными, войдя в среду, окружавшую Штильмарка, я познакомился с многими интересными людьми.
Помимо Роберта был среди политических еще один, близкий к литературе человек, Сергей Иванович, профессиональный переводчик, работавший некогда в Госиздате. Имелся в этом же кругу некий искусствовед, бывший профессор Казанского университета, много и увлекательно рассказывавший о путях российского ренессанса: о творчестве Дионисия, Рублева и Феофана Грека. Был старый сибарит и эстет, знаток французской поэзии князь Оболенский (представитель особой, опальной ветви многочисленного этого рода. Предков его, декабристов и масонов, в девятнадцатом веке обильно ссылали в Сибирь. Советская власть как бы продолжила и завершила это дело, и так как ссылать князей дальше уже было некуда, — их попросту упрятали теперь за решетку). Был также и лагерный врач Константин Левицкий, тот самый, который давно уже благоволил ко мне и вообще с явной симпатией относился к блатным.
С этим Левицким я сблизился, пожалуй, прочнее всего. Он не только одаривал меня беседами, а собеседник он был блестящий, но еще и помогал мне, освобождал от работы. Был даже случай, когда он спас меня от внутрилагерной тюрьмы.
Угодил я туда случайно и как-то, в общем, нелепо. Виною всему была возросшая моя популярность среди местных блатных. Популярности этой в немалой степени способствовали стихи мои и песни. Они постепенно накопились во множестве и разошлись широко. Урки любили их, знали, распевали повсюду. Знало их и лагерное начальство. И, по сути дела, именно здесь — на пятьсот третьей стройке — я впервые обрел признание как поэт.
И тогда же уяснил я себе ту простую истину, что всякое возвышение имеет свою оборотную сторону.
В глазах чекистов я был не просто лагерным стихотворцем, нет; они видели во мне блатного идеолога, своеобразного вдохновителя уголовников. Идейного их лидера. Я представлялся им фигурой значительной и опасной, гораздо более опасной, надо признаться, чем это было в действительности! И чем заметнее становились мои творческие успехи, тем подозрительнее относилось ко мне начальство…
Я постоянно ощущал на себе неусыпное и пристальное его внимание. За мной следили с усердием и пользовались любым предлогом для того, чтобы изолировать меня, — припугнуть, покарать… В сущности, я нес теперь ответственность за любой общественный инцидент, шумок, происшествие. И расплачивался не только за свои собственные сочинения, но также и за чужие.
Есть известная песня революционной поры, которая была когда-то распространена среди питерских анархистов и матросской вольницы. Начиналась она такими строками:
Долой марксизм, долой Республику Советскую,
Долой ячейку ВКП большевиков.
Мы все надеемся на силу молодецкую,
На крепость наших песен и штыков.
Долой, долой! — кричат леса и степи,
Долой, долой! — гремит морской прибой.
Мы разломаем коммунизма цепи,
И это будет наш последний бой.
Вот эти строки кто-то, резвясь, начертал углем на белой беленой печи — в самом центре нашего барака. Надпись появилась перед ужином. А немного позже, во время вечерней поверки, разразился скандал.
Вошедший в барак надзиратель глянул мельком на злополучную эту печку, вздрогнул и остолбенел.
— Это кто ж тут поэт? — проговорил он сдавленным голосом.
Ответом ему было молчание.
— Кто поэт? — рявкнул он, багровея, наливаясь темной краской.
— Все тут поэты, — лениво отозвался из-за занавески Солома.
— Ага. Все, говоришь? Ладно…
Надзиратель умолк, постоял так с минуту. Потом, оглядев нас исподлобья, крикнул зычно:
— Дневальный!
Тотчас же к нему подскочил дневальный барака, шустрый низенький старичок.
— Слушаюсь! — он потянулся к надписи. — Стереть?
— Нет, наоборот, — сказал надзиратель строго. — Пусть останется!
— Слушаюсь.
— Стой здесь, пока меня не будет, и смотри, чтоб никто не посмел пальцем тронуть!
— Ну, а если?… А вдруг? — затрепетал старичок. — Разве ж я совладаю?
— Тогда сам ответишь за все. Ты меня понял?
— Я вас понял, — изогнулся дневальный, — слушаюсь. Буду стараться.
— Ну вот… Да ты не беспокойся, я быстро обернусь! Четверть часа спустя надзиратель уже входил в барак в сопровождении начальника режима, старшего надзирателя и кума.
Кума, очевидно, вызвали прямо из-за стола. Он что-то еще жевал, причмокивал, отдувался. Лицо его лоснилось, ворот кителя был расстегнут, шинель небрежно наброшена на плечи.
— Так, — сказал он, внимательно прочитав начертанные на печке строки. — Та-а-ак… — он резко повернулся к надзирателю. — Значит, они, говоришь, все тут поэты?
— Кто их знает? — пожал плечами надзиратель. — Не разберешь…
— Ничего, — усмехнулся опер, — разберем! Не так все это сложно… И кто здесь поэт — мы знаем. Отлично знаем. Знаем давно.
Он утер губы ребром ладони. Медленно застегнул китель. Затем позвал негромко, но отчетливо:
— Эй, Чума! Ты где там хоронишься? Или хочешь в прятки со мной играть? Теперь поздно… Вылазь давай, иди сюда. Ну! Живо!
Когда меня уводили, я уловил за своей спиною сипловатый, приглушенный голос начальника режима:
— Надо будет составить протокол: тут же явная агитация… Вот он, оказывается, какие стишки пишет!
— Да это вовсе не мои стишки, — обернулся я. — Кого хотите, спросите…
— Иди, иди! — толкнул меня в спину опер. — Помалкивай пока. Придет время — спросим. Сами спросим. Спросим с тебя за все!
* * *
Мне дали десять суток строгого карцера. И в тот же вечер я был водворен в одиночную камеру. Строгий карцерный режим — нешуточное дело! Я давно уже испытал это на себе, на собственной шкуре. За годы скитания по тюрьмам и лагерям я перевидел немало всяческих одиночек — замерзал, валялся на холодном цементном полу, получал один раз в сутки штрафную трехсотграммовую пайку хлеба и кружку воды (горячую пищу при строгом режиме дают, как правило, через два дня на третий). И теперь меня опять ожидало все это… Но самым удручающим было то обстоятельство, что наказание мое, как я понимал, не последнее; начальство не ограничится одним лишь карцером, оно постарается намотать мне новый дополнительный срок, привлечь меня к ответственности за внутрилагерную агитацию.
И если бы Левицкий вовремя не пришел ко мне на помощь, так бы все, без сомнения, и произошло!
Он появился в карцере спустя четыре дня после моего заточения. У заключенного в соседней камере случился эпилептический припадок; охране пришлось спешно вызывать врача. Я услышал смутный шум в коридоре, приник ухом к двери и различил высокий, резкий, характерный голос Левицкого (он что-то приказывал санитарам, распекал их, шпынял). Сейчас же я начал стучать, вызывать дежурного. Когда он заглянул ко мне, потребовал помощи, заявил, что я тоже болен…
Увидев меня, Левицкий ничем не выказал своего удивления; он лишь усмехнулся, поигрывая бровью. Затем деловито и быстро обследовал меня, выслушал, измерил температуру и сообщил надзирателю, что здесь, по его мнению, — случай чрезвычайно серьезный.
— Боюсь, что заболевание остроинфекционное, — сказал он, тщательно протирая руки марлей, смоченной эфиром. — Есть подозрение на сыпной тиф… Это, конечно, еще требует проверки. Но все же симптомы угрожающие.
Вот так, с диагнозом «сыпной тиф» я и попал к Левицкому в больницу.
Свирепая тоска перед рассветом
По распоряжению врача меня поместили отдельно от прочих больных — в крошечной комнате, расположенной в конце барака, возле кладовой.
В кладовке этой орудовала Валька, больничная кастелянша, разбитная, смешливая, с круглым, в ямочках, лицом и острой грудью, туго и плотно лежащей в вырезе платьица.
Застилая свежими простынями мою постель, она наклонилась низко. И я невольно напрягся, обшаривая глазами ее грудь. Заметив это, Валька сказала тягуче:
— Не пялься… Ослепнешь.
Я отвернулся, закуривая, и почувствовал на щеке теплое прикосновение ее ладони:
— Ну, что ты? Ну, что? — проговорила она мягко. — Не волнуйся…
— А я вовсе и не волнуюсь, — пробормотал я.
— Нет? — прищурилась она.
— Нет.
— Ох, беда мне с вами, — лениво усмехнулась тогда Валька. — Вечно одно и то же… Хотя, впрочем, что ж. Дело житейское.
Затем, постлав постель, она распрямилась. Осмотрела комнату, поджала губы:
— А вы с Костей, видать, ба-а-альшие друзья.
— С чего ты это взяла?
— Ну, как же! Он еще никому таких условий не предоставлял. Отдельная палата, то да се.
— Так ведь, дура, я — остроинфекционный.
— Ну, это ты другим рассказывай, — небрежно отмахнулась Валька. — Костя мне все объяснил.
И опять она легонько провела ладонью по моей щеке:
— Ложись, миленький. Если что будет нужно — я здесь, рядом… Приду.
— Даже ночью? — спросил я, жуя папиросу, жмуря глаза от дыма.
— Смотря для чего… — она медленно повела плечом.
— Как — для чего? — сказал я медленно. — Для дела.
— Ладно, спи; — она шагнула к дверям. — Там видно будет.
* * *
Поздней ночью (я уже начинал засыпать помаленьку) дверь скрипнула тихонько… И тотчас же — словно порывом ветра — сдунуло с ресниц моих сон.
«Валька!» — подумал я, садясь на постели и жадно, пристально всматриваясь в темноту.
Щелкнул выключатель, и я увидел сухую стройную фигуру Константина Левицкого.
— Я тебя разбудил? — спросил он, усаживаясь на край постели.
— Да нет, — разочарованный, я опустился на подушку. — В общем, нет… А что такое?
— Просто решил посидеть, покалякать, — он зевнул, стукнув зубами, крепко огладил пятерней лицо. — Устал, понимаешь. А вот не спится. И вообще, тоска… Это самое проклятое время — перед рассветом! Буддийские монахи называли его «час быка» — время, когда на земле безраздельно властвуют силы зла и демоны мрака.
— Вот странно, — отозвался я, — судя по литературе, самая роковая пора — это полночь. У Дюма, например, полночь — час убийств. То же и у Конан Дойля, и у других. Да и мне самому так казалось…
— Ну, для убийц, может быть, это подходит, — сказал Левицкий, — не знаю. Тебе видней… Но здесь, понимаешь ли, речь идет о другом. Не об уголовщине и вообще не о реальных вещах, а скорее — о мистических. О вещах, связанных с глубинным, подсознательным восприятием мира. Ночная тьма на человека действует угнетающе… И самые тяжкие, томительные часы — не в середине ночи, а на спаде ее. Это еще знали древние римляне. У них по этому поводу имеется отличное высказывание. Вот послушай.
И, строго подняв кверху палец, он произнес — протяжно и певуче:
— Долор игнис анте люцем… Свирепая тоска перед рассветом.
— Свирепая тоска перед рассветом, — повторил я шепотом. — Послушай, это ж ведь готовая строка!
— Что? — подался он ко мне.
— Стихотворная строчка, говорю. Чистый ямб.
— Дарю эту строчку тебе, — сказал он учтиво. — Может, вставишь ее куда-нибудь… А лучше всего — сочини на эту тему специальное стихотворение или песню, неважно, у тебя получится. Главное в том, что демоны властвуют перед самой зарею, понимаешь? Их власть не беспредельна. Рано или поздно мрак окончится, сменится светом. И чем свирепее предрассветная тоска — тем ближе освобождение…
— Ну, брат, это уже из другой области, — проговорил я. — Это какая-то политика.
— А ты, что же, чураешься политики, боишься? — медленно спросил Левицкий.
— Да нет, — я пожал плечами. — Чего мне бояться? Просто я как-то всегда был от нее в стороне…
— Это тебе так кажется, — сказал он. — От политики никто не свободен! Никто, понимаешь? Вся твоя судьба, насколько я знаю, — прямое подтверждение этому… Да и вообще, как можно быть в стороне? Вот мы с тобой — в лагере. А ведь это результат определенной внутренней политики. Вокруг нас — ночь. И демоны зла. Их много, кстати! Они командуют нами, стерегут нас, стоят на вышках… Ты понимаешь?
Левицкий коротко взглянул на меня и тут же отвел глаза, прикрылся густыми своими бровями. И я понял, ощутил, что приход его — не случаен! Я уловил это мгновенно, с острой проницательностью ночного темного бдения. Он не просто решил посидеть со мной, покалякать. Нет, он что-то задумал, у него есть ко мне какое-то дело.
— Послушай, — сказал я, вспомнив Валькины слова; мысль о ней, впрочем, не покидала меня ни на миг, — давай напрямик… Эти условия, которые ты тут мне создал, они — почему? По какой причине? Просто так — по дружбе?
— Н-ну, не только, — замялся он, — не только… Хотя, конечно, тебя я ценю высоко. И отношусь искренне, по-дружески, так же, как и к другим блатным. К настоящим, я имею в виду, к чистопородным.
— А почему, скажи мне, ты всех нас так ценишь? За что?
— Изволь, скажу, — он тяжело шевельнулся. И снова искоса, из-под бровей, глянул на меня — уколол зрачками. — Если тебе действительно интересно…
— Конечно, — ответил я. — Еще бы!
— Дело в том, — начал он, понизив голос, — что вы — блатные — представляете собой ту реальную силу…
Вдруг он поднялся, подошел к двери. Резко, рывком распахнул ее, выглянул в коридор. И затем, воротясь, усевшись подле меня:
— Ту самую силу, которая нам чрезвычайно нужна. Чрезвычайно! Без вас, боюсь, мы не сможем обойтись…
— Кто это — вы?
— Комитет сопротивления, — сказал он. — Слышал о таком?
— Н-нет…
— Ну вот. А он, тем не менее, существует. И работает весьма активно.
— Чем же он занимается?
— В данном случае — подготовкой к восстанию.
— Ого, — сказал я удивленно. — Вон вы куда хватили! Теперь я понимаю, зачем вам понадобились урки… Но, старик, по совести — это серьезно?
— Вполне, — сказал он. — Завтра ты сможешь лично в этом убедиться.
— Вы что, прямо завтра решили восстать?
— Да нет, — рассмеялся он, — до этого еще неблизко. Но завтра у нас намечено совещание, только и всего. И состоится оно здесь, в этой комнате… Комитет соберется, имей в виду, из-за тебя!
— Ты меня, значит, специально для этого тут и поместил?
— Конечно, — кивнул он, — здесь тихо, спокойно. Ты же числишься в карантине — самый удобный вариант!
— И сколько же я в этом качестве пробуду? — поинтересовался я.
— В общем-то, долго так не может продолжаться, — Левицкий наморщился, покусал губу. — Придут анализы — и все кончится… Но неделя во всяком случае у нас имеется. А за это время, надеюсь, мы решим все проблемы!
* * *
Подпольный комитет (в составе пяти человек) собрался точно в назначенный срок: вечером следующего дня. К немалому моему удивлению, здесь оказались знакомые мне лица: я встретился с Сергеем Ивановичем, бывшим работником Госиздата, а также с князем Оболенским.
— Князь, — сказал я. — Вот уж не думал, что встречу здесь вас! Вы — человек нежный… Зачем вам эта наша подпольная суета?
— Вы, бесспорно, правы, голубчик, — улыбнулся князь и посмотрел на меня сверху вниз, с высоты великолепного своего двухметрового роста. — Но ведь не могу же я, согласитесь, нарушать фамильные традиции! На Руси, сколько я знаю, не было ни одного более или менее пристойного подполья, в котором бы не участвовали мои предки… Так что «суетный» этот путь завещан мне издревле. Но, конечно, — тут же добавил он, — лепта моя здесь невелика… Я ведь уже не боец — не те года. Я всего лишь скромный статист: составляю списки, веду протоколы.
«Какие еще, черт возьми, протоколы?» — вскользь подумал я, но сейчас же забыл об этом, отвлекся, заговорил с другими.
Один из них Борода (таково было прозвище этого человека, к нему никто иначе не обращался, и я буду его называть так же) был уже в немалых летах. Шишковатый, стриженый его череп, брови и борода — все было сплошь осыпано сединою. Однако выглядел он еще весьма крепким. В его повадке, в манере держаться и говорить отчетливо угадывался кадровый военный… Как я вскоре выяснил, Борода служил в годы войны в артиллерии, имел чин полковника. Где-то на юге был ранен, попал в плен. Затем переметнулся к Власову и пробыл во власовских войсках до самого конца войны — до того момента, когда англичане вновь передали его советским властям.
Его товарищ — бывший балтийский моряк, зенитчик, старшина орудийного расчета — никогда ни в каком плену не бывал, честно отслужил всю войну на флоте, был дважды ранен и четырежды награжден, и тем не менее он также не уберегся от тюрьмы. Накануне Дня Победы он был арестован по доносу за антисоветские настроения и получил такой же в точности срок, что и полковник. Закон их таким образом уравнял, а суровая арестантская судьба свела и сблизила.
В лагере они были неразлучны: работали в одной бригаде, ходили всегда вместе. И здесь, на собрании, они тоже сидели бок о бок: седой приземистый Борода и огромный неразговорчивый парень (звали его Витя) с выпуклой костистой грудью, по-обезьяньи длинными руками и непомерно маленькой головой.
Здороваясь со мной, Витя усмехнулся, оскалив крупные, плоские, голубоватые зубы, и молча стиснул мне руку — так, что у меня на мгновение потемнело в глазах.
Борода же осмотрел меня, окинул оценивающим взглядом и затем сказал, косясь на Левицкого:
— Так вот он каков, этот Махно!
— Почему — Махно? — удивился я.
— Ну, как же, — прищурился Борода, — ваши роли сходятся… Неужто вы не чувствуете? Вы сейчас выступаете в том же качестве, что и батька Махно, когда он еще ладил с большевиками! В штабе южного фронта Махно представлял своих бандитов так же, в сущности, как и вы сейчас в нашем штабе свою шпану.
— Пожалуй, — согласился Левицкий, — разница только в масштабах…
— Зато пропорции те же, — быстро ответил Борода, — соотношение сил примерно одинаковое.
Он помедлил, прикуривая. И потом, разбивая рукою дым:
— Кстати, о соотношении сил… Не пора ли нам перейти к делу? Нерешенных вопросов множество, а время ведь не ждет. Надо окончательно и точно распределить участки; тут у нас постоянно какая-то путаница… Но это после. А сейчас — в связи с появлением нового товарища…
— Батьки Махно, — хохотнул кто-то.
— Погодите, — сказал я. — Все-таки, друзья мои, я не Махно. Прежде всего потому, что у блатных — в отличие от махновцев — нет и не было никаких атаманов. Ну и вообще… Как-то неловко. Меня же никто не уполномачивал.
— Атаманов у вас, может, и нет, — перебил меня Сергей Иванович, — но все же имеется какое-то руководство, некий высший совет… Ведь так?
— Так, — согласился я.
— И вы, как я понимаю, — оттуда?
— Н-ну, допустим… В какой-то мере.
— Не скромничай, мой милый, — похлопал меня по плечу Левицкий, — не прибедняйся. И помни: никаких особых полномочий в данном случае не требуется. Просто наш комитет решил войти в контакт с уголовниками. И собрались мы здесь для того, чтобы с тобой познакомиться, спросить тебя кое о чем. И заодно — разъяснить ситуацию.
— Так разъясните, — сказал я. — Каковы конкретно ваши цели? Сколько вас? На что вы рассчитываете?
— Ну, цель у нас одна, — заговорил негромко Левицкий. И в этот момент внезапно поднялся Витя.
— Стоп, — сказал он (у него оказался низкий, глуховатый, с надсадною хрипотцою голос), — повремени!
— Что такое? — недоуменно поворотился к нему Левицкий.
— Ты вот начал — о наших целях… Начистоту… А надо ли? — Витя повел в мою сторону бровью. — Ты за него ручаешься? Твердо ручаешься?
— Ах, вот в чем дело, — сказал Левицкий и улыбнулся скупо. — Не беспокойся. Тут все чисто. Он уже давно под нашим наблюдением. Просвечен насквозь — как под рентгеном!
«Ай да Костя, ай да безобидный фрайер, — подумал я. — Вот они каковы эти ценители поэзии! Я-то, дурак, полагал, что их стихи мои интересуют, а они, оказывается, меня просто-напросто проверяли, просвечивали… Ну, ловкачи!»
— Что ж, коли так, — пробормотал, замявшись, Витя.
— Да садись ты, — досадливо и нетерпеливо дернул его за рукав Борода, — не маячь. И вообще никогда не выскакивай без толку!
Морячок послушно сел, подался в угол. Левицкий проговорил, твердо глядя мне в глаза:
— Да, да, дружище. Не удивляйся. Конечно, мы тебя проверяли — и еще как! Но ведь ты же сам знаком с правилами конспирации — должен понимать… Тем более что речь идет о таком деле.
То, что я услышал затем, повергло меня в немалое удивление. Подпольная повстанческая организация, как оказалось, действовала на пятьсот третьей стройке уже довольно давно и охватывала все почти местные лагпункты. Мало того, связанные с сопротивлением люди имелись в Игарке и даже в далеком Норильске. Где-то там, на Крайнем Севере, находился и центральный штаб. Восстание должно было подняться одновременно во всех концах трассы по сигналу, данному с воли. Для этой цели существовали специальные «вольные» связные, особо законспирированные, набранные из числа ссыльнопоселенцев, которые в здешних краях обитали во множестве. Они держали постоянный контакт с центром заговора и обеспечивали периферию необходимой информацией, а иногда даже и оружием.
— Вот так, — сказал в заключение Левицкий, — такова общая картина. Конечно — вкратце, в основных чертах… Но ведь детали, я надеюсь, тебе и не надобны?
— Разумеется, — ответил я. — Зачем они мне? Одно только непонятно: почему центр расположен так далеко? Это же осложняет…
— Да просто потому, что конечная наша цель — захват Норильской радиостанции, — медленно, веско выговорил Левицкий. — Прорвемся в эфир, свяжемся с Америкой, с Западом…
— Вы думаете, что вас кто-нибудь поддержит? — улыбнулся я. — Эх, братцы… Очевидно, вы незнакомы с историей лагерей.
И тут же я, стараясь быть предельно кратким, рассказал собравшимся о знаменитом Соловецком Бунте; о массовом побеге заключенных с островов и о том, как норвежцы выдали беглецов — вернули их под конвоем обратно. Сообщил я также о восстаниях на Воркуте и в Соликамске. Кое-кто рассчитывал тогда на поддержку местного туземного населения… Однако расчеты бунтовщиков не оправдались. Туземцы предали их. И в результате оба эти восстания были подавлены.
— Так что же вы предлагаете? — спросил после минутного молчания Борода. — По-вашему выходит, что всякая борьба обречена… Что надо сложить оружие… Вы к этому клоните?
— Вовсе нет, — ответил я, — да теперь оружие складывать и нельзя — бесполезно. Вы всё равно уже сунули голову в петлю… Так что надо действовать! Но не тешьтесь иллюзиями. Вот к чему я клоню! Вас никто не поддержит со стороны. Рассчитывать нужно только на себя, на свои силы. И думать в первую очередь следует не об этой дурацкой радиостанции, а просто о том, как бы уйти подальше. Знаете поговорку: «Самое главное — вовремя смыться…»
— Ну, ты, брат, рассуждаешь как профессиональный блатарь, — сказал, покрутив головой, Левицкий.
— А я и есть блатарь! Как же еще я могу рассуждать? И если мне позволено говорить от имени шпаны, то хочу вас сразу же заверить: мы, конечно, поможем. Переколоть охрану, взять зону — это пожалуйста… Но потом пути наши разойдутся.
— Что значит разойдутся? — резко спросил Левицкий. — Когда это — потом?
— Ну, после резни, после того, как будет ликвидирована охрана. Вы, вероятно, собираетесь оставаться здесь, держать оборону… А уркам это ни к чему. Восстание для них не самоцель, а единственный, кратчайший путь к свободе. Понимаешь, старик? К свободе, к бегству! Ради этого они пойдут на все, тут уж я могу выдать любые гарантии.
— Любые? — спросил, сужая глаза, Сергей Иванович.
— В общем, да, — ответил я. — Ради Бога, не ловите меня на словах! В принципе я знаю психологию блатных. Хотя, конечно, могу и ошибиться кое в чем… Но как бы то ни было, большая часть моих ребятишек согласится, я уверен.
— А позвольте уточнить, — подал голос Борода. — В переводе на язык чисел — большая часть — это будет сколько? Ну хотя бы ориентировочно.
— Человек шестьдесят, — ответил я, поразмыслив, — может быть, чуть побольше… Надо учесть, что около блатных постоянно трется всякая мелочь — пацаны, молодое хулиганье, различные шкодники. У нас их называют «жучками». Есть еще и другая категория: шестерки, девки… Но эти не в счет. А вот жучки — активная сила. И весьма многочисленная. О них нельзя забывать.
— Та-а-к, — процедил Борода. — Значит, вместе с этими жучками будет, скажем, что-то около сотни… Верно?
— Считайте — восемьдесят, — отозвался я. — Тут уж все наверняка.
— Но это же роскошно!
Борода широко ухмыльнулся, дымя папиросой, распустив по лицу морщины. Шибко потер ладонью темя и затем крикнул:
— Отметьте, князь: восемьдесят человек — против вахты. Слева, не забудьте, слева! Группа ЦРМ теперь сможет полностью сосредоточиться на западном участке.
Я посмотрел на Оболенского. Во все время общего нашего разговора он смирно сидел в углу, шурша там бумагами. Я как-то забыл о нем, упустил его из виду. И теперь вдруг с беспокойством и тревогой заметил, что он пишет что-то. Все время пишет. Пишет без остановки!
— Вы что же это, князь, — спросил я, — в самом деле ведете протокол?
— Ну да, голубчик, — он поднял на меня голубоватые, выцветшие, невинные свои глаза. — Ну да. И, кстати, мне хотелось бы выяснить… Восемьдесят человек — группа немалая. Перечислять поименно всех не стоит, конечно. Но все же надо отметить некоторых — самых главных, ведущих. Ведь не один же вы будете возглавлять операцию!
— А я у вас, значит, уже записан?
— Конечно. Под литерой «у» — уголовник.
— О Господи, — простонал я. — С кем я связался? — и, шагнув к Оболенскому, склонившись над ним, я гневно сказал: — Вычеркните мое имя. Слышите? Вычеркните немедленно!
— Но как же так? — растерянно забормотал князь. — Общий порядок…
— Плевать мне на общий порядок!
— Но позвольте, позвольте, — загорячился Сергей Иванович. — Хочу заметить, что этот порядок существует давно. Он выработан всей практикой великого русского революционного подполья. Вы, молодой человек, существо стихийное. А мы руководствуемся достойными образцами… Да-с, — закончил он фальцетом, — образцами!
— Не знаю, чем вы руководствуетесь, — пожал я плечами, — но, по-моему, вы все тут сошли с ума! Я же говорил, что вы суете голову в петлю. Сказано это было образно, метафорически… Однако теперь я эту самую петлю вижу вполне конкретно. Вы представляете, что произойдет, если все ваши протоколы и списки попадут в чужие руки?
— Ну, надеюсь, этого не случится, — хмуро усмехнулся Левицкий.
— Я тоже надеюсь, — на мгновение я замолк, умеряя дыхание, стараясь справиться с раздражением. — Но все же имейте в виду: никаких имен я вам не дам! И мое имя тоже уберите, вычеркните, прошу вас… Нет, не прошу — настаиваю! Иначе мы не столкуемся.
— Ну, хорошо, хорошо, — Борода примирительным жестом поднял обе ладони. — Никаких имен не будет.
— Но как-то все-таки надо же их обозначить, — задумчиво протянул Сергей Иванович.
— Так придумайте, черт возьми, какой-нибудь шифр, — сказал я, — оперируйте цифрами что ли… Не знаю, я не специалист, я существо стихийное.
— А что, можно и так, — согласно кивнул Левицкий. — Чтоб мальчик не нервничал.
Он опустил густые клочковатые брови, покусал губу.
— В твоей группе — по идее — восемьдесят человек? — погодя спросил он меня. — Ну вот. Пусть она значится как восьмерка. Против этой цифры ты не возражаешь?
— Что ж, — сказал я, — пусть…
— Ну и ты сам пойдешь под этим же кодом. Согласен?
— Ладно.
— А не слишком ли много мы с ним возимся? — послышался вдруг медленный Витин басок. — Уламываем, как девку. Никак ублажить не можем. То того ему подай, то этого… Противно глядеть!
Я живо повернулся на его голос. Но ответить не успел. В разговор включился Оболенский:
— Кстати, у меня вопрос к нашему молодому коллеге. В блатном жаргоне, если я не ошибаюсь, тоже ведь имеется некая цифровая символика?
— В общем, да, имеется, — сказал я. — Слово «шестерить», например, означает прислуживать, лакействовать. А «восьмерить» — лукавить, хитрить, изворачиваться.
— Так в чем же дело? — засмеялся Левицкий. — Все таким образом совпадает… Для тебя и твоей группы данная цифра подходит как нельзя более точно.
— В чем же это ты усматриваешь мою хитрость?
— Да я вовсе не имею в виду лично тебя… Я говорю о хитрости кастовой, типовой, присущей всем вообще уголовникам. Вы же ведь преследуете только свои интересы.
— Каждый преследует свои интересы, — я устало махнул рукой. — У одних интересы кастовые, у других — партийные… Какая, в сущности, разница?
Снегопад
Мы толковали и спорили в тот вечер допоздна, до самого отбоя. И еще несколько раз собрались у меня подпольщики — обсуждали детали, разрабатывали план действий. Сроки восстания были, судя по всему, близки: предполагалось, что оно начнется где-то в середине зимы. А уже стоял декабрь — последний, сумрачный месяц 1950 года.
Как- то поздним вечером я вышел на двор по нужде. Я был разгорячен и взбудоражен (успел опять повздорить с Витей) и теперь, остывая, стоя на углу барака, с наслаждением вдыхал свежие хмельные запахи зимы.
Я стоял, подставляя лицо крупным снежинкам. Они сеялись из мутной, дышащей холодом мглы, вращались, искрясь, и густо повисали на моих ресницах. И, проникая за воротник, щекотно таяли там, обдавая тело ознобом.
Внезапно за углом послышался странный шорох. Скрипнул снег, словно бы кто-то переминался там. Потом, описав в темноте полукруг, коротко сверкнула и погасла, шипя, кем-то брошенная цигарка.
Там, на задней торцевой стене барака помещались два окна — мое и Валькино… «Может, это к ней кто-нибудь похаживает втихую, — усмехнулся я, но сейчас же сообразил, что окна тут заперты наглухо, зимние, с двойными рамами. — Да и Валька-то, — вспомнилось мне, — Валька-то сейчас не у себя в кладовке, а в общих палатах. Помогает разносить лекарства, делать процедуры. Нет, человек этот пасется здесь не ради нее!»
При этой мысли у меня вздрогнуло сердце; что-то в нем словно бы оборвалось…
Я выглянул из-за угла и различил в косых снегопадных струях низкую квадратную мужскую фигуру. И хотя мужчина стоял вполоборота ко мне, прильнув к окошку (не к Валькиному — к моему), и лица его я полностью не видел, я сразу же узнал Гуся.
Это был он, мой заклятый враг! Я распознал бы его в кромешной тьме, с закрытыми глазами. Угадал бы инстинктивно — всеми нервами своими, кровью, глубинным и безошибочным чутьем.
Прислонясь к стене, уцепившись ногтями за оконную раму, Гусь осторожно заглядывал в комнату. Он явно кого-то выслеживал. Кого? Может быть, лично меня? Или, может, всех нас, всю эту компанию? Скорей всего, он пришел по мою душу и случайно наткнулся на шумное наше сборище… Сквозь радужные, поросшие ледяною коростой стекла невнятно и глухо сочились голоса, долетали обрывки слов. И он ловил их, привстав на цыпочки, вытянув шею. Он даже сдвинул набок меховую шапку, чтоб лучше слышать.
Я не знал, сколько времени он торчит здесь, что именно успел он разглядеть и подслушать, но одно мне стало ясно: мы — под угрозой провала.
Воротившись в больницу, я стремительно ринулся к моей двери — уже прикоснулся к ней, хотел было отворить… И сейчас же отвел руку, замер. Появляться в комнате било рискованно: ведь за всем, что там происходило, наблюдал снаружи Гусь!
В этот момент в глубине коридора раздался Валькин голос. С кем-то она переговаривалась, хихикая. «Вот кто мне нужен!» — понял я и окликнул се негромко.
Валька была баба своя, надежная. Левицкого она боготворила, слушалась беспрекословно, ну а меня жалела. (И частенько наведывалась ко мне по ночам…)
— Слушай, — сказал я, — слушай, милая, внимательно. Сейчас ты войдешь в мою палату и вызовешь Костю. Найди какой-нибудь предлог. Скажи, например, что его вызывают больные… Словом, придумай что-нибудь! Мне надо срочно с ним поговорить. И главное — здесь. И тихо, без суеты.
— Хорошо, — сказала она. Моргнула растерянно и сразу посерьезнела. — Хорошо. Я — мигом.
Она скрылась за дверью. И почти тотчас же вернулась — уже вдвоем с Левицким.
— Ты чего тут околачиваешься? — удивится тот, увидев меня. — Тебя все ждут…
— Значит, есть причина, — ответил я. И повернулся к Вальке. — Иди пока, милая, иди. — И затем, когда мы остались с Костей вдвоем, сказал: — Боюсь, старик, нам всем хана… Ты знаешь, что за нами следят?!
— Как? Кто? — спросил, темнея лицом, Левицкий. Он цепко ухватил меня за ворот халата, притянул к себе, засопел, раздувая ноздри. — Кто следит? Ты шутишь?
— Какие, к черту, шутки! Я сейчас на улице засек стукача. Прямо под нашим окном. Причем я этого типа знаю, личность серьезная…
Я коротко объяснил Левицкому, кто таков Гусь, и добавил, сокрушенно разведя руками:
— Главное дело, у меня — как назло — ничего нет при себе: ни пера, ни пиковины. Я голенький; попал сюда ведь прямо из карцера. А Гуся выпускать живым нельзя! Послушай, старик, может, у тебя или у твоих ребят есть какой-нибудь инструмент, а? Дайте мне хоть на время, взаймы… Я все сделаю чисто.
— Нет, постой. Попробуем другой вариант, — хрипло выговорил Левицкий. — В данный момент самое важное — придержать здесь Гуся, увлечь его чем-нибудь, заинтересовать, чтобы он, упаси Бог, не ушел… И ты как раз послужишь приманкой!
— Это каким же образом?
— Войди сейчас в палату — спокойненько, как ни в чем не бывало. И заговори именно о нем, причем громко, отчетливо, так, чтобы Гусь наверняка услышал. Это его, конечно, заинтересует. Ну, а насчет остального — не беспокойся. Мы сами все провернем! Кстати, шепни мимоходом Вите: пусть он явится сюда, ко мне.
— Так ты хочешь, чтобы — Витя?…
— Какая тебе разница? — Левицкий поджал в усмешечке губы. — У тебя есть своя роль — вот и играй ее. Хорошо играй! От этого зависит многое. А Витя — что ж. Между прочим, этот Витя подковы гнет, как картонные, зубами гвозди перекусывает. Ему никакой инструмент и не надобен. Что вообще ты знаешь, дитя, о наших людях? Мы обычно мелким террором не промышляем. Но если уж подопрет…
Стремительный этот диалог занял не более минуты. Затем я начал играть свою роль: ввалился в комнату, стал у окна и шумно принялся разглагольствовать, понося сучню и поминая ее предводителя… Неожиданная эта речь привела собравшихся в изумление. Оболенский отложил перо; брови его полезли вверх, рот округлился растерянно. Борода поднял плечи и так застыл, не сводя с меня прищуренных глаз. А Сергей Иванович спросил, запинаясь и беспокойно вертясь:
— Что это? О чем? Позвольте, позвольте….
Меня несло. Я болтал без умолку. Я вопил и жестикулировал, исполненный мрачного вдохновения. И все время украдкою, искоса поглядывал в окошко.
Дымная полоса света падала из окна на снег и окрашивала его тепло и мягко. Освещенный участок был невелик и как бы заштрихован снегопадными хлопьями. И все же сквозь зыбкую эту голубоватую сеточку он просматривался неплохо. Он отчетливо проступал из мглы, и я видел: Гусь здесь! Он прикован к окну. Он слушает мои слова, слушает неотрывно.
Я видел не самого Гуся, а всего, лишь тень его; корявая, густо-лиловая, она перечеркивала световой квадрат, подрагивала и шевелилась слабо.
Потом что-то случилось; тень метнулась в сторону. Сейчас же рядом с ней обозначилась еще одна… Обе эти тени схлестнулись, сплавились, переплелись. Они обратились теперь в одно бесформенное пятно. Какое-то время пятно казалось застывшим, недвижимым. Вдруг оно уменьшилось, распалось. И в следующее мгновение возникло за окошком и вплотную приблизилось к морозному стеклу Витино лицо.
Витя стукнул ногтем в раму, мигнул мне и оскалился, раздвигая сухие тонкие губы.
Тогда я сказал, стирая со лба испарину и глядя на онемевших заговорщиков:
— Финита ля комедия. Тикайте, братцы! Рассасывайтесь по одному!
* * *
Событие это вызвало среди членов комитета переполох. Было тотчас же решено прекратить на время всякие сборища. Люди разошлись торопливо. А затем мы с Левицким отправились на место схватки.
Гусь был задушен — и хорошо задушен! Осмотрев его, Левицкий проговорил, мотнув головой:
— Постарался наш морячок. Мастер — ничего не скажешь! Обрати внимание: он сломал ему не только горло, но и шейные позвонки. Парализовал с ходу.
Я сказал, склонясь над убитым:
— Одно только обидно: кончил его Витя, чужой человек, а не я.
— Ну, ты бы так, мой милый, и не смог.
— Нечего, как-нибудь справился бы все же… Это ж ведь моя добыча, понимаешь? Лично моя! Мой куш! Я за ним больше года охотился. А получилось как-то не так, вроде бы не по правилам.
— Черт знает, какую чепуху ты городишь! — усмехнулся Левицкий. — Ну, если для тебя так важно, сними с него скальп! Все-таки утешение. Но торопись: через полчаса будет проверка, — при этих словах он помрачнел, усмешка слиняла, сошла с его губ. — Гуся наверняка хватятся, станут искать… И не дай Бог, если его найдут в этом месте, на больничной территории… Надо его куда-нибудь пристроить. Только вот куда?
— Послушай, — быстро сказал я, — здесь же ведь рядом баня. А возле нее — большая поленница дров. Спрячем в дрова — и все дела! Присыплем сверху снежком…
— Пожалуй, — согласился Левицкий. — Это идея. Ну, а снежком не надобно. Без нас присыплет. Ты гляди, какой буран разыгрывается!
Погода действительно ухудшилась. Снег валил теперь плотной массой, и это было нам на руку: мы могли действовать спокойно, не опасаясь сторонних глаз…
Оттащив убитого к бане, мы вернулись крадучись в больницу. И только я успел раздеться и юркнуть в постель — донесся дальний тягучий звон: сигнал вечерней проверки.
Ночью ко мне вошел Левицкий. Грузно уселся на постели, закурил, кутаясь в дым. Сказал, позевывая:
— Час назад я беседовал с кумом. Он, понимаешь ли, питает ко мне доверие. Я ведь пользую его жену: даю этой истеричке всякие лекарства. Ну, вот, — Левицкий шевельнулся, умащиваясь поудобнее. — Потолковали. Он сообщил мне, что найден труп Гуся и очень огорчался потерей столь ценного для него человека. Причем — и это самое забавное! — подозрение падает не на блатных, как можно было бы ожидать, а на парня из ихней же компании. Оказывается, при бане работает, колет дрова, один из ссученных. Когда-то у него с Гусем была ссора… Опер знал об этом и теперь решил, что здесь сведение личных счетов. Парня взяли, будут заводить на него дело. Кум назвал мне его кличку. Только я запамятовал… — Костя наморщился, жуя папиросу, катая ее в зубах. — Нелепая какая-то кличка, экзотическая…
— Может быть, Носорог? — предположил я, безучастно разглядывая облупленную краску на потолке.
— Вот, вот. Именно! Но постой… Ты знал, что он там работает?
— Н-ну, в общем, да… А что?
— Стало быть, ты вспомнил тогда о дровах неспроста? Затеял все с расчетом?
— А какая тебе разница? — отозвался я, повторяя его же, Костины, недавние слова. — У тебя есть своя роль — вот и играй ее. А я играю свою.
— Ну, ты фрукт, — медленно проговорил он. — Объясни мне, пожалуйста: откуда у тебя, простого советского мальчика, такая склонность к блатной интриге?
— Эх, Костя, — сказал я. — Если зайца долго бить по голове — он спички зажигать научится.
— Да, да, разумеется, — пробормотал он. — И вообще, если вдуматься, не такой уж ты советский и не такой простой…
Тогда я спросил — уже с явным интересом:
— Кто же я по-твоему?
— Так сразу и не определишь. Слишком много в тебе перемешано. Конечно, ты — личность темная…
— Но, но, — сказал я, — не зарывайся, старик!
— Ну, подумай сам, — сказал Костя, — кто ты? Бродяга, авантюрист, один из руководителей воровской кодлы… Хотя, с другой стороны, в тебе чувствуется интеллигентность и талант. Ты, бесспорно, человек творческий. И если взять все вместе, получается весьма любопытный букет! А впрочем, что ж, — он легонько потрепал меня по колену. — Как бы то ни было, в тебе мы не ошиблись, ты годишься. Нам нужны люди с характером и с творческой фантазией. А ты именно таков. Со своими врагами ты умеешь расправляться мастерски! Взять хотя бы нынешний случай…
— Кстати, — заметил я, — этот Носорог не только мой враг, он еще враг общего нашего друга — автора романа «Наследник из Калькутты». Это ведь он когда-то покушался на Штильмарка! Так что сообщи Роберту при встрече: ему, наверное, будет приятно узнать.
— Вряд ли мне это удастся, — сказал Левицкий, сминая окурок. — Роберта уже нет…
— Как, то есть, нет? — я привстал, опираясь на локоть. — Что с ним?
— Угнали на этап.
— Когда?
— Позавчера. Я думал, ты в курсе…
— Что ж это он, — проговорил я с обидой, — даже не зашел проститься…
— Он вообще ни с кем проститься не успел. Все произошло неожиданно. И как-то очень быстро. Его вызвали из столовой во время завтрака, отвели на вахту, и оттуда он больше уже не вернулся. Даже вещи не дали забрать, — за ними потом прибегал в барак надзиратель.
— И куда угнали — не знаешь?
— Говорят, на какой-то штрафняк.
— Тут наверняка замешан Василевский, — заключил я мрачно. — Ему же необходимо избавиться от соперника, вот он и изощряется, гад ползучий! Убить — не вышло. Теперь он спихивает Роберта в омут, к штрафникам… Старший нарядчик многое может! Если б он узнал, что это я тогда выручал Штильмарка, он бы и ко мне ключи подобрал. Тем более что сейчас это нетрудно: судьба моя — на волоске. Опер, как ты знаешь, обвиняет меня в агитации…
— Да, кстати, — сказал Левицкий, — мы с кумом и об этом толковали, — он поднялся, потягиваясь, хрустнул суставами. — Кум на сей раз торчал у меня долго, был весь какой-то нервный, рассеянный. Начнет про одно — перескочит на другое… Вспомнил неожиданно о тебе — поинтересовался твоим состоянием.
— Заботливый кум, — проворчал я. — Может, он что-нибудь чует? Угадывает?
— Н-не знаю. Во всяком случае, ты его сильно интересуешь. И ты сам, и твои песни. О песнях мы как раз и говорили — в частности, о той, из-за которой тебя повязали…
Левицкий смолк, сморщил губы от сдерживаемой улыбки. Я сказал нетерпеливо:
— Ну и что же? Не томи, старик!
— Я обратил внимание кума на одну весьма существенную деталь. В той песне говорится о «ячейке ВКП большевиков» — ведь так? Ну, вот… Я резонно заметил, что это выражение устарелое, характерное лишь для дореволюционной поры. В наше время никто уже так о партии не говорит. И это неопровержимо доказывает, что автором данного текста не может быть такой зеленый юнец, как ты…
— Послушай, Костя, — сказал я растроганно. — Видит Бог, я твой должник навеки. Чем мне отплатить тебе за все?
— Ах, оставь, какие между нами могут быть счеты! — махнул он рукой и повернулся к дверям. — Будь верен общей нашей идее. Это самое важное. Ну, правда, если меня завтра выгонят, — он задержался на пороге, бегло глянул на меня через плечо, — если я потеряю в глазах начальства весь свой авторитет, тогда…
И тут я спросил, словно выстрелил ему в спину:
— А скажи, старик, откуда у тебя такой авторитет? На чем он держится? Кто ты?
— Врач, — сказал он, — кто же еще? Доктор медицины.
— Где же ты раньше работал?
— В германском армейском госпитале, — произнес он отчетливой скороговоркой.
— Всю войну?
— Нет, в самом конце… Ну-с, а первые годы служил в разных местах, в Восточной Пруссии. Прошел выучку у отличных профессоров! С пруссаками у меня связь кровная…
— Так ты что ли немец?
— Нет, — ответил он. — Не совсем… Я родом из Минска. Отец мой весьма известный минский хирург. А мать, это верно, — из старой прусской фамилии. Впрочем, предки ее перекочевали на восток два века тому назад и успели основательно обрусеть.
— Вот оно что! — протянул я. — И где ж ты служил в Пруссии?
— Неважно, — дернул он углом рта. — Какая тебе разница? Школу я во всяком случае прошел хорошую.
Костя стоял, топчась у порога, теребя дверную рукоять. Пальцы его подрагивали, трепетали: разговор этот, видимо, начинал его тяготить. Вдруг он шагнул ко мне, склонил худое, бровастое, остроугольное свое лицо:
— Я, мой милый, специалист известный, опытный… И если могу погореть, то только из-за таких, как ты.
— То есть?
— Думаешь, я тебя первого кладу в стационар с идиотским диагнозом? А скольких приходится освобождать от работы под разными предлогами — ого! Сосчитать трудно. Удивляюсь, как меня до сих пор не вышибли… Одно только пока и спасает: наивная вера чекистов в могущество немецкой медицины. Они ведь — поразительная вещь! — к своим, к вольнонаемным медикам почти не ходят; обращаются в основном ко мне…
В эту ночь я долго не мог уснуть — ворочался в постели, курил. Было тихо в больнице, лишь заунывно подрагивали и дребезжали стекла; буран все заметнее крепнул, свирепел. Снег падал уже не отвесно, а наискось. Стремительный и белесый, он походил на вспененную воду, на бешено летящий поток. Он плескался в окна, со свистом пронизывал ночь, клубился и затоплял округу. Темнота была теперь непроницаемой и грозной. И опять невольно вспомнилось мне: «Свирепая тоска перед рассветом»…
И, потянувшись к лежавшей на тумбочке тетрадке, я торопливо, кроша карандаш, записал первые, едва родившиеся, еще рыхловатые, еще теплые строки:
«Свирепая тоска перед рассветом. Ни звезд, ни зги — средь снежной кутерьмы… А впрочем, может, есть свой смысл и в этом: ведь день всегда рождается из тьмы!»
Ночная стрельба
Вскоре я выписался из больницы и вернулся к блатным, в привычное свое окружение.
Пока я отсутствовал, здесь произошли кое-какие перемены. Появились новые лица, ушли на этап Ванька Жид, Профессор и грузинский князь, любитель мальчиков. Их отправили вместе с Штильмарком куда-то на Крайний Север. Но поистине потрясло меня происшествие, случившееся с другом моим, донбасским карманником Николой Бурундуком — с тем самым, женою которого была легендарная красотка Варька. Женитьба на ней принесла ему удачу. Шесть беспечальных лет провел Никола на воле — и умилялся, вспоминая о них… Но однажды об этом возник разговор среди новых, недавно прибывших урок. И на общей сходке, на шумном ночном толковише блатные лишили его доверия и изгнали из кодлы… Затеял все это дело один из новоприбывших — некто Баламут. Прозвище подходило к нему как нельзя более точно: тощий, сгорбленный, с обезьяньим, нервно дергающимся лицом, он беспрестанно шнырял по бараку и затевал всевозможные свары. Как-то раз во время картежной игры поссорился он и с Николой. Ссора вышла крупная. И вот тогда, бешено дергаясь и брызгая слюною, Баламут заявил, что Никола, по его убеждению, человек нечистый, с темной душой. Он произнес это во всеуслышание. Никола потребовал доказательств — и Баламут привел их… Общий ход его рассуждений был таков: блатные называют тюрьму «родным домом» именно потому, что там, как правило, они проводят половину жизни. Особенно характерно это для карманников! Любой ширмач — каким бы ни был он виртуозом — раз в год непременно попадает за решетку. При особом везении он может погулять на свободе года два… Но шесть лет — это неслыханно! Такого еще не бывало. Столь ловко выкручиваться можно только в том случае, если имеется контакт с милицейскими властями. Ну, а суть подобных контактов ясна… Как это ни прискорбно, в словах Баламута имелась определенная логика. Для того, чтобы поверить в Николу, нужно было знать все подробности его семейной жизни; а тех, кто знал это и мог за него поручиться, в нашем лагере почти уже не осталось. Одни из ребят погибли, сгинули, других угнали на этап. Я, как на грех, отлеживался тогда в больнице. И единственным, кто поднял голос в его защиту, был взломщик Солома. Он выступил на сходке, но безуспешно. Да и что он мог сделать один?!
Солома рассказал мне обо всем этом сразу же, как только я появился.
— Жалко Бурундука, — вздохнул он сумрачно. — Какого уркагана потеряли! Это ж был истинный аристократ — самой чистой масти…
— А где он сейчас? — забеспокоился я.
— В другом бараке, — сказал Солома. — Здесь он больше не живет, не захотел… И правильно, конечно.
— Ну, а этот ублюдок, — процедил я, стиснув челюсти, — этот чертов Баламут, кто он? Каков? Покажи-ка мне его.
— Да вот он, в углу, — проговорил, свешиваясь с нар, Солома. — Слышишь, скандалит! Как всегда.
Минуту спустя я стоял уже возле Баламута. Окруженный молодежью, он шумел, кипятился, что-то доказывал, размахивая руками.
— Вы — мелочь, камса, — кричал он. — Что вы знаете о Белозерском централе? Я был там в тридцать четвертом, когда большинство из вас под стол пешком ходили, Я ведь старый бродяга. Повидал кое-что. У меня борода в член упирается…
Последнюю эту фразу Баламут произнес особенно внушительно, хотя сам он был выбрит, безбров и абсолютно лыс. Вообще, определить его возраст было весьма трудно. На древнего старца он никак не походил, но и молодым тоже не казался…
Внимательно разглядывая его, я сказал:
— Не знаю, какая у тебя борода и во что она там упирается. Болтаешь ты во всяком случае много. Суетишься… делаешь волну…
Он стремительно повернулся ко мне; лицо его дернулось и перекосилось.
— Какую еще волну? — спросил он медленно.
— Есть такая притча. Стоят двое по горло в жидком дерьме, и один говорит другому: «Не делай волны!» Вот ты как раз делаешь ее… Уже сделал. Недавно.
Как всегда, в приступе ярости я испытал мгновенное чувство удушья — умолк, переводя дыхание, и добавил:
— Хочу тебя предупредить: ходи осторожно! Один твой неверный шаг — и я тебя съем, проглочу, как удав, усекаешь? Сожру с потрохами и только пуговицы буду потом выплевывать. Ты чуешь, о чем речь?
— Усекаю, — хрипло выговорил он, — чую… Ты ведь, кажется, друг того самого Бурундука?
— Не отрицаю, — сказал я.
— И что ж ты теперь хочешь — права качать со мной? Выяснять отношения?
— Да нет, — усмехнулся я, — чего тут выяснять? Все и так ясно… Просто решил посмотреть на тебя, познакомиться.
— И заодно — припугнуть, не так ли?
— Я не запугиваю, я предупреждаю — на всякий случай… Даю тебе добрый совет.
— Ну, без твоих советов я как-нибудь обойдусь, — покривился он. — И предупреждать меня тоже без пользы. Ты, конечно, собираешься квитаться, мстить за кореша… Но ведь не один же я все это сделал — на сходке было много ворья. Ты что же, попрешь против всех?
Вот так мы с ним схлестнулись и разошлись. Я понимал: первый этот раунд прошел неважно. По существу, я проиграл его. Наговорил лишнее, понапрасну раскрыл свой карты.
«Что ж, — решил я, — подожду удобного случая».
* * *
Вскоре я сидел уже в соседнем бараке — у Николы Бурундука. Изгнанный из кодлы, он лишился всех своих привилегий, перешел в разряд простых работяг и жил теперь с ними — в бригаде ремонтников. Он ютился на нижних нарах, неподалеку от входа. Здесь было неуютно, из-под забухшей, неплотно притворенной двери потягивало зябким сквозняком.
Кутаясь в рваное одеяло, Никола сказал:
— Как теперь жить? Что делать дальше?
— Брось, не паникуй, — проговорил я. — Еще можно все заново переиграть! Еще не вечер.
— Да, конечно, — он усмехнулся. — Не вечер — ночь уже… Поздняя ночь. Полярная!
— А я говорю — не паникуй! Будет сходка, я сразу подниму разговор. Я ведь о тебе и о Варьке слышал еще давно, на Дону. Солома, конечно, поддержит — ну и все. Будет порядочек. Переломим кодлу, вот увидишь!
Он как-то странно, искоса посмотрел на меня и затем сказал со вздохом:
— А надо ли? Есть ли смысл теперь переламывать?
— Что? — не понял я. — Погоди…
— Я вот о чем сейчас подумал, — медленно, глухо заговорил он. — На этом свете, видать, ничего не случается зря. Что Господь ни делает — все к лучшему. Я ведь из-за чего подзасекся, впросак попал? Из-за семьи… Вот и надо туда возвращаться. Домой, в тихую жизнь! Хватит — побродил, побезумствовал. Пора привыкать к фрайерской судьбе.
— А привыкнешь? — спросил я.
— Не знаю, — поежился он. — Пока еще во всяком случае не привык… Вот хожу на объект с работягами — вкалываю, рогами в землю упираюсь, а на душе муть, маята.
— Так чего ж ты? — упрекнул я друга. — Только путаешь меня, сбиваешь с толку. Если хочешь вернуть права…
— Говорю тебе — сам не знаю, не пойму. С одной стороны, фрайерская участь, конечно, не сахар. А с другой — так все же спокойней. Вот на этих нарах, — он крепко ладонью похлопал по шершавым нечистым доскам. — Здесь я тише проживу, надежнее. И дождусь свободы быстрее, чем в воровском бараке. Тут, конечно, голодно, а там сытно. Тут скучно — там весело. Но знаешь, какая этому веселью цена?
Он разыскал в изголовье кисет. Зашуршал бумагой, стал налаживать папиросу. И пока он закуривал, я глядел на него и думал о том, что вот уже второй человек — за недолгий сравнительно срок — приходит к тем же, в сущности, выводам, что и я. Сначала Леший, а теперь Никола — оба они, утомясь от блатной жизни и разочаровавшись в ней, решили порвать с уголовниками… А я все еще колеблюсь, путаюсь, не могу обрести в себе должной стойкости. Никола затянулся несколько раз и передал мне тлеющий окурок. Держа его кончиками пальцев, жмурясь от дыма, я сказал:
— Веселье наше — это верно — мутное. От него не смеяться хочется, а по-волчьи выть.
— Вот то-то, — заметил он. — Особенно в теперешние времена! У блатных, знаешь, как ведется? Сегодня жив, а завтра — жил…
Он еще хотел что-то сказать и не успел — застыл, уставясь на дверь. За ней раскатисто и хлестко ударили вдруг выстрелы. Прозвучала короткая автоматная очередь. Взлетел и пресекся чей-то истошный вопль. Потом мы услышали тишину, а вслед затем новую глухую очередь; Судя по всему, стреляли где-то в зоне, совсем близко.
Первая моя мысль была о восстании. «Неужели оно уже началось? — изумился я. — Странно. Вроде бы не вовремя… И почему же в таком случае никто меня не предупредил?»
Я выскочил, наружу, во тьму, и сразу же понял, что стрельба идет в моем веселом блатном бараке!
Дверь его была распахнута настежь, и на пороге спиною ко мне стоял человек с автоматом. Стоял и бил в глубину короткими очередями.
Но это был не солдат, не охранник, нет! Человек этот одет был в серый арестантский бушлат.
— Сука! — хрипло крикнул Никола, вывернувшись вдруг из-за моего плеча. Он выбежал на шум, не раздумывая, полураздетый, в накинутом на плечи одеяле.
— Сука! — крикнул он и покосился на меня. — Ты понимаешь? О, ч-черт… Вот как они теперь начали!
Крик этот совпал с короткими паузами между выстрелами. Человек, очевидно, услышал голос Николы и обернулся круто. И я увидел лицо Брюнета. (Это был друг того самого парня, что недавно работал в бане и теперь обвинялся в убийстве Гуся.)
Лицо Брюнета было искажено и словно схвачено застывшей судорогой. На месте глаз его виднелись пустые плоские бельма — остекленевшие, лишенные всякого выражения. Такие глаза мне встречались часто, я знал, что они означают! Брюнет явно был сейчас под марафетом. В таком состоянии человек пребывает как бы в полусне, но в то же время все его чувства обнажены и обострены до крайности…
Он стоял на свету, а мы в двух шагах от него под защитою ночи. Он не увидел нас, не разглядел, но среагировал на крик Николы мгновенно: повел стволом и нажал гашетку.
Я в эту секунду пригнулся — тащил из-за голенища ножик. Пуля прошла надо мной, чуть правее. Всего лишь одна пуля! Но голос друга моего как-то странно сорвался, захрипел, перешел в низкий булькающий клекот.
Никола шатнулся, оседая. Слабым жестом вскинул руки к горлу. Одеяло сползло с его плеч. И сейчас же я метнул в Брюнета нож.
Я метнул, но неудачно. Бросок получился неточным — слишком низким. Синеватое узкое лезвие сверкнуло, вертясь, и ударилось со звоном о ствол автомата. Теперь я оказался обезоруженным, беззащитным и, чувствуя это, отступил опасливо.
Я ждал стрельбы… Но ее не последовало. Брюнет торопливо спрыгнул с крыльца, отбежал к противоположному бараку и там, яростно матерясь, швырнул оружие в снег. Очевидно, автомат иссяк — в диске кончились патроны. А может, он просто спешил уйти — укрыться вовремя… Лагерь уже охватила тревога. Над зоной метались прожектора. Слышался гул голосов и топот бегущих сюда людей.
Я склонился к Николе. Он кончался. Глаза его остывали, подергивались тусклой пленкой. Губы — уже посиневшие и почти неживые — трудно двигались что-то шепча… Я приник к ним ухом и уловил еле слышное, легкое дуновение слов:
— А все-таки… Я умираю блатным… Ты говорил, что можно переиграть, — так исполни это! На помин души! Видишь сам, что творится… Разве я могу иначе? И расплатись с Баламутом — ладно? Сделаешь?
— Сделаю, — пробормотал я. — Все, брат, сделаю. Расплачусь — будь спокоен!
Но расплачиваться с Баламутом было уже ни к чему. Он погиб этой же ночью, скошенный автоматной очередью, вместе с другими обитателями моего веселого барака.
Ночная стрельба
(продолжение)
Обстоятельства, связанные с ночным этим происшествием, были вот каковы: после смерти Гуся и особенно после того, как обвинение в убийстве незаслуженно пало на одного из ссученных — на друга Брюнета, враги наши переполошились, их охватила паника. И вот тогда Брюнет поклялся отомстить блатным, отомстить жестоко и всем сразу. Вскоре он дождался удобного случая.
Суки, как известно, пользовались доверием администрации, были в контакте с ней, и кое-кто даже служил в лагерной самоохране и имел доступ к оружию. С помощью одного из таких вот самоохранников Брюнету удалось тайком заполучить автомат. Случилось это в полночь. Спрятав автомат под полою бушлата, Брюнет осторожно выскользнул из штабного барака, ворвался к блатным и с ходу с порога открыл яростную стрельбу.
Урки в этот момент не спали — шла большая игра. Игроки (их было несколько пар) располагались на полу возле печки. Вокруг них теснились любопытствующие. И здесь же, как обычно, кривлялся и мельтешил Баламут.
Все они полегли под пулями. Спаслись лишь те из блатных, кто находился по другую сторону печки — в дальнем конце барака.
Спасся, кстати, и знаменитый онанист Солома. Он ведь жил уединенно, ютился за занавеской и не принимал участия в общих развлечениях — ему с избытком хватало собственных, своих…
Тринадцать трупов за одну ночь — это было событие чрезвычайное! И хотя в лагерях за последние годы привыкли к крови, такое обилие ее встревожило всех. Дело дошло до Москвы. На пятьсот третью стройку срочно прибыла комиссия из министерства. Началось строжайшее расследование.
Брюнета и всех его друзей из самоохраны тотчас заковали и отправили в Красноярскую внутреннюю тюрьму. Одновременно были арестованы и надзиратели, дежурившие в зоне в ту роковую ночь.
Комиссия вообще действовала весьма решительно: лагерная администрация была перетасована и частично разогнана, а командный состав — полностью сменен.
А затем дошла очередь и до нас. По зоне пополз слушок о готовящемся массовом этапе. И вскоре то, о чем смутно поговаривали арестанты, подтвердилось. Однажды утром — на вахте во время развода — старший нарядчик зачитал список тех, кому надлежит готовиться к отправке. Список был большой и в нем — одним из первых — значилось мое имя.
В последний момент (когда этапируемые уже брели с вещами к воротам лагеря) я завернул в больницу к Левицкому. И вот какой произошел у нас разговоре
— Что ж, прощай, — проговорил, сдвигая брови, Костя. — Жаль, конечно. Нелепо как-то получилось. Главное — не вовремя.
— Нелепо, конечно, — сказал я, — хотя — как знать? Старый кореш мой, Никола Бурундук, говорил: «Что Господь ни делает — все к лучшему. Он больно бьет тех, кого сильно любит».
— Это какой же Никола? Тот, что был убит возле барака?
— Тот самый, — кивнул я.
— Ну, вот видишь, — скупо усмехнулся Левицкий, — видишь сам, какова цена этим изречениям? Да и вообще трудно, мой милый, рассчитывать на лучшее… Но все же имей в виду, старый уговор остается в силе.
Он пристально, остро, из-под нависших бровей глянул на меня, царапнул сощуренным глазом:
— Понимаешь? По первому сигналу… Мы надеемся.
— Но неизвестно ведь, куда нас теперь загонят, где мы окажемся.
— Неважно. Если в пределах стройки…
— Ладно, — кивнул я и спросил, понижая голос: — Скажи-ка, только честно. Эта ваша затея, по-твоему, реальна? Ты сам-то веришь в нее?
— А ты? — спросил он тотчас же. Я молча пожал плечами.
— Со своими ребятами ты уже говорил? — поинтересовался Костя.
— Только с некоторыми — с самыми близкими друзьями.
— Люди надежные?
— Еще бы, — сказал я. — Но погоди, ты мне так и не ответил…
— Что я могу тебе сказать, — наморщился он. — Я же человек маленький, подчиненный. Все зависит от главного штаба, а он далеко. Но вообще, если хочешь, я считаю, что все реально. Вполне реально! Последний случай это как раз подтвердил.
Он придвинулся ко мне, глаза его блеснули мрачным юмором:
— Знаешь, сколько времени прошло от начала стрельбы до того момента, когда была объявлена общая тревога?
— Ну, черт его знает. Ну, сколько? — затруднился я. — Ну, вероятно, немного…
— Двадцать с лишним минут, — торжествующе объявил Левицкий, — почти полчаса! В штабном бараке, оказывается, все дежурные спали. И спал даже один из часовых на вышке. А другой часовой — смех, ей-богу! — растерялся, услышав пальбу, ничего не понял, стал звонить на вахту, а там тоже спят. Ты понимаешь? Спят, как сурки… У них с вечера была грандиозная попойка — ну, и вот.
— Но теперь, — возразил я, — все будет иначе. Новая метла чисто метет…
— Пустяки, — отмахнулся Костя, — люди везде люди. Обживутся, привыкнут, и все вернется на круги своя. Да и не такая уж это метла новая! Прибывшие с комиссией мусора — старые северяне. Работали в Лабутнанге, в соседнем управлении. Нравы и привычки у всех у них одинаковые. Новый кум, как я уже выяснил, любит спирт… Стало быть, я ему буду нужен. А начальник лагеря — бабник. К этому мы тоже ключи подберем. Для почина, конечно, придется подсунуть ему Вальку…
— Д-да, Валька, — я вздохнул тягуче, — хорошая баба. Жалко ее… Где она, кстати?
— На главном складе. Сбегай — может, еще успеешь повидать.
На мгновение с какой-то сосущей, сладкой тоскою представил я себе эту женщину, ее дыхание, запах ее кожи. Метнулся было к двери… Но тут же понял: нет, нельзя! Лучше уйти так — не видя ее. Иначе потом воспоминание о ней не даст мне житья — одолеет в пути, заломает.
— Передай ей привет, — сказал я. — Пусть не забывает! И всем остальным передай тоже. Всем вашим: Оболенскому и Бороде, и Вите. Хотя Витя и не терпит меня… Я, между прочим, так и не понял: за что? И сейчас не понимаю. Что он, собственно, против меня имеет?
— Да нет, — устало сказал Левицкий, — он не против тебя — он вообще против всех блатных. Не любит их, что ж поделаешь? Но к тебе он за последнее время как раз неплохо стал относиться. Особенно после того, как я ему показал твои стихи.
— Какие стихи?
— Ну те, которые ты в тетрадку переписал. Помнишь?
Когда-то я, валяясь в больнице, действительно решил записать для памяти несколько новых стихотворений. Выпросил у Левицкого тетрадку. И потом, уходя, забыл ее, оставил на тумбочке в своей палате. Развернувшиеся затем события были столь катастрофичны и стремительны, что мне вообще стало не до стихов. Теперь, вспомнив о них, я проговорил небрежно:
— Чушь это все, старик, мура. Хотя, конечно… Слава Богу, что хоть Вите понравились.
— Не только Вите, но и мне, — ответил он веско. — Не прибедняйся, пожалуйста! Там есть запоминающиеся вещи, особенно среди миниатюр. Тебе вообще удаются лирические пейзажи. Ну, вот, например.
И он процитировал строки: «Выемка. Трещат морозы. След копытный — поутру… Видно, ночью ходят козы греться к нашему костру». Или вот еще: «Мгла смотрит на мою планету. И в оперении рассвета трепещут и звенят стволы трех сосен тонких, словно это — три с Марса пущенных стрелы!». Ей-богу — неплохо. Так что не пижонь, не кощунствуй.
Он умолк. И потом:
— Тетрадочку я сберег… возьмешь?
— Не знаю, — сказал я, — на штрафняке будет шмон — все равно ведь отберут. А впрочем, давай! Пригодится в дороге на курево.
— Ну, нет, — заявил он. — Если так, я ее себе оставлю. И знаешь, что я попробовал бы на твоем месте?
— Что же?
— Послал бы стихи в какую-нибудь редакцию…
— Да ты что, смеешься? Кому они интересны — мои пейзажи? Там своих стихоплетов навалом. Нужна им эта самодеятельность!
Я спорил, топорщился, возражал, но это все больше для виду. В действительности же разговор был приятен мне. При слове «редакция» у меня даже дух захватило… Все же я сдержался. И, помедлив, спросил безразличным, как мне казалось, голосом:
— И… куда же примерно ты бы послал?
— Куда угодно можно… Например — в Красноярск. В краевую газету, в местное отделение Союза писателей. Да Господи, вариантов множество!
— И ты думаешь, там заинтересуются стихами из лагеря?
— Зачем же из лагеря? — удивился Левицкий. — У меня на воле есть друзья, вот они и пошлют… Ну, как, — мигнул он, — согласен?
— Ладно, — сказал я, — попытайся, если успеешь. Мы ведь с тобой — как на вулкане. Сам понимаешь. Сегодня жив, а завтра — жил.
— Ну, мой милый, об этом лучше не задумываться, — сказал Левицкий. — Живи как солдат! Наперед не загадывай. Суждено пропасть — пропадешь, не отвертишься. Но покуда еще цел, делай свое дело. Прорывайся к удаче. Используй каждый шанс. А там, как судьба решит, все в ее руке.
— В данном случае, если говорить о стихах, то в твоей руке…
— Что ж, пожалуй, — рассмеялся Левицкий и положил на плечо мне сухую крупную ладонь. — Считай, что это тоже рука судьбы!
Мы обнялись на прощание, и я заторопился. Этап уже давно собрался на вахте, и, как только я появился, колонна дрогнула, загудела. Подскочил конвойный, щелкнул затвором и завопил, срывая голос, сыпля сверхъестественными словами:
— Шляешься, мать твою. Ждать заставляешь, так-рас-протак… и всяко… Станови-и-сь!
По острию ножа
Восемь суток гнали нас по тундре, по «черному» редколесью — к низовьям Енисея. Колонну сопровождал санный обоз. Впереди тащились розвальни с укрепленным на них пулеметом, сзади, замыкая шествие, ехало еще четверо саней. Там везли продукты, аптечку, все нехитрое имущество арестантов. И там же, в ворохе овчинных шуб, отсыпались, сменяясь, конвоиры.
Дни стояли мглистые, метельные. Под ногами, змеясь, шелестели поземки. По сторонам, в снежном молоке и дыму, маячили шаткие островерхие ели. И, бредя по сугробам, увязая в блескучих осыпях, и потом, ночуя в снегу у костра, я снова (в который раз уже) вспоминал стихи отца и твердил про себя строку из его давнего каторжанского цикла: «Нас гонит бич судьбы по дикому безлюдью…»
Куда мы идем? Куда, куда?… Никто не знал этого. Но было ясно, что место нам уготовано гиблое. Вокруг простиралась полярная пустыня, не потревоженная стройкой, не пахнущая людьми.
И когда на девятый день пути возникли впереди очертания лагеря, я содрогнулся, охваченный мрачными предчувствиями.
Штрафняк располагался на возвышенности, на крутом и голом прибрежном яру. Вблизи не видно было никакого жилья. Единственное здание, находящееся на воле, неподалеку от вахты, имело явно казарменный вид. Возле крыльца стоял запорошенный снегом грузовик. Глухо постукивал движок. (Лагерь, очевидно, имел собственную электростанцию.) Из-за угла тянулись провода, унывно позванивали на ветру и исчезали за кромкой еловой гривы. Около казармы, от угла к углу, прохаживался часовой в тулупе. Второй часовой помещался на крыше, там была сооружена площадка с прожекторами и спаренными пулеметами. И все эти пулеметы, и прожектора нацелены были на зону, туда, где за двойным рядом колючей проволоки копошилась густая воющая толпа.
Мы встречены были воплями, улюлюканьем, свистом.
— Ну, держись, малыш, — подмигнул мне Солома. — Попали мы с тобой в тентерь-вентерь. Это вот и есть то самое место, где девяносто девять плачут, а один смеется. Шпана тут озверелая, яростная. Штрафняк — одно слово! Хлебушек и табачок, видать, в лаковых сапожках гуляют.
* * *
Здесь мне суждено было провести зиму и лето — вплоть до следующей осени. Место это действительно оказалось таким, где «девяносто девять плачут…» Это выражение я знал давно, но лишь теперь понял истинный его смысл. Жизнь наша была скудна и страшна. Кормили нас впроголодь — держали на строгорежимном пайке, а иногда и вовсе не кормили… Дело в, том, что кухня, хлеборезка и прочие служебные помещения находились в стороне от лагеря — за лесом — верстах в пяти. Харчи доставлялись оттуда на санях. В непогоду, во время буранов дорогу переметало и снабжение на какое-то время прерывалось. Тогда зону охватывала смута: у вахты скоплялись сотни беснующихся, одичалых от голода людей. (В один из таких дней — после недавней метели — наш этап как раз и прибыл сюда!) Подобные случаи были нередки. И в бытность мою на этом штрафняке три раза дело доходило до серьезных столкновений с начальством; по зоне били пулеметы со сторожевых вышек и с казармы, поливали ее перекрестным огнем, рассеивая людские скопища и наводя порядок. Этим, впрочем, и ограничивалась деятельность администрации. В наши внутренние дела охрана не вмешивалась, на работу нас не гоняли. Мы были полностью предоставлены самим себе.
Лагерь был невелик и набит людьми до отказа. Блатные кишели здесь, как пауки в банке, и были столь же суетны и свирепы. Исполненные отчаяния и голодной тоски, напрочь отрезанные от остального мира, они постепенно утрачивали былую спайку и превращались в разномастный сброд. Кодла распадалась, привычные связи рушились. Взаимная вражда и беспрерывные ссоры становились явлением общим, обыденным. И нередко ссоры эти заканчивались поножовщиной… Резня между своими — это было делом неслыханным! Как-то раз мы с Соломой (а имя знаменитого, старого этого медвежатника пользовалось всеобщим уважением) созвали специально толковище и попробовали было урезонить штрафников — напомнить им о святых традициях… Но затея эта не удалась: нас просто не захотели слушать.
«В таких условиях, — размышлял я удрученно, — ни о какой поддержке восставшим и речи быть не может. Здешнюю охрану так просто с налета не возьмешь. Тут нужна организованная сила. А с этими подонками — что я могу? Если даже и будет дан мне сигнал, вряд ли я сумею сплотить их, подчинить общей идее».
Я не знал, когда и как дойдет до меня весть о восстании. И, честно говоря, не очень-то верил в него. Но все же ждал условленного сигнала. И часто думал о Косте Левицком и о всех его друзьях. «Что с ними? Как они там живут? — беспокоился я. — Да и живы ли они еще?»
За последнее время я крепко сблизился с политическими, сроднился с ними, и теперь мне не хватало их общества. С какой радостью я встретился бы вновь с Левицким или со Штильмарком! К сожалению (а вернее, к счастью, для него лично), Роберта на нашем штрафняке не оказалось. Как я выяснил, партия, в которой находились он, Профессор и грузинский князь, попала в иной лагерь. Тоже, в общем-то, строгорежимный, но все же в более пристойный, не такой жуткий, как этот. Там они, очевидно, осели, приспособились; ушли, как говорится, в камыш.
Они ушли, и единственной памятью о друзьях осталась книга Штильмарка, та самая, которую он вручил мне когда-то в начале нашего знакомства. На титульном листе, под заголовком «Оформление и производство газеты», значился автограф Роберта. А в нижнем углу страницы — рукою Профессора — изображена была фигурка человечка с растопыренными, ломаными черточками рук и согнутыми дугою ногами. Гигантскими падающими буквами под фигуркой было выведено: «канай!», что на жаргоне означает: «иди!»
Как это не удивительно, книгу во время обыска не отобрали, оставили мне. Охранников, вероятно, смутило то обстоятельство, что это учебник по журналистике. А ведь журналистика у нас — дело сугубо партийное!
Итак, я пронес учебник в зону. И долгое время (валяясь на нарах в затхлом бараке среди всеобщей брани и сумятицы) читал эту книгу, разглядывал ее и старательно, от нечего делать заучивал газетные обозначения и термины.
Фраза Роберта о том, что журналистика — путь в литературу, запомнилась мне накрепко. И также запали мне в душу прощальные слова Левицкого: «Покуда цел — делай свое дело, прорывайся к удаче!» В сущности, оба они говорили об одном… Они верили в меня! И за это я был им благодарен.
* * *
Я ждал хоть какой-нибудь весточки от Левицкого… И дождался в конце концов.
В первый раз это случилось на исходе зимы — после масленицы.
Масленица, кстати сказать, ознаменовалась у нас очередной голодовкой. На сей раз виною всему был не буран, а традиционный этот праздник. Перепившаяся администрация попросту забыла о нас. И опять бесновалась и выла у вахты толпа, и снова били по зоне пулеметы. И долго потом лежали в предзоннике трупы заключенных, сваленные там грудою, как дрова. Убитых было пятеро, раненых же — вдвое больше. И вот, несмотря на то, что лагерь наш, судя по всему, был лагерем смертников (недаром его и соорудили в такой глуши, в стороне от жилья!), несмотря на это, пострадавшим все же оказали необходимую помощь. (На сей счет, очевидно, существовали какие-то специальные инструкции.) Откуда-то прибыли вдруг лекари, санитары, и в зоне — в течение недели — действовал открытый медпункт.
Среди прибывших к нам врачей оказался один дантист. К нему-то я и обратился, мучимый зубами. Последнее время они сильно донимали меня, не давали житья. Я несколько раз скандалил, добиваясь врача, подавал заявления, однако все было безрезультатно. Теперь я наконец решил воспользоваться случаем! Дантист — маленький, сухощавый, в железных очках — аккуратно записал мое имя, фамилию. Усадил на лавку. И затем привычным движением раздвинул мне пальцами губы.
— У вас, мой друг, — сказал он, — не столько зубы болят, сколько десны… Ярко выраженный скорбут.
— Это что ж такое?
— Ну, говоря попросту, цинга.
— Ай-ай, — встревожился я. — Этого только не хватало! И чем же скорбут лечат?
— Витаминами, — усмехнулся он, — свежими фруктами, овощами…
— Вы что, — нахмурился я, — смеетесь?
— Конечно! — он дернул плечами. — А что еще остается? Но если уж говорить серьезно, то я посоветовал бы вам хвойный отвар. Приготовлять его несложно. Я распоряжусь. Напиток это малоприятный, но принимать его надо обязательно. Учтите — обязательно! У вас уже начинают шататься некоторые зубы.
— Вот они-то, вероятно, и ноют, — заметил я. — Сколько их?
— Да немало, — он еще раз заглянул в рот — покопался там. — Вот… И здесь тоже… Итого, ровным счетом, шесть!
— Круглая цифра, — пробормотал я, отплевываясь и кряхтя.
Все это время в помещении толкались санитары. Теперь они вышли, и мы с врачом остались вдвоем. И тогда, вплотную приблизив ко мне лицо, он проговорил с особой внятностью:
— Есть еще и другая круглая цифра — восьмерка!
— Восьмерка? — повторил я, невольно привстав.
— Сидите, сидите, — шепнул он строго. — Вам привет от Левицкого.
— Ну, что он? Как? — заторопился я. — Как вообще дела?
— Как обычно, — ответил врач уклончиво. — Многого я вам не могу сообщить, не уполномочен. Но есть одна новость, которую он меня специально просил передать вам. Специально! Ваши бумаги уже отправлены. Ушли по назначению — в Красноярск!
— Какие бумаги? — не понял я. — Погодите… — Но тут же я сообразил, в чем дело; очевидно, речь шла о моих стихах. — Эта новость от Кости?
— Да, да. Именно от него.
— И больше он ничего не хотел мне передать?
— Пока нет. Ну а в дальнейшем будет видно… Ждите!
— Послушайте, — сказал я. — Нельзя ли как-нибудь наладить постоянную связь? Вы же сами понимаете, какая тут обстановка. В данном случае нам с вами — если так можно выразиться — повезло… Но ведь рассчитывать на подобные эксцессы нелепо! Неужели у вас нет какого-либо надежного способа?
— Есть, — ответил он. — А как же! — оглянулся на дверь, поджал губы. — Возчик, который привозит сюда продукты, — наш человек… Шепните ему свой код. Назовите цифру.
И уже другим голосом (потому что в комнате опять появились сторонние лица) сказал, протирая тряпочкой окуляры:
— Хвойный отвар — весьма действенное средство! Но учтите: употреблять его надо регулярно. Без кривляния, без фокусов. Регулярно! Иначе никаких жалоб мы принимать не будем.
* * *
Следующее известие дошло до меня нескоро. И принес его не возчик, а начальник нашего лагеря.
Он явился в зону поздним вечером, сопровождаемый многочисленной свитой из надзирателей. Все они были явно под хмельком.
Штрафников выгнали из бараков — собрали у вахты. И здесь, надсаживаясь от крика, начальник объявил нам о том, что группа заключенных, повинных в подпольной антисоветской деятельности, недавно особым совещанием приговорена к высшей мере социальной защиты — расстрелу!
Ему подали бумагу. И, загораживаясь ладонью от косых солнечных лучей (было уже лето, давно наступил полярный день, и над горизонтом, не затмеваясь, бессонно кружило косматое сплющенное светило), загораживаясь и морщась, он зачитал имена приговоренных.
Среди них оказались все мои друзья из цээрэмовского комитета: Левицкий и Борода, и Витя, и старый переводчик, и потомок опальных князей Оболенских, и зубной врач — тот самый, с которым я виделся недавно… Перечень этот занял немало времени. Начальник зачитал список до конца. И добавил с перепойной натугой:
— Приговор приведен в исполнение! Вот так. Сделайте из этого выводы для себя.
Население лагеря в эту ночь долго не могло успокоиться: известие, принесенное начальником, взбудоражило всех. Блатных прежде всего поразил сам факт существования на нашей стройке активного политического подполья. О нем ведь, по сути дела, не знал никто — помимо меня, Соломы и еще троих надежных урок из ЦРМ, с которыми я успел потолковать в свое время… И покуда шпана гудела и волновалась, обсуждала услышанное, мы — все пятеро — собрались на моих нарах в углу, в затишье. Уединились там и тоже предались размышлениям. Как это произошло? Почему? По какой причине? Вероятно, их кто-то предал, настучал. А может быть, случилось именно то, что я предсказывал с самого начала: каким-то образом все их списки попали в чужие руки…
— Но ты уверен, уверен в том, что наших имен там не было? — спросил тогда Солома.
— Ну, во-первых, — сказал я, — если б они там были, то нас бы здесь уже не было!
— Пожалуй, — раздумчиво покивал Солома, — это резонно.
— Единственный, кто значился в списках, я сам! Правда, не под своим именем, а под шифром… Ни имени, ни клички я, слава Богу, им не дал, вымарал, чуть не перессорился со всеми.
— А все же поберегись, — проворчал один из урок по прозвищу Седой. — Чем черт не шутит? Вдруг кто-нибудь да раскололся… Они, фрайера, народ на расправу жидкий.
— Эх, браток, ты этих ребят не знал, — сказал я. — Какие были люди! Кремень! Нет, в них я уверен. Да и как, собственно говоря, теперь беречься?
— Ну, хотя бы не отзывайся на шифр, — сказал Солома. — Вообще забудь о нем. Понял? И не вздумай обращаться к этому возчику. Может быть любая провокация… Имя, допустим, следствию неизвестно, но ведь цифра-то в списках есть! И стоит она там под литерой «у» — уголовник. Вот на эту цифру и будут тебя ловить как на крючок.
— О, проклятье! — я даже застонал. — Ну почему, почему у меня такая доля? С самого начала, с сорок седьмого года, за мною ходит по пятам то сучий нож, то новая статья… И срок-то небольшой, и осталось сидеть совсем немного — и все равно, все равно… Ни минуты отдыха, ни единого просвета!
— А ведь и верно, — протяжно сказал Солома. Тебе же, малыш, скоро освобождаться!.. Сколько еще осталось?
— Немного, — отмахнулся я, — боюсь говорить. Никола Бурундук вот также размечтался о свободе, а через десять минут под пулю угодил.
— Да-а, — пробормотал Седой. — Чума прав, конечно. Наша жизнь как генеральские погоны — без просветов.
— Или как в сказке, — прибавил кто-то. — Чем дальше, тем страшней.
— Или как в самолете, — сказал Солома. — Тошнит, а не вылезешь.
— Или же как картошка, — заключил я. — Если сразу не съедят, потом опять посадят.
* * *
До окончания моего срока оставалось действительно немного — всего лишь год! Свобода приближалась, брезжила… И все же я с каким-то суеверным упорством избегал о ней говорить и даже думать. Да, да, даже думать о ней я порою боялся — и неспроста!
Я ведь шел все время по краю беды, по самому краешку, по острию ножа… Балансировал на этом острие и в любой момент мог оступиться, сорваться.
В конце сентября, когда уже полыхал, осыпаясь, полярный осинничек и багровели редкие кущи берез, и в синеве — над поймами Енисея — тянулись и таяли лебединые косяки, в эту пору штрафняк наш внезапно и странно преобразился.
Если раньше нас морили голодом, то теперь вдруг начали кормить до отвала. Трехсотграммовую пайку отменили, хлеба стали давать вволю (большую буханку на двоих!). Изменился и приварок. Вместо прежней жиденькой болтушки из отрубей появилась (причем в изобилии!) густая перловая баланда и овсяная каша. Штрафной истребительный лагерь как бы превратился в санаторий.
Раздобревшие, опухшие от еды и безделья, блатные слонялись по зоне и недоумевали: что же, собственно, творится? Может быть, Сталин решил объявить всеобщую амнистию и это — первый знак грядущих благостных перемен? Или, может, в стране изменилась власть? Сталин умер, и пришло новое правительство? Разговоров на этот счет было множество. Догадки высказывались самые фантастические. Большинство склонялось к мысли о новом правительстве. И только старые, матерые урки не разделяли общих восторгов.
— Вот увидите, — пророчествовал Солома, — это все не к добру! Тут какой-то подвох… Какая-то подлость… Не может быть такого правительства, чтобы оно зазря кормило! Этот овес еще нам боком выйдет, ребятишки.
И он, поднося ко рту ложку с кашей, недоверчиво, с опаской поглядывал на нас.
* * *
И однажды утром штрафняк опустел; нас повели к реке, погрузили в крытые баржи… Спустя неделю мы были уже в Дудинском порту — вблизи Карского моря. И только там наконец-то поняли, в чем дело: этап наш, оказывается, предназначался для отправки на Новую Землю — в угольные шахты!
На полярном этом острове (расположенном в Ледовитом океане, за семидесятой параллелью) условия были таковы, что выдерживал их не каждый. Там требовались крепкие руки. Людей для новоземельных рудников отбирала особая комиссия. И нас, как выяснилось, откармливали специально для нее!
Не только я один, все тогда были в панике. Все понимали, что Новая Земля — это конец! Для тех, кто попадал на этот остров, возврата назад уже не было. Не могло быть.
Нужно было как-то спасаться. Но как? Я не знал… Зато друзья мои сообразили сразу.
В сущности, единственной причиной, по которой комиссия могла отвергнуть любого из нас (несмотря на наши сытые лоснящиеся морды), была болезнь. Особенно болезнь инфекционная, заразная. И вот блатные в спешном порядке стали превращаться в сифилитиков и чахоточных.
Делается это в общем-то просто. Для того, чтобы получился, например, сифилис, необходимо прижечь горящей папиросой член — самую головку… В итоге образуется язвочка. Ну а все остальное зависит уже от актерского мастерства! Этим способом как раз и воспользовался Солома. Я же не рискнул, пожалел себя и предпочел имитацию туберкулеза: насосал из десен кровь и потом беспрерывно плевался в присутствии начальства, хрипел, задыхался, хватался за грудь. Некоторые из блатных изображали эпилептиков, бились в припадках; это тоже весьма эффектно. Нужно только не забывать пускать изо рта пену; для этого вполне годится простое банное мыло.
Конечно, будь у комиссии больше времени в запасе, она, без сомнения, разобралась бы во всем. Но возиться с нами, дожидаться результатов анализов она уже не могла. Осень кончалась; с Карского моря накатывали низкие, седые, отягченные снегом тучи. Наступила пора предзимних штормов. А здешние широты славятся ими…
В результате почти половина нашего этапа спаслась от беды — осталась на материке. Остался и я. На этот раз мне повезло!
И вскоре опять я сидел в барже, в закрытом и смрадном трюме. И снова вокруг меня бурлила шпана. И опять я терялся в догадках, не зная, куда на этот раз меня гонит судьба. И не мог, не смел поверить в близкое свое освобождение…
Я поверил в него лишь тогда, когда караван наш прибыл в Красноярск — на пересылку.
Здесь я провел все последние месяцы, причем сравнительно тихо.
Растеряв почти всех своих старых друзей, я уже не тянулся к новым, держался особняком. Все последнее время общался я в основном с одним только Соломой. От него я не скрывал ничего. Он был единственным из здешних блатных, кто мог меня понять по-настоящему. (Недаром же, не зря являлся он, по его собственным словам, ценителем Есенина!)
И я сказал ему как-то в поздний час за кружкой чифира:
— Знаешь, дружище… С меня хватит. Первый мой шаг на свободу — и я уже не блатной!
— Но что ж ты будешь делать? — наморщился он.
— Попробую писать… Может, получится.
— А если нет?
Я ничего не ответил на это. Да и что я мог ему сказать? Я ведь и сам не был ни в чем уверен.
— Ну, а если не получится, — настойчиво проговорил Солома, — тогда как же? Литература — дело темное, путаное. Там многое от везения зависит, от того, какая выпадет карта. И выбиваться там нелегко! Взять того же Есенина…
— Однако он выбился!
— Но ты же не Есенин.
— Почем знать, — усмехнулся я. — Да и вообще, дело не в этом. Просто я дальше так не могу. Не хочу. Нет сил. Понимаешь?!
— Стало быть, ты точно завязываешь?
— Да…
— Кому-нибудь уже говорил об этом?
— Пока только тебе.
— И правильно, — кивнул Солома, — помалкивай. Покуда звонок не прозвенел, сиди тихо, не залупайся.
— Но почему? — возмутился я. — Почему я должен молчать? Ведь завязать — честно завязать — по нашему закону имеет право каждый блатной?
— Что закон! — он уныло махнул рукой. — Что закон! Времена теперь не прежние. Жестокие времена, настают. В нынешних условиях кто не с нами — тот против… Тебя могут упрекнуть в том, что ты отрекаешься от блатной веры в самый трудный момент, попросту говоря, предаешь нас всех… И что ты на это возразишь?
— Трудно возразить, — поежился я.
— Вот то-то! Потому я и говорю: не спеши… Когда нужно будет, я сам объявлю блатным.
Он помолчал в задумчивости. Заглянул в кружку. Шумно отхлебнул из нее, отдулся. И поднял на меня глаза:
— И потом… Мы же еще не сделали дела! Ты забыл про Николу Бурундука? Помнишь его последнюю просьбу? Или нет — забыл?
— Ну, что ты, — забормотал я в замешательстве. — Как ты мог подумать? Конечно, не забыл, все помню!
Но я действительно забыл… И теперь оправдывался со стыдом.
И так до последнего дня, до самого «звонка» был я прикован к кодле, не мог развязаться с блатными. Восстановить Николу в правах оказалось нелегкой задачей… Но все же я справился с ней. Сделал это — на помин его души! Были и другие дела; все они обсуждались на общих шумных сходках. И я высидел там до конца. Лишь в январе 1952 года (за день до моего освобождения) состоялось толковище, на котором я уже не мог присутствовать; речь шла обо мне! Решалась моя судьба… И покуда она решалась, я слонялся под окнами воровского барака и с тревогою, с беспокойством прислушивался к долетающим оттуда голосам.
Толковище было долгим и бурным, и закончилось оно неожиданно.
На пороге появилась сутулая фигура Соломы. Длинное лицо его морщилось, лунообразный рот улыбался. Поманив меня пальцем, Солома сказал:
— Взойди-ка, голубок, в помещение.
И когда я взошел, он небрежно мотнул головой, указывая в угол:
— Вот смотри. Это для тебя!
В углу пестрой грудою были навалены тряпки — костюмы, сапоги, свитера. Тут же топорщился раздутый, набитый под завязку, мешок. Поглядывая на него, я спросил растерянно:
— Это что? Зачем?…
— А затем, что ты теперь не блатной, — сказал Солома. — Ты же сам говорил: «Первый мой шаг»… Так вот, пусть этот твой шаг будет спокойным.
— Но куда мне столько?!
— Не захочешь носить — продашь! Барахлишко нынче в цене… Главное, чтобы ты по дороге не нашкодил — не засекался по пустякам. Гореть теперь тебе нельзя. Играй чисто, малыш, играй чисто.
И что-то, очевидно, заметив в моем лице, Солома добавил строго, почти угрожающе:
— Не смей отказываться. Бери все! Сходка решила…
— Что же она решила?
— Она решила: быть тебе поэтом!
Париж, 1969–1972 гг.